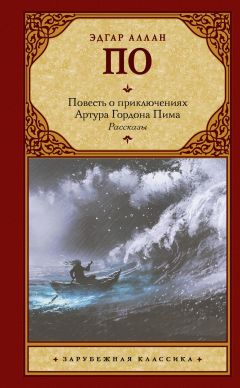
Автор книги: Эдгар По
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
У Августа, без сомнения, были веские причины предупредить, чтобы я оставался в убежище, и я строил тысячи предположений на этот счет, но ни одно не давало удовлетворительного объяснения тайне. Сразу же поело последней вылазки к люку и до того, как мое внимание переключилось на странное поведение Тигра, я пришел к решению сделать так, чтобы меня во что бы то ни стало услышали наверху, или, если это не удастся, попытаться прорезать ход наверх через нижнюю палубу. Доля уверенности в том, что в случае крайней необходимости я сумею осуществить одно из этих намерений, придавала мне мужество вынести все беды (в противном случае оно покинуло бы меня). Однако несколько слов, которые я успел прочитать, окончательно отрезали мне оба пути к отступлению, и сейчас я в первый раз вполне постиг безвыходность моего положения. В припадке отчаяния я упал на матрац и пролежал пластом около суток в каком-то оцепенении, лишь на короткие промежутки приходя в себя.
В конце концов я снова очнулся и задумался над своим ужасным положением. Ближайшие двадцать четыре часа я еще смогу кое-как продержаться без воды, но дольше меня не хватит. В первые дни моего заключения я довольно часто потреблял горячительные напитки, которыми снабдил меня Август, но они только возбуждали нервы и ни в какой мере не утоляли жажду. Теперь у меня оставалось всего лишь с четверть пинты крепкого персикового ликера, которого решительно не принимал мой желудок. Колбасы я все съел, от окорока сохранился только небольшой кусок кожи, а сухари сожрал Тигр, за исключением одного-единственного, да и от того осталось только несколько крошечных кусочков. В довершение к моим бедам с каждым часом усиливалась головная боль и повышался лихорадочный жар, который мучил меня в большей или меньшей мере с того момента, когда я в первый раз забылся сном. Последние несколько часов мне было трудно дышать, и сейчас каждый вдох сопровождался болезненными спазмами в груди. Но было еще одно обстоятельство, причинявшее мне беспокойство, обстоятельство особого рода, и именно его тревожные последствия и заставили меня побороть оцепенение и подняться с матраца. Я имею в виду поведение моего Тигра.
Какую-то перемену в нем я заметил еще тогда, когда в последний раз растирал крупицы фосфора на бумаге. Он сунул морду к моей движущейся руке и негромко зарычал, но я был слишком взволнован в тот момент, чтобы обращать на него внимание. Напомню, что вскоре после этого я бросился на матрац и впал в своего рода летаргический сон. Через некоторое время, однако, я услышал у себя над ухом свистящий звук – это был Тигр. Он весь дергался в каком-то крайнем возбуждении, дыхание со свистом вырывалось у него из пасти, зрачки яростно сверкали во тьме. Я что-то сказал ему, он тихонько заскулил и затих. Я снова забылся и снова был разбужен таким же манером. Это повторялось раза три или четыре, пока, наконец, поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно проснулся. Он лежал у выхода ящика, угрожающе, хотя и негромко рыча и щелкая зубами, как будто его били судороги. У меня не оставалось сомнения, что он взбесился из-за недостатка воды и спертого воздуха трюма, и я положительно не знал, как мне быть. Мысль о том, чтобы убить его, была нестерпима, и все же это казалось абсолютно необходимым для собственной безопасности. Я отчетливо различал его глаза, устремленные на меня с выражением смертельной враждебности, и каждое мгновение ожидал, что он кинется на меня. В конце концов я не выдержал чудовищного напряжения и решил выйти из ящика во что бы то ни стало; если же Тигр воспрепятствует мне, я буду вынужден покончить с ним. Для того чтобы выбраться наружу, я должен, был перешагнуть через него, а он как будто уже разгадал мои намерения: поднялся, опираясь на передние лапы (я заметил это по тому, как изменилось положение его глаз), и оскалил белые клыки, которые легко можно было разглядеть во тьме. Я сунул в карманы остаток кожи от окорока, бутылку с ликером, взял большой охотничий нож, который оставил мне Август, и, как можно плотнее запахнувшись в плащ, шагнул было к выходу. Едва я двинулся с места, как собака с громким рычанием кинулась вперед, чтобы вцепиться мне в горло. Всем весом своего тела она ударила меня в правое плечо, я опрокинулся на левый бок, и разъяренное животное перескочило через меня. Я упал на колени и зарылся головой в одеяла – это и спасло меня. Последовало второе бешеное нападение, я чувствовал, как плотно сжимались челюсти на шерстяном одеяле, которое окутывало мою шею, и все же, к счастью, его острые клыки не прокусили складки насквозь. Пес навалился на меня, – через несколько секунд я буду в его власти. Отчаяние придало мне энергии, и, собрав последние силы, я скинул с себя собаку и поднялся на ноги. Одновременно я быстро стянул с матраца одеяла, накинул их на пса, и, прежде чем он успел выпутаться, я выскочил из ящика и плотно захлопнул за собой дверцу, избежав таким образом преследования. В момент схватки я выронил кожу от окорока, и теперь все мои запасы свелись к четверти пинты ликера. Как только эта мысль промелькнула у меня в сознании, на меня вдруг что-то нашло; как избалованному ребенку, мне захотелось во что бы то ни стало осуществить свою вздорную затею, и, поднеся бутылку ко рту, я осушил ее до капли и со злостью швырнул на пол.
Едва замер треск разбившейся бутылки, как я услышал свое имя, произнесенное со стороны помещения для команды настойчивым, но приглушенным голосом. Настолько неожиданно было что-либо подобное, так напряглись все мои чувства при этом звуке, что я не смог отозваться. Я лишился дара речи, и в мучительном опасении, что мой друг уверится в моей смерти и вернется на палубу, бросив поиски, я выпрямился между клетями близ входа в мой ящик, содрогаясь всем телом, ловя ртом воздух и силясь выдавить хоть слово. Даже если бы мне обещали тысячу жизней за один звук, то и тогда я не смог бы произнести его. Где-то впереди между досками послышалось движение. Вскоре звук стал слабее, потом еще слабее и еще. Разве можно когда-нибудь забыть, что я почувствовал в тот миг? Он уходил… мой друг… мой спутник, от которого я вправе ожидать помощи… он уходил… неужели он покинет меня?.. Ушел!.. Ушел, оставив меня умирать медленной смертью, оставил угасать в этой ужасной и отвратительной темнице… а ведь одно-единственное слово… едва слышимый шепот спас бы меня… но я не мог произнести ни звука! Я испытывал муки в тысячу раз страшнее самой смерти. Сознание у меня помутилось, мне стало дурно, и я упал на край ящика.
Когда я падал, из-за пояса у меня выскользнул нож и со звоном стукнулся об пол. Самая волшебная мелодия не показалась бы столь сладостной! Весь сжавшись от напряжения, я ждал, услышал ли Август шум. Поначалу все было тихо. Потом раздался негромкий неуверенный шепот: «Артур?.. Это ты?..» Возродившаяся надежда вернула мне дар речи, и я закричал во всю силу моих легких: «Август! Август!» – «Тише! Молчи ты, ради бога, – ответил он дрожащим от волнения голосом. – Сейчас я приду… Вот только проберусь здесь». Я слышал, как он медленно двигался между грудами клади, и каждая секунда казалась мне вечностью. Наконец я почувствовал у себя на плече его руку, и он тотчас поднес к моим губам бутылку с водой. Лишь тот, кто стоял на краю могилы или познал нестерпимые муки жажды, усугублявшиеся такими обстоятельствами, в каких находился я в этой мрачной темнице, – лишь тот способен представить себе неземное блаженство, которое я испытал от одного большого глотка самой чудесной жидкости на свете.
Когда я отчасти утолил жажду, Август вытащил из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я тут же с жадностью проглотил. Он принес с собой также летучий фонарь, и его теплый свет доставил мне, пожалуй, не меньшее наслаждение, чем еда и вода. Однако же мне не терпелось узнать причину затянувшегося отсутствия моего друга, и он приступил к рассказу о том, что произошло на судне во время моего заточения.
4
Как я и думал, бриг снялся с якоря приблизительно через час после того, как Август принес мне часы. Это было двадцатого июня. Напомню, что к тому моменту я находился в трюме уже три дня; все это время на борту царила суматоха, люди бегали взад и вперед, особенно в салоне и каютах, так что Август не имел никакой возможности навестить меня, не рискуя раскрыть тайну нашего люка. А когда мой друг наконец спустился в трюм, я заверил его, что все обстоит наилучшим образом, и потому следующие два дня он почти не беспокоился за меня, ища тем не менее случай заглянуть в убежище. Такой случай выпал лишь на четвертый день. Все это время он неоднократно порывался рассказать отцу о нашем предприятии и вызволить меня, но мы сравнительно недалеко отошли от Нантакета, и по некоторым замечаниям, оброненным капитаном Барнардом, вряд ли можно было заключить, что он не повернет судно, как только обнаружит меня на борту. Кроме того, у Августа – как он говорил – не возникло предположения, что я в чем-нибудь нуждаюсь, и он знал, что в случае крайней необходимости я тут же дам о себе знать. Поэтому по зрелом размышлении он заключил, что мне лучше остаться здесь до тех пор, пока у него не появится возможность навестить меня незамеченным. Я уже сообщил, что такая возможность появилась только на четвертый день после того, как он оставил мне часы, или на седьмой – после того, как я укрылся в трюмо. Он не взял ни воды, ни провизии, намереваясь просто позвать меня к люку, а уж затем передать мне из каюты запасы. Когда он сошел вниз, то по громкому храпу понял, что я сплю. Из соответствующих сопоставлений я пришел к выводу, что как раз в это время я забылся тяжелым сном после моей вылазки к люку за часами и что, следовательно, мой сон длился по меньшей мере целых три дня и три ночи. Из собственного недавнего опыта и рассказов других я имел основания убедиться в том, какое сильное усыпляющее действие оказывает зловоние, распространяемое рыбьим жиром в закрытом помещении; и когда я думаю о жутких условиях, в которых я пребывал, и длительности срока, в течение которого брит использовался в качестве китобойного судна, я склонен скорее удивляться тому, что, однажды заснув, я вообще проснулся, нежели тому, что проспал без перерыва указанное выше время.
Сперва Август позвал меня шепотом, не закрывая люк, однако я не ответил. Тогда он опустил крышку и позвал меня громче, потом полным голосом – но я продолжал храпеть. Он не знал, что ему делать. Пробираться к моему ящику сквозь завалы в трюме отняло бы довольно много времени, а между тем его отсутствие могло быть замечено капитаном Барнардом, который имел обыкновение поминутно пользоваться услугами сына для сортировки и переписывания деловых бумаг, связанных с рейсом. Поэтому он подумал, что лучше вернуться и подождать другого случая. Он шел на это с тем более легким сердцем, что спал я, по видимости, как нельзя более безмятежно, и он не мог предположить, что я испытываю особые неудобства от заключения. Как только он принял это решение, внимание его привлекло какое-то движение и шум, доносившийся, очевидно, из салона. Он быстро выскользнул из люка, закрыл крышку и распахнул дверь своей каюты. Едва он переступил порог, как чуть ли не в лицо ему грянул выстрел, и в то же мгновение его свалил с ног удар вымбовкой.
Чья-то сильная рука прижала его к полу, крепко стиснув ему горло, и все же он мог разглядеть, что происходит вокруг. Связанный по рукам и ногам, на ступеньках трапа лежал вниз головой его отец, и из глубокой раны на лбу непрерывной струей лилась кровь. Из груди его не вырывалось ни звука, он, очевидно, кончался. Над капитаном со злорадной усмешкой наклонился первый помощник и, хладнокровно вывернув ему карманы, достал большой бумажник и хронометр. Семь человек экипажа (среди них был кок-негр) рыскали по каютам вдоль левого борта и скоро вооружились ружьями и патронами. Кроме Августа и капитана Барнарда, в салоне находилось всего девять человек, причем из числа самых отъявленных головорезов на судне. Затем негодяи стали подниматься на палубу и повели с собой моего друга, предварительно связав ему за спиной руки. Они направились прямо на бак, который был захвачен бунтовщиками: у закрытого входа стояли двое с топорами, и еще двое дежурили у главного люка. Помощник капитана крикнул: «Эй, вы, там, внизу! Слышите?.. А ну, вылезайте поодиночке… И чтоб никаких штучек!» Прошло несколько минут, затем показался англичанин, который записался на корабль необученным матросом, – он хныкал и униженно умолял помощника капитана пощадить его. В ответ последовал удар топором по голове. Бедняга без единого стона упал на палубу, а кок-негр легко, точно ребенка, поднял его на руки и рассчитанным движением выбросил за борт. Матросы, оставшиеся внизу, услышали удар и всплеск воды; теперь ни угрозами, ни посулами невозможно было заставить их подняться на палубу, и кто-то предложил выкурить их оттуда. Тогда несколько человек разом выскочили наверх, и в какой-то момент казалось, что они одолевают бунтовщиков. Последним, однако, удалось плотно закрыть дверь кубрика, так что оттуда успели выбежать только шесть матросов. Поскольку у этих шестерых не было оружия и противник превосходил их числом, то после короткой схватки они вынуждены были уступить силе. Помощник капитана обещал их помиловать, рассчитывая, разумеется, побудить оставшихся внизу тоже сдаться, ибо они слышали каждое слово, сказанное на палубе. Результат подтвердил его хитрость, равно как и дьявольскую жестокость. Вскоре все, находившиеся в кубрике, изъявили готовность сдаться и стали один за другим подниматься наверх; их тут же связывали и опрокидывали на пол рядом с первыми шестью матросами – оказалось, что двадцать семь человек в бунте не замешаны.
Затем началась поистине чудовищная бойня. Связанных матросов волочили к трапу. Здесь кок топором методически ударял каждого по голове, а другие бунтовщики скидывали несчастную жертву за борт. Таким образом было убито двадцать два человека, и Август уже считал себя погибшим, каждую минуту ожидая своей очереди. Но негодяи то ли устали, то ли пресытились кровавым зрелищем, во всяком случае расправа над четырьмя пленниками и моим другом, которые тоже лежали связанными на палубе, была временно отложена, а помощник капитана послал вниз за ромом, и вся эта компания убийц начала попойку, которая длилась до захода солнца. Между ними разгорелся спор о том, что делать с оставшимися в живых, которые находились тут же, шагах в пяти, и слышали каждое слово. Изрядно выпив, некоторые бунтовщики, казалось, подобрели. Стали даже раздаваться голоса о том, чтобы освободить пленников при условии, если они примкнут к ним и будут участвовать в дележе добычи. Однако чернокожий кок (который во всех отношениях был сущим дьяволом и который, очевидно, имел такое те влияние на других, как и сам помощник капитана, если даже не большее) не желал ничего слышать и неоднократно порывался возобновить побоище у трапа. По счастью, он был настолько пьян, что его без труда удерживали менее кровожадные собутыльники, среди которых был и лотовой, известный под именем Дирка Петерса. Этот человек был сыном индианки из племени упшароков, которое обитает среди недоступных Скалистых гор, неподалеку от верховий Миссури. Отец его, кажется, торговал пушниной или, во всяком случае, каким-то образом был связан с индейскими факториями на реке Льюиса. Сам Петерс имел такую свирепую внешность, какой я, пожалуй, никогда не видел. Он был невысокого роста, не более четырех футов восьми дюймов, но сложен как Геркулес. Бросались в глаза кисти его рук, такие громадные, что совсем не походили на человеческие руки. Его конечности были как-то странно искривлены и, казалось, совсем не сгибались. Голова тоже выглядела какой-то несообразной: огромная, со вдавленным теменем (как у большинства негров) и совершенно плешивая. Чтобы скрыть этот недостаток, вызванный отнюдь не старческим возрастом, он обычно носил парик, сделанный из любой шкуры, какая попадалась под руку, – будь то шкура спаниеля или американского медведя-гризли. В то время, о котором идет речь, на голове у него был кусок медвежьей шкуры, который сообщал еще большую свирепость его облику, выдававшему его происхождение от упшароков. Рот у Петерса растянулся от уха до уха, губы были узкие и казались, как и другие части физиономии, неподвижными, так что лицо его совершенно независимо от владеющих им чувств сохраняло постоянное выражение. Чтобы представить себе это выражение, надо вдобавок принять во внимание необыкновенно длинные, торчащие зубы, никогда, даже частично, не прикрываемые губами. При мимолетном взгляде на этого человека можно было подумать, что он содрогается от хохота, но если вглядеться более пристально, то с ужасом обнаружишь, что если это и веселье, то какое-то бесовское. Об этом необыкновеннейшем существе среди моряков Нантакета ходило множество историй. Некоторые касались его удивительной силы, которую он проявлял, будучи в раздраженном состоянии, а иные вообще сомневались, в здравом ли он уме. Но на борту «Дельфина» в момент бунта он, по-видимому, был всего лишь предметом всеобщего зубоскальства. Я так подробно остановился на Дирке Петерсе потому, что, несмотря на кажущуюся свирепость, именно он помог Августу спастись от смерти, а также и потому, что я буду часто упоминать о нем в ходе моего повествования, которое – позволю себе заметить – в последних своих частях будет содержать происшествия, настолько несовместимые с областью человеческого опыта и в силу этого настолько выходящие за границы достоверности, что я продолжаю свой рассказ без малейшей надежды на то, что мне поверят, однако в стойком убеждении, что время и развивающиеся науки подтвердят наиболее важные и наименее вероятные из моих наблюдений.
После долгих колебаний и двух-трех яростных ссор было решено усадить всех пленников (за исключением Августа, которого Петерс словно бы в шутку настоятельно пожелал иметь при себе в качестве клерка) в какой-нибудь малый вельбот и пустить по воле волн. Помощник капитана сошел в салон посмотреть, жив ли капитан Барнард: его, как вы помните, бунтовщики бросили там, когда поднялись на палубу. Вскоре появились оба, капитан бледный как смерть, но немного оправившийся от раны. Едва слышным голосом он обратился к матросам, убеждая их не бросать его в море и вернуться к исполнению своих обязанностей, а также обещая высадить их на сушу, где пожелают, и не передавать дело в руки правосудия. Но то был глас вопиющего в пустыне. Двое негодяев подхватили его под руки и столкнули через борт в лодку, которую успели опустить на воду, пока помощник капитана ходил в кают-компанию. Четырем матросам, лежавшим на палубе, развязали руки и приказали следовать за капитаном, что они и сделали без малейшей попытки к сопротивлению, но Августа по-прежнему оставили крепко связанным, хотя он бился и молил только об одном – чтобы ему разрешили попрощаться с отцом. В лодку передали горсть морских сухарей и кувшин с водой, но пленники не получили ни мачты и паруса, ни весел, ни компаса. Несколько минут, пока бунтовщики о чем-то совещались, лодка шла за кормой на буксире, затем веревку обрубили. Тем временем спустилась ночь, на небе не было ни луны, ни звезд, шла опасная короткая волна, хотя ветер был умеренный. Лодка мгновенно пропала из виду, и вряд ли можно было питать надежду на спасение несчастных, находившихся в ней.
Это произошло на 35°30’ северной широты и 61°20’ западной долготы, то есть сравнительно недалеко от Бермудских островов. Поэтому Август старался утешить себя мыслью, что лодке удастся достичь суши или подойти достаточно близко к островам и встретить какое-нибудь судно.
Затем на бриге поставили все паруса, и он лег на прежний курс на юго-запад: бунтовщики, очевидно, задумали разбойничью экспедицию, намереваясь, наверное, захватить какое-то судно, идущее с островов Зеленого Мыса в Порто-Рико. Никто не обращал никакого внимания на Августа – ему развязали руки и разрешили находиться на передней части корабля, но не подходить, однако, близко к салону. Дирк Петерс обращался с ним довольно мягко, а однажды даже спас его от жестокого кока. И все же положение Августа было отнюдь не безопасным, ибо бунтовщики пребывали в состоянии постоянного опьянения и полагаться на их хорошее настроение или безразличие было нельзя. Однако более всего Августа, как он сам рассказывал, мучило беспокойство обо мне, и я не имею оснований сомневаться в его дружеской верности. Он не раз порывался раскрыть смутьянам тайну моего пребывания на борту, но его удерживала отчасти мысль о зверствах, свидетелем которых он имел несчастье быть, а отчасти надежда на то, что ему как-нибудь удастся в скором времени облегчить мое положение. Он был ежеминутно начеку, но, несмотря на постоянное бдение, минуло целых три дня, как бунтовщики бросили в открытом море вельбот, прежде чем выпал удобный случай. В ночь на четвертый день с востока налетел жестокий шторм, и все матросы были вызваны наверх убирать паруса. Воспользовавшись замешательством, Август незаметно спустился вниз и проник в свою каюту. Каково же было его горе и смятение, когда он обнаружил, что ее превратили в склад съестных припасов и корабельного хозяйства и что огромную, в несколько саженей, якорную цепь, которая была сложена под сходным трапом в кают-компанию, перетащили сюда, чтобы освободить место для какого-то сундука, и теперь она лежала как раз на крышке люка! Сдвинуть ее, не обнаружив себя, было решительно невозможно, и он поспешил вернуться на палубу. Когда он появился наверху, помощник капитана схватил его за горло, потребовав отвечать, что он делал в каюте, и хотел перекинуть его через поручни, но вмешательство Дирка Петерса снова спасло Августу жизнь. Ему надели наручники (каковых на судне было несколько пар) и крепко связали ноги. Затем моего друга отвели на нижнюю палубу и заперли в каюту для команды, примыкающую к переборке бака, со словами, что нога его не ступит на палубу, «пока бриг называется бригом». Так выразился кок, швырнув его на койку, – трудно угадать, что именно он хотел сказать. Однако это происшествие, как вскоре станет очевидным, в конечном счете способствовало моему освобождению.
5
Какое-то время после ухода кока Август предавался отчаянию, окончательно оставив надежду выйти из этой дыры живым. Он пришел к решению, что первому человеку, который спустится сюда, он скажет, где я нахожусь, считая, что мне лучше пойти на риск и оказаться пленником у бунтовщиков, нежели погибнуть от жажды в трюме, ибо со дня моего заключения прошло уже десять дней, а запас воды в моем кувшине был рассчитан от силы на четыре. Покуда он размышлял, его внезапно осенила мысль, нельзя ли попробовать снестись со мной через главный трюм. В других обстоятельствах трудности и риск, связанные с этим предприятием, заставили бы его отступиться, но сейчас – что бы ни случилось – у него у самого было немного шансов выжить, следовательно, терять было нечего, и он твердо решил осуществить свой замысел.
Первой заботой были наручники. Сперва ему показалось, что их не снять, и он расстроился, что с самого начала возникло непреодолимое препятствие, однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что с некоторым усилием протискивая сложенные ладони сквозь браслеты, последние можно безболезненно снять с руки и надеть при желании снова, – очевидно, этот вид наручников был не приспособлен для подростков, ввиду тонкости и гибкости их костяка. Затем он ослабил веревку на ногах, оставив на ней петлю, чтобы быстро затянуть ее снова в случае чьего-либо появления, и принялся осматривать переборку, у которой находилась койка. В этом месте она была составлена из мягких сосновых досок толщиною в дюйм, и он убедился, что без особого труда проделает в ней отверстие. В этот момент с трапа, ведущего на бак, раздался голос, и едва он успел протиснуть правую руку в браслет (левый он не снимал) и затянуть веревку скользящим узлом вокруг лодыжек, как спустился Дирк Петерс в сопровождении Тигра, который тут же вспрыгнул на койку и улегся на ней. Собаку привел на судно Август, который знал мою привязанность к животному и решил, что мне будет приятно иметь его при себе во время путешествия. Он пошел ко мне домой за собакой сразу же после того, как спрятал меня в трюме, но забыл сказать мне об этом, когда принес часы. С того момента как вспыхнул бунт, Август не видел Тигра и решил, что его вышвырнул за борт какой-нибудь негодяй из числа дружков помощника капитана. Впоследствии выяснилось, что собака забилась под вельбот, но не могла вылезти назад без посторонней помощи. Петерс выпустил его и с каким-то доброжелательством, которое мой друг вполне оценил, привел к нему в кубрик для компании; оставив, кроме того, кусок солонины, несколько картофелин и кружку с водой, он поднялся наверх, обещав прийти на следующий день и принести что-нибудь поесть.
Когда тот ушел, Август стянул с рук браслеты и освободил от веревки ноги. Затем он откинул изголовье матраца, на котором лежал, и перочинным ножом (негодяи не сочли нужным обыскать моего друга) принялся усиленно резать поперек одну из досок в переборке как можно ближе к настилу. Он выбрал именно это место потому, что в случае внезапной помехи он мог быстро скрыть свою работу, опустив матрац на прежнее место. Остаток дня его, однако, никто не тревожил, и к вечеру он полностью перерезал доску. Здесь следует заметить, что никто из команды не использовал кубрик для сна, ибо с момента мятежа все постоянно находились в кают-компании, попивая вина и пируя за счет запасов капитана Барнарда и не заботясь, более чем это было абсолютно необходимо, о том, чтобы вести корабль. Это обстоятельство оказалось исключительно благоприятным как для меня, так и для Августа: в противном случае он не смог бы до меня добраться. Но дело обстояло именно так, и Август с рвением продолжал работу. Однако лишь незадолго до рассвета он закончил вторую прорезь в доске (находившуюся выше первой примерно на фут), проделав, таким образом, отверстие, которое было достаточно велико, чтобы с легкостью пролезть на нижнюю палубу. Он прополз сквозь отверстие и без особого труда добрался до главного нижнего люка, хотя для этого ему пришлось карабкаться на бочки для ворвани, которые ярусами возвышались чуть ли не до верхней палубы, так что там едва оставалось пространство, чтобы двигаться вперед. Он достиг люка и увидел, что Тигр следовал за ним понизу, протискиваясь между двумя рядами бочек. Было, однако, уже слишком поздно, он не успел бы пройти ко мне до зари, ибо главная трудность заключалась в том, чтобы пробраться сквозь тесно уложенную кладь в нижнем трюме. Он решил поэтому вернуться и дождаться следующей ночи, но предварительно попробовал приоткрыть люк, чтобы не терять времени, когда он придет сюда. Едва он приподнял крышку, как Тигр бросился к щели, принялся нюхать и протяжно заскулил, одновременно скребя лапами и как бы пытаясь сдвинуть доски. Собака, без сомнения, почувствовала мое присутствие в трюме, и Август подумал, что она наверняка разыщет меня, если спустится вниз. Тогда-то Августу и пришла мысль послать мне записку с предупреждением, чтобы я не пытался выбраться наверх, во всяком случае при нынешних обстоятельствах, а полной уверенности, что сумеет повидать меня завтра, как он предполагал, у него не было. Последующие события показали, какой счастливой была эта мысль: не получи я записки, я неизбежно выискал бы какое-нибудь, пусть самое отчаянное, средство поднять на ноги всю команду, в результате чего и его и моя жизнь оказались бы, вероятнее всего, под угрозой.
Решение о записке было принято, но чем и на чем писать? Старая зубочистка была тотчас переделана в перо, причем на ощупь, потому что между палубами царил кромешный мрак. Бумага тоже нашлась – вторая страница письма мистера Росса, вернее дубликат подделки. Это был первоначальный вариант, не удовлетворивший Августа из-за недостаточного сходства почерков, и он написал другой, а первый по счастливой случайности сунул в карман, где он сейчас весьма кстати и обнаружился. Теперь недоставало только чернил, но и здесь нашлась замена: Август перочинным ножом уколол палец как раз над ногтем, и из пореза, как это обычно и бывает от повреждений в этом месте, обильно выступила кровь. Итак, записка была написана, насколько это вообще можно было сделать в темноте и в этих условиях. В ней коротко говорилось, что на бриге вспыхнул мятеж, что капитан Барнард оставлен в море, что я могу рассчитывать на помощь по части съестного, но никоим образом не должен обнаруживать свое присутствие. Записка заканчивалась словами: «Пишу кровью… Хочешь жить, не выходи из убежища».
Привязав листок бумаги к собаке и спустив ее по ступенькам в трюм, Август поспешил обратно в кубрик и никаких признаков того, что кто-нибудь из экипажа заходил сюда в его отсутствие, там не обнаружил. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он вогнал в доску над ним нож и повесил куртку, валявшуюся в каюте. Затем он надел наручники и обвязал веревкой ноги.
Едва он успел закончить эти приготовления, как в кубрик спустился Дирк Петерс, совершенно пьяный, но в отличнейшем настроении, и принес моему другу дневной паек. Он состоял из дюжины больших печеных картофелин и кувшина воды. Он уселся на ящик возле койки и принялся разглагольствовать о помощнике капитана и вообще о делах на судне. Держался он как-то неровно и непонятно. Один раз Августа даже смутило его странное поведение. Наконец он ушел, пробормотав, что завтра принесет пленнику хороший обед. Днем пришли еще два члена команды – гарпунщики – в сопровождении кока, причем все трое в состоянии совершенного опьянения. Как и Петерс, они, не таясь, говорили о своих намерениях. Оказалось, что среди бунтовщиков возникли серьезные разногласия относительно конечной цели путешествия и что они пришли к единодушному мнению лишь в одном пункте – напасть на судно, идущее с островов Зеленого Мыса, которое они ожидали встретить с часу на час. Насколько можно было понять, бунт вспыхнул не только из-за добычи – главным подстрекателем был первый помощник капитана, затаивший личную обиду на капитана Барнарда. Теперь, как явствовало, команда разделилась на две основные группы: одну возглавлял помощник капитана, другую кок. Те, что были с помощником капитана, предлагали захватить первый подходящий корабль и, снарядив его где-нибудь на островах Вест-Индии, пуститься в разбойничье плавание. Вторая группа, более многочисленная и включавшая Дирка Петерса, стояла на том, чтобы следовать первоначальному маршруту в южную часть Тихого океана, а там либо заняться китобойным промыслом, либо предпринять что-нибудь еще, смотря по обстоятельствам. Рассказы Петерса, который часто ходил в эти широты, очевидно, имели успех у бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и жаждой развлечений. Он распространялся о том, какой новый и увлекательный мир откроется перед ними на бесчисленных островах Тихого океана, как они будут наслаждаться полной безопасностью и свободой от всех ограничений, и особенно восхвалял благодатную природу, богатую и легкую жизнь и чудную красоту женщин. И все же к согласному решению на судне пока не пришли, хотя картины, нарисованные полукровкой, завладели разгоряченным воображением моряков, и, по всей вероятности, его рассказы в конце концов могли возыметь действие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































