Текст книги "Грехи аккордеона"
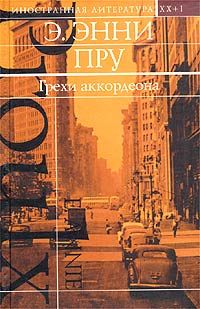
Автор книги: Эдна Энни Пру
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Адская жара
В поезде, который вез его обратно в Прэнк, было невыносимо: зной распаханной прерии, удушающее одеяло жары, плотное, словно клей, воздушное марево – кукуруза сохла прямо на глазах, и пыльная корка покрывала обочины дорог. Грубая обивка сиденья раскалилась. Распухшие яички Бетля начали пульсировать, и меньше чем через час давление туго натянутой материи брюк уже невозможно было вынести. Он попытался шагать взад-вперед по проходу, но приходилось так широко расставлять ноги, что все на него оглядывались. Когда поезд добрался до Прэнка, он был готов упасть на землю – почти без чувств, с выпученными глазами. Он все же пытался смотреть этими воспаленными шариками, но небо переворачивалось вверх тормашками, и птицы скользили по нему, словно мухи по стеклянному полу. В Прэнке кондуктор вытащил его на перрон и сдал на руки Перси Клоду, который флегматично дожидался отца, прячась в тени навеса и болтая покрасневшими руками.
– Что-то не то с вашим стариком, Перси Клод. Ходит, будто у него в жопе кукурузный початок. На твоем месте я бы показал его доктору.
Доктор Дилтард Кюд, длинноногий человек, владевший солидным пакетом акций «Америкэн Телефон энд Телеграф», вышел из дому, бросил взгляд на зашитые яички, затем на воспаленные полосы, тянувшиеся от паха к животу и вниз к почерневшим бедрам, сказал: инфекция, гангрена, ничего не сделаешь, нужно везти домой, уложить, как можно удобнее в этой проклятой жаре, пристроить на поднос кусок льда и установить вентилятор так, чтобы воздух шел ото льда на больного, затем – ничего не поделаешь – дожидаться конца. Перси Клод не стал говорить, что они без электричества не смогут установить вентилятор.
Тридцать часов Бетль пролежал на диване, не в состоянии открыть глаза. Он чувствовал, когда кто-то заходил в комнату. По всему телу разливался звон, обжигающий и жужжащий. Он хотел пошевелиться, но не мог. Он хотел крикнуть «der Teufel [57]57
Дьявол (нем.).
[Закрыть]!», но слова застревали в горле. Однако страшно не было, только очень интересно – он явственно слышал хрипловатые звуки «Deutschland, Deutschland» так, словно там, куда он уходил, его наконец-то ждала настоящая немецкая аккордеонная музыка. На памятнике его имя написали неправильно – Ганс Буттл. Но так их называли в округе, и Перси Клод решил, что пусть так и будет.
Промашка Чарли Шарпа
В первой трети сентября скорректированная цена «Радио» добралась до 505 за каждую из дважды разделенных акций; оставшиеся после Бетля сто акций стоили больше пятидесяти тысяч долларов. Перси Клод встал, разогнул спину, примерно час побродил вокруг дома, затем вернулся, сел рядом с Грини и рассказал ей все как есть.
– Ты знаешь, Vater Ганс оставил кое-какие акции. Он занимался биржей через Чарли, Чарли Шарпа. Там немало.
– Сколько? – Она поднесла спичку к сигарете и выпустила дымок через напудренные ноздри.
– Да немало. – Ему не нравились курящие женщины, но он ничего ей не говорил. Волосы у нее были подстрижены – обрублены, думал он, – густые прямые пряди резко обрезаны самых у мочек. И, похоже, она что-то сделала с грудью, стала какой-то плоской.
– А что если бросить эту чертову ферму и переехать Де-Мойн? Какой смысл торчать здесь? Я так давно мечтаю о Де-Мойне.
– Только не надо повторять за этой ненормальной Флэминг Мэйм. Ты совсем не думаешь о Mutti [58]58
Мама (нем.).
[Закрыть].
– Ей понравится в городе – там много пожилых дам, всегда есть чем заняться, будет ходить в кино, научится играть в маджонг. Покрасит волосы, приоденется немного. Господи, Перси Клод, скажи, ну пожалуйста, мы переедем в Де-Мойн? Я так устала от этого старого корыта, так надоело чистить эти вонючие керосиновые лампы. Во всем Прэнке без электричества только мы.
– Я не говорю «да» и не говорю «нет». Очень многое нужно сделать. – Но из продуктовой лавки он позвонил Чарли и сказал, что хочет продать акции.
– Господи, Перси Клод! Не сейчас! Только не сейчас! Они поднимаются! Акции снова разделят, у тебя будет в два раза больше. На твоем месте я бы ни за что не продавал, я бы покупал новые, нужно распределять капитал. Я уже давно присматриваюсь к «Ротари Ойл».
– Нет, я их, пожалуй, все же продам. Подумываю о том, чтобы выставить на продажу ферму – возможно, мы переедем в Де-Мойн.
– Послушай, если уж переезжать, то в Чикаго. Ты не поверишь, это такой город. Это самый важный город, здесь живут самые большие люди, и отсюда, из самого сердца страны, управляют всем. Восточные миллионеры уже не в вертят этот мир. Эй, ты слушаешь по радио «Банду Рокси»? Вчера вечером был Эл Джолсон[59]59
Эл Джолсон (1886 – 1950) – популярный в 30-е годы певец и эстрадный актер.
[Закрыть]. Я тебе скажу, вот это номер.
– Нет. У нас нет этой станции. И все же я буду их продавать.
– Перси Клод, ты себя хоронишь. Вспомнишь мои слова, когда они вырастут выше крыши.
– Я так решил.
– Подумай, как следует подумай, Перси Клод.
Меньше чем через месяц биржа рухнула и покатилась вниз, но Перси Клод лишь посмеивался. Каждый день он ходил к почтовому ящику проверять, не пришел ли чек от Чарли. В конце концов он позвонил из ему продуктовой лавки, намереваясь спросить, послал ли тот чек заказным письмом, но на другом конце провода никто не ответил, лишь зудели гудки, снова и снова, до тех пор, пока не подключился оператор и не велел ему повесить трубку. Новость дошла кружным путем только к середине октября: дочь Лотца получила письмо от Шарпов из Техаса. Чарли Шарп, потеряв в Чикаго все, что имел, включая доставшиеся в наследство Перси Клоду акции «Радио», которые он так и не продал, выстрелил себе в голову. Он выжил, но разнес нос, рот, зубы и нижнюю челюсть – на ободранном мясе остались только два безумных голубых глаза. Смотреть без ужаса на него невозможно, так что они привезли его в Техас и держат в полутемной комнате. Он не может говорить, а кормят его через трубку.
– Знаешь, Перси Клод, – по телефону сказала Рона Шарп после того, как подтвердила, что все так и есть, да, это, конечно, очень печально и даже трагично, но ведь есть и светлая сторона, ведь теперь Чарли обратился к Иисусу, ведь ясно видна связь, правда? – Здесь дают бесплатно целый ящик помидоров, когда заливаешь машину бензином. Вам обязательно нужно сюда переехать.
Не обращаясь к посредникам, Перси Клод продал ферму какой-то паре из Огайо, но их банк рухнул до того, как он успел получить по чеку деньги. У пары остались в руках документы, а у него – бесполезный чек. Теперь он был беднее, чем Бетль сорок лет назад.
– Я поеду в Техас и убью Чарли Шарпа, – сказал он Грини. Но вместо этого они отправились в Де-Мойн, где после трехнедельных поисков Грини нашла работу в «Пять-на-Десять»[60]60
Сеть магазинов, торгующих спортивно-туристским инвентарем.
[Закрыть], а он подписал контракт с дорожностроительной бригадой Коммерческой кредитной ассоциации.
(Но не их ли сын Роули, рожденный несколько лет спустя на заднем сиденье машины, собрал по кускам дедову ферму, добавил к ней три тысячи акров пашен, построил поле для гольфа, стал хозяином механической мастерской, плиточной и кульвертной фабрик, а еще вошел на паях во владение сырным производством, получая одновременно двадцать тысяч в год из фонда государственной дотации фермерам? Не тот ли самый Роули открыл на свои деньги музей пионеров-фермеров Прэнка, перерыл землю и небо, нанял частных детективов, чтобы найти старый зеленый аккордеон своего деда? И не продолжались ли эти поиски осенью 1985 года, когда Роули с женой Эвелин отправились в честь двадцать пятой годовщины свадьбы в парк Йеллоустоун, где Роули уронил пленку от фотоаппарата в гейзерный бассейн «Западный палец», наклонился за ней, потерял равновесие и упал головой в кипящий ключ, но, несмотря на обваренные до полной слепоты глаза и знание о неминуемой смерти, все же выбрался – оставив на каменном бордюре, словно красные перчатки, кожу своих рук – однако, лишь для того, чтобы тут же упасть в другой, еще более горячий источник? А как же иначе.)
КУСАЙ МЕНЯ, ПАУК

Маленький однорядный аккордеон
И не смотри на меня так
Великий аккордеонист, а по совместительству уборщик посуды Абелардо Релампаго Салазас – это он в Хорнете, Техас, майским утром 1946 года, перевернувшись незадолго после восхода солнца в собственной кровати, вдруг почувствовал, что умирает, а, может, и умер уже. (Несколько лет спустя, когда он действительно умирал в той же самой кровати, он ощущал себя поразительно живым.) Чувство было не сказать чтобы неприятным, но с оттенком сожаления. Сквозь ресницы он видел кроватные шарики из чистого золота, а в окне – трепетное прозрачное крыло. Его омывала небесная музыка и голос, чистый и умиротворяющий, – голос, которого он не слыхал ни разу, пока был жив.
Прислушавшись, он вернулся к жизни и сообразил, что кроватный шарик позолотило солнце, а крыло ангела было всего лишь развевающейся занавеской. Музыку играл его аккордеон, но не четырехрегистровый двухрядный «Маджестик» с инициалами АР на белом перламутре, а другой, особенный, маленький девятнадцатикнопочный двухрядный аккордеон с очень редким голосом. К которому никому, кроме него, не позволено прикасаться! И все же он лежал и слушал – несмотря на протестующие позывы переполненного мочевого пузыря и разгоравшийся жар нового дня. Голос принадлежал его почти взрослой долговязой дочери – голос, которого он никогда не слышал, если не считать басовитого жужжания, что издавала эта замарашка, бродя по дому. Он был уверен, что девчонка умеет играть разве что нескольких элементарных аккордов, хотя вот уже четырнадцать лет она была его дочерью, и сто раз у него на глазах забавлялась с маленьким «Лидо» своих братьев. Когда ему узнавать детей, если он почти не бывает дома? Сыновья, да – они музыканты. Он злился еще и от того, что именно дочь вдруг оказалась исключением. Этот удивительный голос, исходивший из самого верха носоглотки, печальный и вибрирующий, словно вобрал боль всего мира. Он вспомнил старшего сына, Кресченсио, бедного покойного Ченчо, начисто лишенного музыкального слуха и похожего на робкого пса, что боится сделать шаг вперед. Какая потеря! Должно быть, дьявол, а не Бог послал в его сон эту музыку. Тот самый дьявол, что вот уже целый век водит за нос людей, пряча в труднодоступных местах ископаемые кости. Абелардо злился еще и потому, что девчонка терзала главное сокровище его жизни.
Не вставая с кровати, он прокричал:
– Фелида! А ну иди сюда! – и прикрыл голову подушкой, чтобы дочь не видела его растрепанных волос. Громкое шебуршание и выдох аккордеона. Она вошла в комнату и остановилась, отвернув лицо в сторону. Руки пусты.
– Где зеленый аккордеон?
– В футляре. В передней.
– Чтобы ты никогда больше к нему не прикасалась. Не смей даже открывать футляр. Ты слышишь меня?
– Да. – Она сердито повернулась и, сгорбившись, ушла в кухню.
– И не смотри на меня так! – прокричал он.
Он думал о дочери. Как хорошо она пела! Он слушал ее, но и не слышал. М-да, но когда она научилась играть? Вне всякого сомнения, глядя и слушая его игру, она восхищается своим отцом. А что если устроить сенсацию, взять ее с собой на выступление, представить им свою дочь, пусть видят, как щедро одарил Господь всех его детей – кроме Чинчо, конечно. Но даже когда он воображал себе эту прелестную картинку: себя в темных брюках и пиджаке, в белой рубашке и белых туфлях, и Фелиду в роскошном отороченном кружевами платье, которое Адина шила сейчас для девочки на quinceñera[61]61
Праздник пятнадцатилетия. По традиции мексиканских общин пятнадцатилетняя девочка считается взрослой, поэтому пятнадцатый день рождения отмечается с особенной пышностью.
[Закрыть] – ay, сколько же оно будет стоить! – и как Фелида выступает вперед и поет своим изумительным голосом – куда там Лидии Мендосе[62]62
Лидия Мендоса (р. 1916) – известная мексикано-американская певица.
[Закрыть] – вот вам новая gloria de Tejas [63]63
Слава Техаса (исп.).
[Закрыть], даже тогда будущее упрямо корчилось у темной боковой дорожки, на глухой тропе событий.
Мимо проехал автобус, наполнив комнату гулом, словно эхом от взорвавшейся канализации. Абелардо встал, закурил сигарету, поморщился от боли в правом бедре и, скосив глаза, откинул назад волосы. Как это у него получается – целый день мотаться взад-вперед на работе, а потом еще полночи играть? Не считая обычных дел с agringada [64]64
Американизированная (исп.).
[Закрыть] женой. Мало кто вынесет такую жизнь, думал он. По крайней мере, с таким мужеством.
Однако он был уже на ногах, и, как всегда в это время, в голове звучала музыка – грустноватая неровная полька, похожая на «La Bella Italiana»[65]65
Прекрасная итальянка (исп.).
[Закрыть] в исполнении Бруно Вилларела[66]66
Бруно Вилларел – полуслепой музыкант, один из пионеров мексикано-американской аккордеонной музыки, стиля «конхунто».
[Закрыть]. Всю жизнь он наслаждался своей внутренней музыкой – иногда это были несколько фраз из никому неизвестного ranchera [67]67
Ранчера – вид народного танца.
[Закрыть] или вальса, иногда разыгранная нота за нотой huapango [68]68
Гуанпаго – музыкальная пьеса в мексиканском стиле.
[Закрыть] или полька, которую он играл сам или слышал, как играют другие. Время от времени возникали совсем незнакомые мелодии, новые никогда не звучавшие пьесы – внутренний музыкант работал всю ночь, пока Абелардо спал.
У двери, на небольшом трюмо лежали приспособления, с помощью которых он тщательно укладывал длинные пряди волос, стараясь замаскировать лысеющую макушку. На затылке и висках волосы были очень длинными, и сейчас, ранним утром, отражение в зеркале напоминало покрытого паршой античного пророка. Он расчесал локоны деревянным гребнем, искусно расположил на голове каждую прядь и закрепил ее для надежности заколкой. Возня с прической неплохо успокоила нервы, и он запел: «Не ты ли это, моя луна, проходишь мимо дверей…» Его целью была пышная шевелюра, но посторонние люди, взглянув на эту высокую прическу, иногда – на секунду – принимали его за женщину. А незнакомцы попадались ему часто, поскольку он работал в ресторане «Сизый голубь» – не официантом, а всего лишь уборщиком посуды. «Сизый голубь» располагался в Буги – городке чуть южнее Хорнета, где раньше стоял старый дом Релампаго, и где они когда-то жили. Сейчас он сидел за кухонным столом, слушал звяканье кастрюль, Фелида подогревала молоко для его любимого caf con leche[69]69
Кофе с молоком (исп.).
[Закрыть], Бобби Труп тянул по радио припев «66-го тракта»[70]70
Бобби Труп (1918 – 1999) – американский певец и автор песен. «66-й тракт» – самая известная его мелодия.
[Закрыть], потом комментатор с заговорил о забастовке шахтеров и федеральных войсках, что-то еще про коммунистов, все те же старые песни – Абелардо вздохнул с облегчением, когда Фелида выключила приемник. Нужно торопиться.
Он был невысок, на мясистом лице выдавалась челюсть. Маленькие глубокие глазки, темно-русые брови изогнуты дугой (он приглаживал их чуть смоченным слюной пальцем), а над ними, словно панель, высокий лоб цвета фруктового дерева. Короткая шея уничтожала всякую надежду на элегантность. Руки у него были толстыми и мускулистыми, чтобы лучше, как он говорил, сжимать аккордеон, а кисти заканчивались сильными, но тонкими пальцами, умевшими двигаться очень быстро. Не слишком стройный торс, короткие тяжелые ноги, так же густо заросшие волосами, как и грудь. Тяжелый – это слово приходило на ум Адине при взгляде на его обнаженные бедра.
Беспокойный и порывистый – его лицо меняла каждая фраза, идея или мысль, что рвалась наружу. Он сам придумывал себе прошлое – взамен того, которого никогда не существовало. Ничем не примечательные события он превращал в истории, мелкие неприятности вырастали до истинных драм, а голос раздувал их еще сильнее. Dios [71]71
Господи (исп.).
[Закрыть], удивлялись официанты и растерянные дети, как можно столько говорить, наверное во младенчестве его укололи иголкой от «Виктролы».
Но были в его жизни моменты, которых он никогда не смог бы описать словами: когда, словно птицы в общем полете, сливаются вместе голоса, и по телу слушателя пробегает счастливая дрожь. Или когда музыка бьет из инструмента, словно кровь из вскрытой артерии, а танцоры, захлебываясь этой кровью, топают ногами, сжимают скользкие руки партнеров и кричат во все горло.
Его голос возбужденно бросался от верхних нот к нижним, иногда делая глубокие паузы для эффекта – для звукового эффекта. Когда он не говорил, он пел, собирая вместе слова и музыку: «Спи-засыпай, моя прекрасная Адина, и черный волос твой на беленькой подушке, должно быть полная луна тебя к моей постели привязала». Хотя размер ноги у него был не маленьким, ему нравились элегантные туфли, и он покупал их при первой же возможности, правда всегда дешевые, так что не проходило и месяца, как коробилась кожа, и отлетали каблуки. Напиваясь, он впадал в отчаяние, своя же собственная музыка бросала его в пещеры, полные гуано и костей летучих мышей, изглоданных дикими зверями.
Я рожден в нищете
Я один в этом мире
Я тружусь, чтобы жить
Я искал красоту
Но нашел лишь уродство и злобу людскую…
Его работа была абсолютно идиотской, и именно этим она ему нравилась, он получал болезненное удовольствие, когда белые тарелки, перепачканные соусом и сыром, ненавязчиво соскальзывали со скатерти прямо в пластмассовый таз, ему нравилось собирать миски с плавающими в соусе обрывками салата, воткнутые в жир окурки сигарет.
Наступал вечер, и он входил в другой мир: аккордеон у груди, сильный голос управляет движениями и мыслями двух сотен людей, он непобедим. В ресторане он был рабом не только по долгу службы, но и по собственной внутренней склонности. Его день начинался в семь утра пустыми чашками из-под кофе и крошками сладких пирогов, а заканчивался в шесть первой порцией вечерних тарелок. Он знал всех дневных официантов, их было семеро. Все, кроме одного, с уважением относились к двойственности его натуры, хотя может и ругались вслед, когда он шел по коридору в кухню, чтобы протолкнуть таз с грязной посудой через окно в раковину, – его медлительность, неуклюжесть и бестолковость была всем хорошо известна. Но по вечерам и в выходные дни эти же люди вопили от радости, когда на них лился водопад его музыки, хватали его за рукава и повторяли его имя, словно имя святого. Они бы целовали ему ноги, если бы знали, откуда берется сила его голоса и в чем секрет зеленого аккордеона – а может, из ревности или зависти швырнули бы его в огромный горячий котел.
Релампаго
До войны, прежде чем в 1936 году переехать в Хорнет, семья жила у реки, в саманном домике. В округе еще оставалась дюжина таких же домов, нищих и удаленных друг от друга. Неподалеку, описав дугу, исчезала на западе железная дорога. Первые годы своей жизни сыновья играли со старыми колесами, пылью, палочками, мятыми банками и бутылками. Релампаго жили в этом доме несколько веков, еще с тех времен, когда не существовало самого Техаса. С 1848 года они считались американскими гражданами, но несмотря на это англо-техасцы называли их «мексиканцами».
– Кровь гуще, чем вода в реке, – говорил Абелардо.
Поколение назад мать Абелардо – на самом деле не мать, поскольку он был подкидышем, голым младенцем, завернутым в грязную рубаху и оставленным в 1906 году на полу церкви, – молчаливая согнутая женщина знала лишь детей, тортильи, землю, прополку гороха, тыквы, помидоры, чили, фасоль и кукурузу.
Старик-папаша – на самом деле, не отец – был полевым рабочим, постоянно в разъездах: в долине Рио-Гранде, в Колорадо, Индиане, Калифорнии, Орегоне или на техасском хлопке. Человек-невидимка (подобно тому, как сам Абелардо стал невидимкой для своих детей), работа, работа, опять на север, переводы на небольшие суммы, иногда он возвращался на месяц-два, горбун с огромными расцарапанными руками и запавшим беззубым ртом. Несчастная человеческая машина для работы, искалеченные согнутые руки созданы для того, чтобы хватать и тянуть, поднимать ящики и корзины, чтобы держать. Без работы руки повисали, им становилось неловко. Он и сам знал только работу: глаза скошены и полуприкрыты, лицо не отягощено следами раздумий, вместо рта дырка, щетина на щеках, замусоленная бейсбольная кепка, а рубашки он таскал до тех пор, пока они не сгнивали. Если и была в его жизни красота, то об этом никто не знал.
Пришел день, и его изношенный отец исчез. Очень нескоро женщине рассказали, что ее муж утонул в одном из северных городков: хлынувшая на улицы девятиметровая стена воды смыла его вместе с другими несчастными – мутная желтая жидкость, наводнение, что испугало бы даже Ноя, катастрофическое порождение ливня, свирепее которого никто никогда не видел – за одну грозовую ночь тогда выпало тридцать шесть дюймов воды.
Детство Абелардо прошло среди музыки, которую он извлекал из палочек, набитых горохом банок, металлических обрезков и своего собственного пронзительного голоса; а еще у речки, что текла, когда не пересыхала, к Рио-Гранде, была то глубокой и полноводной, с кучами иноземного мусора, а то просто размазанной по гравию пленкой ила – границы ее прочерчивали тополя и ивы, густо усыпанные резвыми птицами: в сентябре белокрылые голуби подпрыгивали, взлетали высоко в небо и расходились там веерами, вокруг них, не переставая, щелкали выстрелы, ПАФ, паф, а весной на север, на холодный пронизывающий север отправлялись ширококрылые ястребы. Он смутно вспоминал, как стоит рядом с каким-то человеком – мужчиной, но не отцом – под кедровыми вязами и эбеновым деревом, вдыхает невообразимую смесь гуаджилло, черной мимозы, акации и смотрит на темно-синюю змею, обвившую тонкие листья. Он тогда почти разглядел пятнистого оцелота, на которого показывал мужчина – словно кусочек земли, пойманный пятном света, вдруг вытолкнул себя наверх и утек в чащу. На сыром песке речной излучины он как-то нашел оттиск целой птицы – все, кроме головы: крылья вывернуты в стороны и вниз, на распластанном хвосте отчетливо видны перья, и вся картинка ясная, как отпечаток археоптерикса в доисторической грязи. Другая большая птица стояла на спине у первой и, словно секатором, зажимала клювом ее голову – секунду спустя она унесла ее прочь.
Он был Релампаго не по рождению, не по наследству, не по крови, а лишь по формальному усыновлению, но, тем не менее, унаследовал все имущество Релампаго, поскольку одиннадцать других детей умерли или пропали. Вода была их роком. На глазах Абелардо утонула Елена. Они тогда носили воду – трое или четверо истинных Релампаго с трудом взбирались на крошащийся берег, когда вдруг раздался всплеск и крик. Он еще успел увидеть, как молотит воду рука, как над грязным потоком поднимается кричащая голова, чтобы через секунду исчезнуть окончательно. Он бежал домой впереди всех, вода плескалась из ведра на босые ноги, проволочная ручка больно резала руку.
Последним из Релампаго был Виктор, но и он погиб в девятнадцать лет, в оросительной канаве, вода порозовела от его крови. Грубая шутка повторилась вновь: да, всем известно, в техасских рейнджерах есть мексиканская кровь. На сапогах.
Наследство ему досталось ничего себе: крошащийся саманный домик из трех комнат и клочок двора размером с одеяло. И все же они жили в этом доме до тех пор, пока каким-то образом не было доказано, что земля на самом деле принадлежит крупному хлопковику, американцу, который пожалел Абелардо и дал ему пятьдесят долларов в обмен на позволение стереть запись о том, что этот мексиканец может владеть землей, размером хотя бы с ноготь.
Прибыли два бульдозера, протащили по земле цепь, нырнули в ветвистый лабиринт, перемололи в кашу молодые листья и белую древесину сучьев, а густые заросли превратили в гору хвороста – топливо для костра – костра жизни, что сжигает дни. И с тех пор – длинные плоские хлопковые поля, глазу не на чем отдохнуть, кроме согнутых спин рабочих и желтых тележек надзирателей, воздух пропитан запахом химикатов и пестицидов. И все же до конца своей жизни Абелардо вдыхал по утрам несуществующий запах реки, а в нем – воображаемый аромат прекрасной и трагической страны, где он, вполне возможно, был рожден.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































