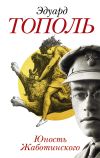Текст книги "Коктейль «Две семерки» (сборник)"
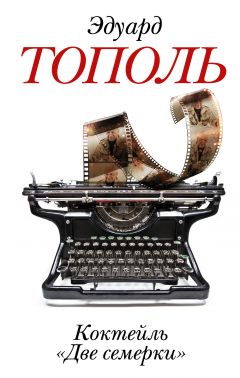
Автор книги: Эдуард Тополь
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Продолжая свои исторические раскопки, я цинично искал, а кто же все эти годы утешал тоскующего по Елене Казарского? Но не нашел даже портовых балерин…
«На “Евстафии”, – сказано в еще одной его биографии, – Казарский прошел хорошую командирскую школу… На вахте не жди подсказки, оценив обстановку, действуй самостоятельно и решительно: установи взаимопонимание с нижними чинами, в их умении и слаженности – главный успех маневра: старайся разгадать замысел неприятеля, опережай его действия… После “Евстафия” Казарский плавал на шхуне “Севастополь”, транспортах “Ингул” и “Соперник”».
В октябре 1827 года в греческой бухте Наварин соединенная эскадра России, Англии и Франции разгромила турецко-египетский флот, и в апреле 1828 года Россия вступила наконец в открытую войну с Турцией на стороне восставшей Греции. В мае русские войска перешли Прут и вторглись в Молдавию. Бриг «Соперник» Казарского участвовал в высадке войск и доставке вооружений к Анапе. Но поскольку основной флот не мог по мелководью подойти к Анапской крепости, адмирал А.С. Грейг приказал оборудовать «Соперник» гаубицей, и бриг Казарского, маневрируя, три недели обстреливал эту крепость. За это время он получил шесть пробоин в корпусе и два повреждения рангоута, но продолжал атаковать. За героическую дуэль с турецкими батареями Николай I произвел Казарского в капитан-лейтенанты. Затем, маневрируя на «Сопернике» под стенами Варны, Казарский прикрывал огнем осадные работы, и 25 сентября штурмом была взята и Варна. За Варну тридцатилетний Казарский был награжден золотой саблей и назначен Грейгом командиром двадцатипушечного брига «Меркурий».
(Ага, вот вам вторая встреча Казарского с «Меркурием», будущей легендой не только русского, но и мирового флота!)
А «Меркурий» к этому времени был уже весьма известен. За подвиги во время морских сражений его капитан Семен Михайлович Стройников получил орден Святого Георгия IV степени, равный по нашим временам званию Героя Советского Союза, и назначение капитаном новенького фрегата «Рафаил».
Передавая «Меркурий» Казарскому, Стройников по-отечески поинтересовался:
– Мой юный друг, а вы женаты?
– Нет… – нахмурился Казарский.
– Да ты не хмурься, у меня дочек нет, у меня два сына. А спросил я к тому, что скоро пойдем в Грецию, там такие гречанки! Огонь…
Но Казарский, вспомнив Елену, нахмурился еще больше. А Стройников, отплывая на шлюпке от «Меркурия», вдруг с изумлением обратил внимание на то, как его сменщик похож на росту в виде бога Меркурия на носу брига.
«К концу апреля 1829 года, – сказано в исторических справках, – Порта успела довести свои силы на европейском театре войны до ста пятидесяти тысяч. Этим силам русские могли противопоставить не более ста тысяч. Только русский черноморский флот (около шестидесяти судов разного ранга) имел решительное превосходство над турецким… Что касается османского флота, то он в начале мая вышел из Босфора, однако держался ближе к своим берегам; при этом два русских военных судна были нечаянно им окружены; из них одно (тридцатишестипушечный фрегат «Рафаил») сдалось…»
Тут я должен остановиться: сдавшимся «Рафаилом» командовал тот самый Стройников, у которого Казарский недавно принял «Меркурий». Но как мог прославленный капитан второго ранга, кавалер ордена Святого Георгия и других наград так позорно сдать туркам новенький фрегат? Из Википедии: «11 мая “Рафаил” встретился с турецкой эскадрой, вышедшей из пролива Босфор, состоявшей из пятнадцати судов: шести линейных кораблей, двух фрегатов, пяти корветов и двух бригов. “Рафаил” попытался скрыться от превосходящего противника, однако в виду маловетрия это ему не удалось, и он оказался окружен. На совете офицеры решили драться “до последней капли крови”, как того требовал Морской устав 1720 года, но когда начались разговоры с матросами, офицер, ведший переговоры, доложил, что команда не хочет погибать и просит сдать судно. В итоге капитан 2-го ранга Стройников приказал спустить флаг»…
А буквально через день там же, вблизи Босфорского пролива, дозорный бриг «Меркурий» под командованием Казарского натыкается на турецкую шхуну, везущую на продажу в турецкий Зонгулдак похищенных гречанок и несколько пленных русских моряков. Абордаж, захват шхуны. И – наконец – долгожданная встреча моих влюбленных киногероев: среди спасенных гречанок Казарский обнаружил Елену! Турецкую команду запирают в трюме шхуны, освобожденные из плена моряки уводят шхуну с гречанками в Севастополь, но Елена уже ни в какую не соглашается расстаться с Казарским и остается на «Меркурии».
Однако медовый месяц моих киногероев длился лишь сутки. «14 мая 1829 года бриги “Меркурий” и “Орфей” и фрегат “Штандарт” находились в дозоре у Босфорского пролива. На подходе к проливу русские корабли обнаружили выходящую турецкую эскадру в 18 вымпелов. Капитан “Штандарта”, командовавший русским отрядом, приказал всем кораблям уходить к Севастополю, чтобы сообщить русскому командованию о появлении в море главных сил противника».
Дальше я мог бы цитировать бесконечное количество документов, но ограничусь несколькими. В тот день был полный штиль. Тем не менее, быстроходные «Штандарт» и «Орфей» смогли оторваться от турецкого флота, но грузный, из крымского дуба, «Меркурий» бессильно дрейфовал. «Турецкая эскадра начала догонять русский корабль. Вперед вырвались два линкора – стодесятипушечный “Селиме” под флагом капудан-паши (командующего флотом) и семидесятичетырехпушечный “Реал-бей” под флагом младшего флагмана. Стало ясно, что через несколько часов они приблизятся к “Меркурию” на расстояние пушечного выстрела…»
Теперь я прерываю цитату и прошу вас вспомнить (а еще лучше найти в Интернете) знаменитую картину Айвазовского «Бриг “Меркурий”, атакованный двумя турецкими кораблями».
Посмотрите на эту картину, я мечтаю снять по ней этот невероятный бой, вошедший в анналы истории морских сражений, как единственный и неповторимый «потомству в пример». Из десятков художественных, антихудожественных и документальных описаний этого боя я позволил себе сделать небольшой текстовой коллаж – надеюсь, авторы использованных текстов не будут ко мне в претензии.
«Следуя приказам адмирала, остальная турецкая эскадра замедлила ход и легла в дрейф, предвкушая скорую победу над русским бригом. Турецкие моряки и помыслить не могли, что бой при столь неравном соотношении сил может завершиться чем-либо, кроме безоговорочной победы турецкого оружия… В три часа дня “Селиме” с “Реал-беем” открыли огонь по “Меркурию”. Не успел еще рассеяться дым от первых выстрелов турецких кораблей, как в кают-компании “Меркурия” собрался офицерский совет. На нем единодушно решили драться до последней капли крови, а если поражение станет неминуемым, то сцепиться с каким-нибудь вражеским кораблем и взорвать “Меркурий”. Закончив офицерский совет, командир брига обратился к матросам и канонирам с призывом не посрамить чести Андреевского флага. Команда ответила дружным “ура”…
“Меркурий” стал готовиться к бою. Моряки встали к брасам, у люка пороховой крюйт-камеры положили заряженный пистолет, дабы при худшем исходе взорвать себя. Две трехфунтовые пушки были перетащены на корму, у флаг-фала встал матрос с приказом Казарского стрелять в любого, кто попытается спустить флаг корабля… Настоящее сражение началось около четырех часов дня. Александр Иванович прокричал: “С богом!” – и дал отмашку рукой. Две пушки на корме рявкнули, и навстречу туркам устремились русские ядра. “Селиме” развернулся к бригу левым бортом и дал бортовой залп, твердо уверенный, что на этом бой и закончится. Но вышло иначе. За несколько минут до разворота турецкого корабля Казарский скомандовал: “Поворот” и все турецкие ядра просвистели мимо…»
…Далее в течение получаса «Меркурий», искусно маневрируя, иногда помогая себе веслами, вел бой с вражескими кораблями. Но и капудан тоже кое-что смыслил в тактике морского боя…
«Турецкие корабли стремились занять такие позиции по левому и правому бортам от русского брига, чтобы обрушить на него мощь своих орудий. Но “Меркурий” неизменно занимал такое положение, что корабли противника могли вести огонь только из носовых орудий. Наконец, с превеликими трудностями, турки заняли желаемые позиции. “Меркурий” попал под перекрестный огонь пятидесяти пяти пушек правого борта “Селиме” и тридцати семи пушек левого борта корабля “Реал-бей”. Казалось, что все кончено, но случилось невероятное. Казарский, воспользовавшись дымовой завесой, возникшей от одновременной стрельбы многих десятков пушек, прошел под форштевнем “Селиме” и вырвался из клещей, причем этот маневр был осуществлен настолько незаметно, что еще некоторое время турки, думая, что “Меркурий” по-прежнему находится под их перекрестным огнем, продолжали обстреливать друг друга. В какой-то момент боя неприятельское ядро сбило флаг “Меркурия”. Турки прекратили огонь, думая, что русский корабль запросил пощады. Но через считанные минуты флаг снова развевался над кораблем, и битва вспыхнула с новой силой… Командир турецкого линкора поливает “Меркурий” продольными залпами. Турецкие ядра вихрем проносятся над палубой от носа до кормы, сшибая людей, в щепки разбивая палубные надстройки и сбивая с лафетов пушки. Русский бриг мужественно отстреливается, но силы его тают… И тут лучший канонир брига Лисенко поразил грот-мачту “Селиме”. Турецкий корабль лег в дрейф и прекратил бой. Сразу стало легче: оставался только один корабль, который упорно продолжал преследование. Занятый выполнением очередного маневра корабля, Казарский не заметил, что в него из ружья целится один из турецких моряков. И тогда матрос Щербаков грудью заслонил командира и получил смертельную рану».
А затем «Меркурий», маленький бриг с пробитым корпусом и изрешеченными парусами, пошел в атаку. Виртуозно маневрируя, бриг подошел на расстояние пистолетного выстрела к кораблю «Реал-бей», на котором – хотите верьте, хотите нет – находился плененный капитан Стройников! Выждав удобный момент, канониры «Меркурия» произвели залпы и перебили фор-марса-рей, да так удачно, что все паруса носовой мачты рухнули на палубу. Продолжать преследование турецкий корабль уже не мог, и бой закончился через четыре с половиной часа после начала сражения. Артиллерийская канонада смолкла. «Штандарт» и «Орфей», посчитав, что «Меркурий» уничтожен, в знак траура приспустили флаги. В этот момент несломленный русский бриг продолжал упрямо двигаться, а раненый Казарский подсчитывал потери: четверо убитых, шесть раненых, двадцать две пробоины в корпусе, сто тридцать три – в парусах, шестнадцать повреждений в рангоуте, сто сорок восемь – в такелаже, все шлюпки разбиты…
Об этом бое до наших дней дошла запись в судовом журнале капитана «Реал-бея»: «Во вторник с рассветом, приближаясь к Босфору, мы приметили три русских судна. Мы погнались за ними, но догнать смогли лишь одно. Корабль капудан-паши и наш открыли сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное – мы никак не могли заставить его сдаться! Он дрался, уклоняясь и маневрируя, со всем искусством опытного капитана до того, что, стыдно сказать, мы прекратили сражение, а он со славой продолжал свой путь. Бриг этот должен был потерять не менее половины своего экипажа, потому что однажды он был от нас на расстоянии ружейного выстрела. Во время сражения пленный командир русского фрегата (Стройников! – Э. Т.) говорил мне, что капитан сего брига никогда не сдастся, и если он потеряет всю надежду, то взорвет бриг свой на воздух. Ежели в великих деяниях древних и наших времен находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все оные помрачить, и имя сего героя достойно быть начертано золотыми литерами на храме Славы: он называется капитан-лейтенант Казарский, а бриг – “Меркурий”. С двадцатью пушками, не более, он дрался против двухсот двадцати в виду неприятельского флота, бывшего у него на ветре».
Газеты того времени писали: «Подвиг сей таков, что не находим другого ему подобного в истории мореплавания: он столь удивителен, что едва можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотверженность, оказанные при сем случае командиром, офицерами и экипажем “Меркурия”, славнее тысячи побед обыкновенных…»
Конечно, героический экипаж «Меркурия» был русским императором щедро награжден. Александр Казарский получил орден Святого Георгия IV степени и звание флигель-адъютанта. Всем офицерам и матросам (в том числе юнге, дальнему предку питерского адмирала) была назначена пожизненная пенсия в размере двойного жалованья. В гербы офицеров «Меркурия» Сенат внес изображение тульского пистолета, того самого, что лежал на шпиле брига перед люком крюйт-камеры. Бриг вторым из русских судов получил памятный Георгиевский флаг и вымпел.
Да, забыл сказать: в нашем фильме во время этого боя погибла Елена. К сожалению… Но не этим боем кончится фильм, поскольку дальнейшая история капитана Казарского впечатлила меня даже больше, чем его уникальное морское сражение. Прошу вас к финалу…
В 1829 году Казарский командовал сорокачетырехпушечным фрегатом «Поспешный» и принял участие во взятии Месемврии. В 1830-м был капитаном шестидесятипушечного «Тенедоса», одного из самых крупных русских фрегатов. После чего был отправлен в Англию с князем Трубецким для поздравления короля Вильгельма IV. Затем произведен в капитаны 1-го ранга и назначен в свиту Николая I. Состоя в свите, был командирован в Казань для определения целесообразности дальнейшего существования Казанского адмиралтейства. После командировки прошел по рекам и озерам от Белого моря до Онеги в поисках нового водного пути, и, как сказал мне питерский адмирал, первым предложил построить Беломоро-Балтийский канал. В 1833 году был направлен для проведения ревизии тыловых контор и складов в черноморских портах и через короткое время после прибытия в Николаев внезапно скончался… от отравления сулемой!
Минуту, господа читатели! Какой шекспировский финал! Почему ни Гоголь, ни Пушкин его не использовали? Ведь Пушкин знал Казарского и даже – внимание! – нарисовал его. Эти рисунки опубликованы.
Но как же так – любимец императора, герой русско-турецкой войны, кавалер золотой сабли и ордена Святого Георгия, по личному распоряжению его императорского величества приезжает ревизором к каким-то казнокрадам, и…
«Казарский, отобедав у Михайловой, выпил чашку кофе и почувствовал себя плохо. Близкая знакомая Казарских, Елизавета Фаренникова, утверждала, что в последние дни Казарский, заходя к кому-либо, ничего не ел и не пил, так как был предупрежден о возможном покушении. Даже некую немку, у которой он остановился в Николаеве, просил попробовать каждое блюдо, прежде чем самому приступить к еде. Однако Казарский не смог отказать красавице дочери хозяина дома, которая поднесла ему чашку с отравленным кофе. За разговором Александр Иванович выпил всю чашку. По утверждению штабс-лекаря Петрушевского, к которому обратился Казарский, тот постоянно плевал, от чего на полу образовались черные пятна, которые не удавалось смыть. Фаренникова утверждает, что и доктор был в сговоре против Казарского, так как вместо того, чтобы дать ему противоядие, усадил его в горячую ванну, несмотря на то, что сам Казарский говорил ему, что отравлен. После смерти тело Казарского почернело, голова и грудь раздулись, лицо обвалилось, волосы выпали, глазные яблоки лопнули, а ноги по ступни отвалились в гробу…»
Затем на имя императора поступило письмо: николаевский купец первой гильдии Василий Коренев сообщал, что в Николаеве был заговор против императорского флигель-адъютанта. Письмо было передано в Сенат и найдено бездоказательным, о чем сообщили императору. Несмотря на это, Николай I приказал шефу корпуса жандармов графу Бенкендорфу назначить расследование.
По мнению историка флота Владимира Шигина, фактической причиной отравления была деятельность Казарского как ревизора Черноморского флота и черноморских портов и вскрытие им фактов злоупотребления и коррупции высших флотских начальников. Однако в своей записке императору граф Бенкендорф сообщил, что «следствие по делу о смерти Казарского ничего не открыло и другое следствие вряд ли будет успешным, поскольку николаевский полицеймейстер Автомонов [участие которого в заговоре против Казарского подозревал граф] является близким родственником генерал-адъютанта Лазарева».
Вот вам, господа, и реальный (не гоголевский) «Ревизор»! А также бессмертная Коррупция – богиня чиновников всех времен и народов…
«Во время похорон за гробом шло множество людей, среди которых были вдовы и сироты, которым Казарский много помогал. Рыдая, они кричали: “Убили, погубили нашего благодетеля! Отравили нашего отца!” Через шесть месяцев из Санкт-Петербурга прибыла новая следственная комиссия, которая эксгумировала труп и извлекла внутренние органы для отправки в столицу, однако этим дело и кончилось».
Хотя…
В 1839 году на Мичманском бульваре Севастополя был поставлен памятник с царевой надписью: «КАЗАРСКОМУ. ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР». Что имел в виду государь, судите сами.
А фильм… К сожалению, ввиду крымских событий программа строительства речных судов была не то сокращена, не то законсервирована. Но сценарий фильма почти готов. Осталось его снять – потомству в пример.
Две жизни, две смерти Исаака Иткинда
В 1967 году в подмосковном Доме творчества кинематографистов «Болшево» молодой режиссер-документалист из Казахстана Арарат Машанов показывал столичным мэтрам кинематографа свой двадцатиминутный документальный фильм «Прикосновение к вечности» – о знаменитом в тридцатые годы скульпторе Исааке Иткинде, пережившем свою официальную смерть.
На экране коренастый, полутораметрового роста, девяностошестилетний, с огромной седой бородой старичок, похожий на Саваофа или деловитого рождественского гнома, расхаживал среди огромных деревянных и гипсовых скульптур, бил молотком по круглой стамеске или работал резцом, и глаза его блестели живым, молодым озорством. А диктор рассказывал в это время, что Исаак Иткинд был в тридцатые годы знаменит вровень с Шагалом, Эрьзей и Коненковым и что скульптуры Иткинда стоят в музеях Франции, Западной Германии, США и… в кладовых-запасниках Эрмитажа и Музея изобразительных искусств в Москве. При этом кинокамера перекочевала в запасник Эрмитажа, и тут возникла самая впечатляющая деталь этого фильма. Мы увидели двухметровую деревянную скульптуру великого русского поэта XIX века Александра Пушкина – это был юный, тонкий, стройный, вдохновенный и, я бы сказал, сияющий Саша Пушкин на взлете своей славы и гения. Вся скульптура – сплошной порыв, свежесть, жизнь, поэзия. А ниже, на постаменте, камера на секунду остановилась на короткой надписи: «Скульптор Исаак Иткинд. 1871–1938». И все. Диктор не сказал ни слова. Камера мягко ушла с этой надписи и снова показала нам жизнь Иткинда в столице Казахской Советской республики Алма-Ате, но дальше уже весь фильм был освещен смыслом этой короткой надписи: для всех музеев мира жизнь гениального скульптора Исаака Иткинда оборвалась в сталинских лагерях в 1938 году.
Спустя несколько месяцев я оказался в Алма-Ате в журналистской командировке. Красивый, как Вена, «город яблок» расположен неподалеку от китайской границы и окружен снежными пиками памирских гор. На одной из них расположен лыжный курорт «Медео», а в самой Алма-Ате одна половина населения – местные жители-казахи, а другая – русские. Здесь огромное количество смешанных браков, и от этого смешения на улицах полным-полно удивительно красивых девушек – с белой кожей и чуть раскосыми черными глазами…
В Союзе казахских художников мне сказали, что Иткинд болен, простужен, что живет он на окраине Алма-Аты в квартире без телефона, но молоденькая секретарша Союза Наденька с удовольствием согласилась отвезти меня к нему. И вот мы едем с ней в такси в заснеженные алма-атинские «Черемушки» – новый жилой массив из стереотипных шестиэтажных блочных домов «хрущеб», наспех построенных в эпоху борьбы Хрущева с катастрофическим жилищным кризисом в СССР. По дороге Надя рассказывает мне об Иткинде.
В 1944 году по Алма-Ате стали ходить слухи о каком-то полудиком старике – не то гноме, не то колдуне, – который живет на окраине города, в землянке, питается неизвестно чем, собирает лесные пни и из этих пней делает удивительные фигуры. Дети, которые в это военное время безнадзорно шныряли по пустырям и городским пригородам, рассказывали, что эти деревянные фигуры по-настоящему плачут и по-настоящему смеются…
Слухи через какое-то время стали такими упорными, что руководители Казахского художественного фонда решили посмотреть «живые фигуры из пней». Несколько известных казахских художников, в том числе художник Николай Мухин, поехали на окраину Алма-Аты. Сейчас эта улица Головной Арык стала проспектом Абая, а тогда здесь пасся скот. Художники долго бродили по пустырю и наконец увидели то, что искали. В глиняном холме было сделано какое-то подобие жилища, узкий, как кротовий, лаз вел в глубину норы. Возле этого лаза валялись пни и куски дерева, еще только тронутые резцом деревообработчика. Но художники – люди профессиональные – уже по этим первым наметкам поняли, что сейчас перед ними откроется нечто незаурядное. Они подошли к лазу, ведущему в глубину землянки, откуда доносилось легкое постукивание молотка по резцу. Кто-то из художников нагнулся, крикнул в нору: «Эй!»
Маленький, седой, семидесятитрехлетний старик выполз из землянки. Он плохо слышал, ужасно говорил по-русски, у него был чудовищный еврейский акцент. Но когда он назвал художникам свою фамилию, они вздрогнули.
Перед ними стоял Исаак Иткинд – скульптор, который еще восемь-десять лет назад был в СССР так же знаменит, как сегодня во Франции знамениты Марк Шагал или Пикассо. О нем писали тогда чуть ли не все газеты, с ним дружили знаменитые поэты и писатели – Максим Горький, Алексей Толстой, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Его опекали столпы советской власти – нарком просвещения Анатолий Луначарский и первый секретарь Ленинградского обкома партии, член Политбюро ЦК ВКП (б) Сергей Киров. А выставки его скульптур были событием в культурной жизни довоенной России.
Теперь Иткинд, чье имя стало хрестоматийным еще в их студенческие годы, жил, отрезанный от мира, в какой-то кротовьей норе, голодал, питался кореньями и подаянием и… создавал скульптуры.
– Почему? Как вы здесь оказались? – спросили художники.
– Меня арестовали в тридцать седьмом году и сослали сначала в Сибирь, потом сюда, в Казахстан. Теперь выпустили из лагеря, потому что я для них уже очень старый. Но выпустили без права возвращения в Москву. Дали пожизненную ссылку…
– За что вас посадили?
– За то, что я враг народа, японский шпион. Я продал Японии секреты Балтийского военного флота, – сказал Иткинд и спросил с непередаваемой еврейской интонацией: – Ви можете в это поверить?
Конечно, они не могли поверить, что всемирно знаменитый скульптор, этот маленький гениальный гном с чудовищным еврейским акцентом – японский шпион, что он хоть что-то смыслит в военных секретах Балтийского флота… Но в 1944 году в СССР к людям, объявленным сталинским режимом «врагами народа», относились как к прокаженным. Поэтому в жизни ссыльного «врага народа» и «японского шпиона» Исаака Иткинда ничего не изменилось. Разве что один из посетивших его тогда художников – Николай Мухин – осмелился все же влезть в его нору и вытащил из землянки большую деревянную скульптуру. Это был эскиз «Смеющегося старика» – скульптуры, которая через два десятка лет станет одной из самых знаменитых работ Иткинда.
– Мы заберем ее в музей нашего Фонда, можно? – спросили художники Иткинда.
Иткинд разрешил, посетители погрузили скульптуру в машину и увезли ее, чувствуя себя почти героями – ведь они взяли в музей скульптуру у «врага народа»!
«Иткинд стоял у входа в землянку и махал нам вслед рукой», – рассказывал впоследствии Николай Мухин.
Скульптор прожил в землянке еще двенадцать – вы слышите: двенадцать! – лет. Лишь изредка и тайком навещал его Николай Мухин, снабжал кое-какими деньгами…
Затем были смерть Сталина, XX съезд партии, реабилитация миллионов «врагов народа». Иткинда к тому времени снова забыли напрочь.
Да и кто станет годами заботиться о сосланном скульпторе-старике, когда вокруг такое творится – послевоенная разруха, затем новая волна арестов 1948 года, когда только за общение с ссыльным «врагом народа» могли дать десять лет сибирских лагерей?
Как он жил в эти годы, чем, и жил ли вообще – никто не знал и не интересовался…
Поэтому, когда зимой 1956 года в алма-атинский государственный театр пришел бездомный восьмидесятипятилетний старик, никто не опознал в нем знаменитого скульптора Иткинда. В это время таких оборванных стариков, только что выпущенных из сибирских и казахских лагерей, было сотни тысяч. Часть из них рвалась из Сибири в свои родные города, в европейскую часть России, в Москву, Ленинград, Киев – к детям, к женам, к родственникам, но еще десятки, если не сотни тысяч уже никуда не спешили: у них не осталось в живых родных, их забыли, бросили или предали в свое время жены и дети…
Они бродили вокруг бывших мест заключения или ссылки в поисках работы. И все, по их словам, были до ареста знамениты. В Алма-Ате их было в 1956 году наводнение. Из карагандинских шахт, из медных рудников Джезказгана, из лагерей Актюбинска…
Нищий, неприкаянный, похожий на гнома или библейского пророка старичок просил директора Алма-Атинского театра взять его на работу кем угодно – ну хотя бы рисовать декорации или размалевывать задники. Он сказал, что теперь, когда с него сняли звание «врага народа» и запрет жить в больших городах, он все равно не поедет ни в Москву, ни в Ленинград – не к кому. А здесь, в Казахстане, он уже привык, обжился.
Директор театра не стал слушать «майсы» старика, но на работу его принял – маляром с окладом шестьдесят рублей в месяц и даже предоставил ему «жилье» – топчан под театральной лестницей, где обычно грелась у печки вахтерша Броня Ефимовна…
Два года старик лазил по театральным стремянкам, размалевывал задники и декорации для спектаклей по эскизам местного художника.
А в свободное от работы время бродил по окрестностям Алма-Аты и на попутных грузовиках и самосвалах приволакивал в театральный подвал огромные пни и коряги. Вскоре все алма-атинские водители грузовиков узнали, что в городском театре есть старый чудак, который за деревянную корягу или пень дает три рубля на бутылку водки. Само собой, пни и коряги стали прибывать в театр чуть не со всего Казахстана. И по ночам Исаак Иткинд, вооружившись резцом, молотком и стамеской, спускался в подвал и принимался за работу. Никто не мешал ему, никто, кроме вахтерши театра Брони Ефимовны, не слышал стука его молотка по резцу. И только через два года новый молодой художник театра заглянул в подвал и ахнул: он увидел два десятка уникальных деревянных скульптур, созданных наверняка крупным, если не великим мастером.
Художник спросил у старика его фамилию и вспомнил, что слышал эту фамилию в художественном институте на лекциях по истории советского изобразительного искусства. Конечно! Это же была знаменитая в тридцатые годы тройка скульпторов по дереву – Коненков, Эрьзя и Иткинд. Коненков жив, он стал академиком, Эрьзя умер, а Иткинд…
Так в Казахстане «опять» нашли Исаака Иткинда.
Художники Алма-Аты потянулись в театральный подвал поглазеть на воскресшего из мертвых знаменитого скульптора. Молодой и деятельный казахский поэт Олжас Сулейменов и еще несколько известных писателей и художников стали хлопотать, чтобы старика приняли в Союз художников, а затем… затем к Иткинду пришла слава. Правда, слава местного, казахского, масштаба.
То было время освоения целинных земель Казахстана. Хрущев объявил, что через двадцать лет СССР догонит и перегонит Америку по производству зерна, молока и мяса на душу населения. Особую роль в этой гонке он отвел освоению диких целинных земель Казахстана, куда были брошены тысячи «целинников» и миллиарды рублей. По замыслу Хрущева целинные земли Казахстана должны были накормить Россию хлебом. И поэтому здесь как грибы стали расти новые города и поселки – Целиноград, Павлодар, Семипалатинск. Хрущев не скупился на деньги для новых городов, в них возникали даже музеи и художественные галереи. Организаторами музейных коллекций и выставок были молодые искусствоведы, выпускники московского и ленинградского художественных институтов. Они-то, узнав о воскресшем Иткинде, и скупали у него скульптуры для своих музеев. Вскоре Иткинда приняли в Союз художников Казахстана, он получил премию Центрального Комитета Ленинского Союза Молодежи Казахской республики и – даже! – двухкомнатную квартиру на окраине Алма-Аты.
Конечно, борьба казахской молодой интеллигенции за Иткинда имела свой подтекст. Мол, русские, которых здесь очень часто называют в последнее время «оккупантами», погубили великого скульптора, а мы, казахи, спасаем его для истории! И они действительно спасали, буквально вытащили из-под черной лестницы, наградили и переселили в человеческую квартиру. Более того, они добились, чтобы городской военный комиссариат разрешил Иткинду устроить мастерскую в подвале-бомбоубежище дома, где он получил квартиру. И сняли о нем фильм…
Тут мой гид Наденька прервала свой рассказ и сказала, что надо бы купить бутылку – Иткинду хотя и девяносто шесть лет, но рюмку сладкого вина он выпьет с удовольствием. И вообще, добавила Надя, старик любит, когда к нему приезжают с вином и молоденькими девушками.
– Два месяца назад, – продолжала она с улыбкой, – Иткинд попал в больницу с воспалением легких. Я приехала навестить его и помогла медсестре отвезти его на кровати из палаты в рентген-кабинет. У Иткинда была температура тридцать девять и две, но – представьте себе! – когда он по дороге в коридоре больницы открыл глаза и увидел, что его кровать катят две молоденькие девушки, что-то зашевелилось под простыней – там, знаете, ниже живота…
Конечно, я остановил наше такси у магазина, купил бутылку вина, а потом мы еще минут двадцать ехали по заваленным снегом алма-атинским улицам…
Но вот мы у Иткинда. В холодной двухкомнатной квартире, на кровати у окна лежит совсем даже не бородатый Саваоф, а безбородый, с редкой седой шевелюрой старичок, очень похожий не то на беса, не то на домового с картины Врубеля «Пан». Это и был Иткинд. Ворчливая и неряшливо одетая жена художника, та самая бывшая вахтерша театра Броня Ефимовна, недружелюбно косясь на мою молоденькую спутницу Наденьку, поставила чай…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?