Текст книги "Оклик"
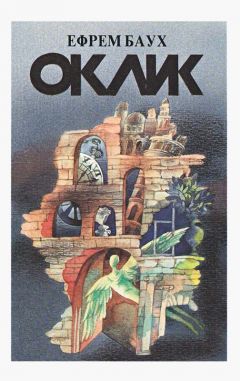
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Нависаем над краем обнажения Рамон – великим провалом с перепадом в триста пятьдесят метров: апокалиптических размеров, с сожженными до черноты стенами и белесоватой окалиной на бескрайнем теряющемся в мареве поддоне, казан вмурован в пространство.
До этого испекшиеся на бубне нагорья, мы проваливаемся в казан, обдающий нас уже вовсе серным дыханием адского пекла. Видимые сверху цепочки разбросанных по испепеленной долине фосфоритовых ядер, обугленных до черноты в отвесном солнечном потопе, кажутся следами дьявола.
В эти часы здесь вообще запрещено передвигаться, но командиры наши времени не рассчитали, и все мы падаем в казан, как кур в ощип. Беспрерывно – команды: пить, омывать лица.
Шоссе после Мицпе-Рамон поуже да похуже. Подъемы, спуски, изгибы. И все вниз, вниз. Вот и самое дно – солончаки, испитые, белесые, скудные.
Но уже накатывает с запада невысокими скалистыми гребнями, плоскими долинами пустыня Фарран – накатывает едва слышимым, но содрогающим пространство гулом: вот-вот распахнется с запада долина потоком движущихся сквозь тысячелетия множеств – именно здесь, где дорога наша взбирается на высоту Фарран, мы вероятнее всего столкнулись бы с внезапно выходящим из долины народом, ведомым Моисеем от Кадеш-Барнеа на Эцион-Гевер, сегодняшний Эй лат. И теперь до самой Йотваты, совершив поворот с запада на юг и сливаясь с миражами, которые, как из раскаленного горна, натекают из восточных долин, от гор Моава, они будут сопровождать нас, то возникая на гребне справа от дороги, то исчезая в долинах, и время будет течь расплавленной лавой одновременно на двух уровнях, разделенных пятью тысячами лет.
Поворот долины в пустыне Фарран – как поворот судьбы мира.
Йотвата – стоянка Моисея.
Йотвата – конечный пункт нашего путешествия.
Гул множеств слабеет, уклоняясь вправо, стекая в широкую впадину Бикат-Ивда.
Воспаленное око солнца плавает в небе, уже начинающем приходить в себя от солнечного столбняка и даже обретать синеву. Добираемся до Китуры: останавливаемся набрать воды в джериканы у развесистого патриаршего дерева. Мощная и разветвленная система корней переплетается с множеством шлангов, питающих водой каждый корень отдельно: дереву не хватает естественной влаги пустыни.
Группа немецких туристов с любопытством смотрит на израильских солдат в запыленных робах, чьи почерневшие от солнца и явно не первой молодости лица довольно еще бодры.
Лающая немецкая речь мгновенно возвращает меня в Вену семьдесят седьмого, к видениям транзитного лагеря по пути из России в Израиль, к еще одной временной стоянке сынов Моисеевых на долгом Исходе через тысячелетия.
Туристам объясняют, что по легенде сам патриарх Авраам, праотец народов земли, делал привал под этим деревом.
Остаток пути до Йотваты – по широкому асфальтированному шоссе, бегущему от Мертвого моря через Содом, на Эй лат и дальше – по окраине пустыни Синай – вдоль Эй латского залива – до Офиры и Шарм-А-Шейха, до Красного моря.
Темнеет.
Густым багрянцем натекают на нас Моавитские горы.
Рембрандтовым колоритом разворачивается холст неба.
Вино ли это пространства?
Кровь?
4
ИЮНЬ 1956. ЭХО ВЫСТРЕЛА. МОСКВА ВПЕРВЫЕ. ЗОНА. МАСОНСКИЕ МИСТЕРИИ: МАСТЕР ЛОЖИ ИЛИ ЛЖИ? ГИН И ГУМ. БАЛЬЗАМИЧЕСКИХ НАУК ДОКТОРА. ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ. ОЩУЩЕНИЕ РАЗДВОЕННОСТИ И ЭПОХА ПАРНОСТИ. АРХИПЕЛАГ БЛАГ. ДОЧЕРИ ЛИЛИТ И БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ГРАМОТНОСТИ. БРУСЧАТКА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.
Май пятьдесят шестого сиротливо и заброшенно витал поверх полупьяных и вечно возбужденных толпищ, запрудивших улицы и парки, так, что казалось, очереди в магазины колбасных и мясных изделий, за сырами и яйцами, а в особенности за рыбой вырастали строевыми шеренгами прямо из сплошной массы гуляк, фланирующих вдоль проспекта Ленина, всем кагалом прущих в парк Пушкина к деревянному павильону, дразнящему запахами жарящихся шашлыков, и равнодушно обтекающих памятник Сталину, по-прежнему государственно глядящему вдаль, как будто ничего и не произошло.
Бросались кагалом к пивным бокалам.
Толпа работала взасос как мощный насос. Накачиваясь вином и пивом, раздувались, становясь похожими на утопленников.
Вонь мочи из-под кустов и деревьев заглушала запахи майского цветения.
Даже излюбленные наши места, где мы готовились к экзаменам, – на Армянском кладбище, на дальних холмах за Комсомольским озером – были забиты людом: и вовсе не нежными парочками или одинокими мечтателями, а неопохмелившимися кодлами, которые пили "с кондачка", "брали по банке", "на троих", "по пятой не закусывая", глядели на нас с Игнатом, бредущих с книгами и в стельку трезвых, как на ненормальных, без конца зазывая выпить "на дармовщинку".
Сдав экзамен, мы шли с ним в пельменную на углу Котовского и 25-го Октября.
Попивая пиво и заедая его горячими пельменями, мы говорили о всякой всячине, но, главным образом, прощались, ибо впервые в жизни я готовился в дальнюю дорогу: сначала в Москву, в ГИИ – государственный институт геологии: там меня уже ждал мой сосед по комнате аспирант Миша Жеру; он брал меня практикантом на Бай кал, где собирал материалы для диссертации. Игнат оставался на практике в Молдавии.
Времени для выяснения мучающих нас вопросов было в обрез, и мы бродили до поздней ночи среди уже сатанеющих от безделья толп, мы были погружены в выяснение корней палачества, деревья качались на ветру за нашими спинами вместе с тенями великих, Сократа – за моей спиной, Гегеля – за Игнатовой.
В беспечно жаркий майский день, ополоумевший от пьяни и вдрызг праздничного равнодушия раздался одинокий выстрел, эхо которого потрясло страну сильнее всяческих канонад.
Тринадцатого мая застрелился Фадеев.
Поначалу я не принял столь остро это сообщение в чаду экзаменационной сессии, только изредка слыша в толпе повторяемое двустишие: "раздался выстрел: таков конец соцреалистов".
Я ехал ранним пригородным в Бендеры, с трудом отыскав место: вагоны были забиты людом, в утреннем нежарком и чистом солнце по-кукольному качались словно бы в беспамятной молитве, скорее похожей на мелкую трясучку, сотни лиц, запухших и измятых, как с тяжкого похмелья.
Ночь я собирался провести дома и на следующее утро сесть в поезд "Бухарест – Москва", который в Бендерах менял локомотив и направление движения.
Настроение было странно двусмысленным. Я был подобен человеку, собирающемуся вступить в холодную воду: ему боязно да и непривычно оторваться от уже устоявшей ся стихии, с которой он расстается, как снимает одежду, – сначала расстается с парками и улицами, затем с общежитием и товарищами, наконец с другом и, прервав с ним на полуслове уже не первый год длящееся внутренне беспрерывное сосуществование, вскакивает в вагон беспомощным и нагим, и стечение лиц вокруг, которых до сих пор проносило мимо по касательной, внезапно подступает в упор угрюмым молчаньем, ощутимо и угрожающе вторгаясь в его внутренний покой и цельность.
Предстояло еще проститься с родным домом.
Мама без конца перекладывала вещи в моем уже видавшем виды фанерном чемодане, бабушка не отставала ни на шаг: ложился ли я на диван, садилась рядом; гулял по двору, развешивала рядом белье на веревке; выходил на улицу – стояла у калитки, при этом не говоря ни слова, но слишком вплотную присутствуя, словно бы стараясь на все долгое расставание внедрить в меня силу своей любви и духа, как делают прививку против любой подстерегающей в будущем болезни.
Не хотелось идти прощаться с городом, парком юности, рекой детства, усиливать и так с трудом одолеваемую внутреннюю растерянность. Уже всех сморил сон, а я лежал на топчане, прижавшись ухом к небольшому обшарпанному приемнику, приобретенному отчимом по дешевке, различая в рассеянном свете уличного фонаря расплывающиеся очертания папиной мраморной чернильницы с медной крышечкой в виде шлема с шишаком на его же письменном столе единственное, что сохранилось от огромного, такого для меня загадочного мира отца, уже до последнего грана растворившегося в иных, чисто метафизических измерениях, я вслушивался в шорохи и попискиванья дальних радиостанций, как в первые позывные устанавливающих со мной связь пространств, в которые я ступлю, едва коснувшись ногой ступеньки вагона; на миг задремав, я вздрагивал от скребущей душу помехи.
Еще не совсем рассвело.
Бабушка опустила мою руку, как отпускают последнюю соломинку, собираясь идти на дно.
Отчим нес чемодан. Мама неслышно шагала рядом. Проводник проверял билеты. Мама еще и еще раз наказывала, что передать нашему родственнику, дяде Семе Трогуну, у которого я должен был остановиться в Москве. Мы расцеловались с мамой и отчимом. Бесшумно тронулся поезд.
В последний раз мимо окон проплыло лицо мамы вместе с вокзалом и углом больницы, в которую два года назад после аварии меня доставили без сознания.
Мне досталась в купе вторая полка. Поезд шел навстречу восходу, лица пассажиров были выспавшимися и жадными до новых впечатлений.
Напряжение как рукой сняло.
Новые пространства жизни разворачивались на оси по дуге, срезаемой поездом. Я был абсолютно один, но, оказывается, все, с таким трудом оставляемое мной, вовсе не было отринуто рвущимся в даль поездом, оно жило во мне, оборачивалось новым обличьем и обретало силы.
Непрерывность внутреннего сосуществования – с родными, друзьями, миром – продолжалось.
Я лежал на второй полке, жадно вбирая набегающие на меня, наливающиеся цветом и светом пространства и с не меньшей жадностью прислушиваясь к голосам подо мной и в соседнем – через переборку купе – отмечал не раз – столь же внезапна до пресечения дыхания печаль.
Быть может, это неведомое ранее по остроге и глубине ощущение проживания собственной жизни?
Но ведь бывало и раньше.
Внезапно: разверзается бездна под ногами, нечем дышать, лишь толчки, бормотанье. Шелест крыл.
Потом вздох: кажется пронесло.
По-русалочьи призрачны и бледно-зелены произрастающие из щелей "волосы Шуламит". Крупен папоротник. Отечен парнолистник. Норичник полынной горечью лезет из нор.
Влажное безмолвье.
Узкий проход в мергелях, поверх которых фосфоритовые скалы.
И – вдруг, свернутый в недрах пустыни, разворачивается глазу в глубоком белом каньоне ручей Цин: обвалы водных растений, водяная стихия, листья и стебли густо и беспрерывно выпрастываются из текущих вод, влажно оплетают склон грубо сотканной власяницей: сквозь нее – ключи – из ключиц, из крестца, из артерий скалы – водопад.
Впадина Эй н-Мор.
Все это над головой. Ошеломляет, обрушивается, затрудняет дыхание, втягивает в глубь каньона пестротой, блеском, зарослями камыша, за ним – внезапно перед глазами – роща тополей.
Ощущение, что погружаешься в недра с узким, в полоску, водопадом вместо неба.
Внезапен, огромен, непроходим – спиралью в глубинах скал, замкнутой камнем, – Эй н-Маариф – красновато-пурпурные натеки по мягким оплывам мергеля, зеленоватые космы висячих растений, прикрывающие острые ребра скального скелета, прозрачный водоем, с щедрой отчетливостью и в то же время полней шей отрешенностью отражающий скалы и небо в ледяных своих, кастальских водах.
Невозможно поверить, что над нами, прямо над головой, у края котловины проходит дорога по пустыне с замершими у обочины "джипами".
Окраина рая.
Не в небе.
В провале земли.
Тенями проскальзываем обратно – сквозь расселину. Тропа выстреливает вверх. Выше ее – ступени, вырубленные в скале, повисшей над кратером каньона. Несколько пещер, вырубленных византийскими монахами-отшельниками в скале еще в те времена, когда Авдат был христианским городом по пути к горе Синай.
Забираюсь в одну: в тех же мергелевых породах, с тем же выходом в небо.
Дальняя, незабываемая молодость моя в пятьдесят пятом, Бекиров яр, рядом с городом Сороки, – ослепительный от солнца вход в пещеру сгущает темень внутри, стоит лишь шагнуть в небо – и понесут тебя огненные кони через огненный вход в огненное безмолвие.
Продолжением тропы виснет по трещине скалы железная лестница в небо.
Стоим над пропастью с водами и зеленью, а в полукилометре видны "джипы", машущие люди, автобусы: цепочка первых экскурсантов отправляется в каньон.
Глубокий и забвенный каньон рассекает надвое едва начавшийся день человека, земную жизнь прошедшего до середины. И по ту сторону – он, внезапно схваченный в тиски тоской, такой реальной и острой, как нож вошедший в грудь. По эту сторону – покинувший летучую спираль летейских вод, выброшенный изгибом райского сновидения на опаленно дышащую поверхность. И разворачивающийся справа от дороги огромной и отчетливой каменной платформой наббатейский город Авдат ощущается кладбищенским продолжением сна, обитатели которого скользнули через рай скую щель в потусторонние пасторали, и словно бы я один брожу по огромному покинутому обитателями городу всей отошедшей моей жизни.
Развалины обрывочны, как сновидения.
Могилы, могилы, стертые облики дорогих мне лиц, и я перебираю взглядом два ряда стройных колонн базилики вдоль шоссе на Эй лат, вбирающих в себя все изящество человеческого гения среди первородной дикости пустыни, где лишь Аллах расположил знаки дорог – груды беспорядочно разбросанных камней; по ним и ныне ориентируются бедуины.
Над площадью церквей, южной и северной, с арочными проходами в руинах стен, подобных аудитории моего детства, открытой всем ветрам, – стремительный сквозь полуразвалы рывок ввысь колокольни.
Через череду столетий, подобных каменным гребням плоскогорья, из отрочества доносится медный удар, звон печали и тревоги, наббатейский набат, видения охваченного пожаром города, вихри пустыни, налетающие топотом арабского нашествия; фигурка звонаря, мечущегося на высоте черным лохматым вороном; рушится замкнутое, церковно-хоральное, насыщенное божественно-сладостным кадильным фимиамом пространство, и вырывается наружу невыветривающийся запах вечных похорон, оседающих посреди пустыни тысячами могил, из которых самая древняя внутри южной церкви – юноши Германа-сына-Александра, умершего в 540 году новой эры от чумы.
Вздрагиваю от неожиданного и так остро вернувшегося из детства ощущения края мира за окраинами развалин древнего города.
Тот же опять запах бренности и печали.
Слово "провинция" пахнет Римом.
В каком столетье, тридцать лет назад, стоим мы на бессарабских холмах, называемых "траяновым валом", самой северной границе римской империи, стоим в солнечном полдне с юношей Германом-сыном-Николая, и печаль, протянувшаяся рассеянно~облачной дымкой поверх трех десятилетий, касается вздрогнувшего при имени Германа моего тела на самой южной границе той же римской империи, в Наббатее?
В какую расселину, как вьюшкой, утягивает время жизни?
Все начинается с незаметного песчаного заноса.
И вот уже археологи раскапывают странное, в два этажа, сооружение: да это печь гончарная, из которой после обжига выходила звонкая и веселая на всю Наббатею керамическая посуда.
– И откуда он взялся, так вот, посреди пустыни, вдруг… Колонны, город? – обалдело спрашивает Стамболи, оторвавшись от фляжки.
Нагая пышущая жаром пустыня замыкает его слова вместе с исчезнувшим за гребнем городом.
Проезжаем Мицпе-Рамон в самый разгар пекла.
Дома, колышущиеся под беспрерывными солнечными ударами, кажутся расплющенными. Марево ощущается ослепительно-жидким, как желе, туманом. Не спасает ни брезент, ни беспрерывное прикладывание к фляге; в тени, под брезентом, как в печи, на солнце, как в пламени.
Нависаем над краем обнажения Рамон – великим провалом с перепадом в триста пятьдесят метров: апокалиптических размеров, с сожженными до черноты стенами и белесоватой окалиной на бескрайнем теряющемся в мареве поддоне, казан вмурован в пространство.
До этого испекшиеся на бубне нагорья, мы проваливаемся в казан, обдающий нас уже вовсе серным дыханием адского пекла. Видимые сверху цепочки разбросанных по испепеленной долине фосфоритовых ядер, обугленных до черноты в отвесном солнечном потопе, кажутся следами дьявола.
В эти часы здесь вообще запрещено передвигаться, но командиры наши времени не рассчитали, и все мы падаем в казан, как кур в ощип. Беспрерывно – команды: пить, омывать лица.
Шоссе после Мицпе-Рамон поуже да похуже. Подъемы, спуски, изгибы. И все вниз, вниз. Вот и самое дно – солончаки, испитые, белесые, скудные.
Но уже накатывает с запада невысокими скалистыми гребнями, плоскими долинами пустыня Фарран – накатывает едва слышимым, но содрогающим пространство гулом: вот-вот распахнется с запада долина потоком движущихся сквозь тысячелетия множеств – именно здесь, где дорога наша взбирается на высоту Фарран, мы вероятнее всего столкнулись бы с внезапно выходящим из долины народом, ведомым Моисеем от Кадеш-Барнеа на Эцион-Гевер, сегодняшний Эй лат. И теперь до самой Йотваты, совершив поворот с запада на юг и сливаясь с миражами, которые, как из раскаленного горна, натекают из восточных долин, от гор Моава, они будут сопровождать нас, то возникая на гребне справа от дороги, то исчезая в долинах, и время будет течь расплавленной лавой одновременно на двух уровнях, разделенных пятью тысячами лет.
Поворот долины в пустыне Фарран – как поворот судьбы мира.
Йотвата – стоянка Моисея.
Йотвата – конечный пункт нашего путешествия.
Гул множеств слабеет, уклоняясь вправо, стекая в широкую впадину Бикат-Ивда.
Воспаленное око солнца плавает в небе, уже начинающем приходить в себя от солнечного столбняка и даже обретать синеву. Добираемся до Китурьь останавливаемся набрать воды в джериканы у развесистого патриаршего дерева. Мощная и разветвленная система корней переплетается с множеством шлангов, питающих водой каждый корень отдельно: дереву не хватает естественной влаги пустыни.
Группа немецких туристов с любопытством смотрит на израильских солдат в запыленных робах, чьи почерневшие от солнца и явно не первой молодости лица довольно еще бодры.
Лающая немецкая речь мгновенно возвращает меня в Вену семьдесят седьмого, к видениям транзитного лагеря по пути из России в Израиль, к еще одной временной стоянке сынов Моисеевых на долгом Исходе через тысячелетия.
Туристам объясняют, что по легенде сам патриарх Авраам, праотец народов земли, делал привал под этим деревом.
Остаток пути до Йотваты – по широкому асфальтированному шоссе, бегущему от Мертвого моря через Содом, на Эй лат и дальше – по окраине пустыни Синай – вдоль Эй латского залива – до Офиры и Шарм-А-Шей ха, до Красного моря.
Темнеет.
Густым багрянцем натекают на нас Моавитские горы.
Рембрандтовым колоритом разворачивается холст неба.
Вино ли это пространства?
Кровь?
4
ИЮНЬ 1956. ЭХО ВЫСТРЕЛА. МОСКВА ВПЕРВЫЕ. ЗОНА. МАСОНСКИЕ МИСТЕРИИ: МАСТЕР ЛОЖИ ИЛИ ЛЖИ? ГИН И ГУМ. БАЛЬЗАМИЧЕСКИХ НАУК ДОКТОРА. ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ. ОЩУЩЕНИЕ РАЗДВОЕННОСТИ И ЭПОХА ПАРНОСТИ. АРХИПЕЛАГБЛАГ. ДОЧЕРИ ЛИЛИТ И БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ГРАМОТНОСТИ. БРУСЧАТКА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.
Май пятьдесят шестого сиротливо и заброшенно витал поверх полупьяных и вечно возбужденных толпищ, запрудивших улицы и парки, так, что казалось, очереди в магазины колбасных и мясных изделий, за сырами и яй цами, а в особенности за рыбой вырастали строевыми шеренгами прямо из сплошной массы гуляк, фланирующих вдоль проспекта Ленина, всем кагалом прущих в парк Пушкина к деревянному павильону, дразнящему запахами жарящихся шашлыков, и равнодушно обтекающих памятник Сталину, по-прежнему государственно глядящему вдаль, как будто ничего и не произошло.
Бросались кагалом к пивным бокалам.
Толпа работала взасос как мощный насос. Накачиваясь вином и пивом, раздувались, становясь похожими на утопленников.
Вонь мочи из-под кустов и деревьев заглушала запахи майского цветения.
Даже излюбленные наши места, где мы готовились к экзаменам, – на Армянском кладбище, на дальних холмах за Комсомольским озером – были забиты людом: и вовсе не нежными парочками или одинокими мечтателями, а неопохмелившимися кодлами, которые пили "с кондачка", "брали по банке", "на троих", "по пятой не закусывая", глядели на нас с Игнатом, бредущих с книгами и в стельку трезвых, как на ненормальных, без конца зазывая выпить "на дармовщинку".
Сдав экзамен, мы шли с ним в пельменную на углу Котовского и 25-го Октября.
Попивая пиво и заедая его горячими пельменями, мы говорили о всякой всячине, но, главным образом, прощались, ибо впервые в жизни я готовился в дальнюю дорогу: сначала в Москву, в ГИН – государственный институт геологии: там меня уже ждал мой сосед по комнате аспирант Миша Жеру; он брал меня практикантом на Бай кал, где собирал материалы для диссертации. Игнат оставался на практике в Молдавии.
Времени для выяснения мучающих нас вопросов было в обрез, и мы бродили до поздней ночи среди уже сатанеющих от безделья толп, мы были погружены в выяснение корней палачества, деревья качались на ветру за нашими спинами вместе с тенями великих, Сократа – за моей спиной, Гегеля – за Игнатовой.
В беспечно жаркий май ский день, ополоумевший от пьяни и вдрызг праздничного равнодушия раздался одинокий выстрел, эхо которого потрясло страну сильнее всяческих канонад.
Тринадцатого мая застрелился Фадеев.
Поначалу я не принял столь остро это сообщение в чаду экзаменационной сессии, только изредка слыша в толпе повторяемое двустишие: "раздался выстрел: таков конец соцреалистов".
Я ехал ранним пригородным в Бендеры, с трудом отыскав место: вагоны были забиты людом, в утреннем нежарком и чистом солнце по-кукольному качались словно бы в беспамятной молитве, скорее похожей на мелкую трясучку, сотни лиц, запухших и измятых, как с тяжкого похмелья.
Ночь я собирался провести дома и на следующее утро сесть в поезд "Бухарест – Москва", который в Бендерах менял локомотив и направление движения.
Настроение было странно двусмысленным. Я был подобен человеку, собирающемуся вступить в холодную воду: ему боязно да и непривычно оторваться от уже устоявшей ся стихии, с которой он расстается, как снимает одежду, – сначала расстается с парками и улицами, затем с общежитием и товарищами, наконец с другом и, прервав с ним на полуслове уже не первый год длящееся внутренне беспрерывное сосуществование, вскакивает в вагон беспомощным и нагим, и стечение лиц вокруг, которых до сих пор проносило мимо по касательной, внезапно подступает в упор угрюмым молчаньем, ощутимо и угрожающе вторгаясь в его внутренний покой и цельность.
Предстояло еще проститься с родным домом.
Мама без конца перекладывала вещи в моем уже видавшем виды фанерном чемодане, бабушка не отставала ни на шаг: ложился ли я на диван, садилась рядом; гулял по двору, развешивала рядом белье на веревке; выходил на улицу – стояла у калитки, при этом не говоря ни слова, но слишком вплотную присутствуя, словно бы стараясь на все долгое расставание внедрить в меня силу своей любви и духа, как делают прививку против любой подстерегающей в будущем болезни.
Не хотелось идти прощаться с городом, парком юности, рекой детства, усиливать и так с трудом одолеваемую внутреннюю растерянность. Уже всех сморил сон, а я лежал на топчане, прижавшись ухом к небольшому обшарпанному приемнику, приобретенному отчимом по дешевке, различая в рассеянном свете уличного фонаря расплывающиеся очертания папиной мраморной чернильницы с медной крышечкой в виде шлема с шишаком на его же письменном столе единственное, что сохранилось от огромного, такого для меня загадочного мира отца, уже до последнего грана растворившегося в иных, чисто метафизических измерениях, я вслушивался в шорохи и попискиванья дальних радиостанций, как в первые позывные устанавливающих со мной связь пространств, в которые я ступлю, едва коснувшись ногой ступеньки вагона; на миг задремав, я вздрагивал от скребущей душу помехи.
Еще не совсем рассвело.
Бабушка опустила мою руку, как отпускают последнюю соломинку, собираясь идти на дно.
Отчим нес чемодан. Мама неслышно шагала рядом. Проводник проверял билеты. Мама еще и еще раз наказывала, что передать нашему родственнику, дяде Семе Трогуну, у которого я должен был остановиться в Москве. Мы расцеловались с мамой и отчимом. Бесшумно тронулся поезд.
В последний раз мимо окон проплыло лицо мамы вместе с вокзалом и углом больницы, в которую два года назад после аварии меня доставили без сознания.
Мне досталась в купе вторая полка. Поезд шел навстречу восходу, лица пассажиров были выспавшимися и жадными до новых впечатлений.
Напряжение как рукой сняло.
Новые пространства жизни разворачивались на оси по дуге, срезаемой поездом. Я был абсолютно один, но, оказывается, все, с таким трудом оставляемое мной, вовсе не было отринуто рвущимся в даль поездом, оно жило во мне, оборачивалось новым обличьем и обретало силы.
Непрерывность внутреннего сосуществования – с родными, друзьями, миром – продолжалось.
Я лежал на второй полке, жадно вбирая набегающие на меня, наливающиеся цветом и светом пространства и с не меньшей жадностью прислушиваясь к голосам подо мной и в соседнем – через переборку – купе. Как ни странно, разговор и тут и там шел о самоубийстве Фадеева.
Позднее, в течение дня, проходя по вагонному коридору, я несколько раз и в разных купе слышал разговоры об этом: говорили громко, как бывает, когда трудно сдержать рвущуюся наружу взволнованность.
Поражало, какое количество баек, в которых трудно было отличить правду от вымысла, вертелось вокруг этого дела, до каких деталей договаривались случайно оказавшиеся в одном вагоне или купе люди, по виду своему весьма далекие от того центра со своим образом жизни, тай нами и конфликтами, в котором и произошло самоубийство: говорили о том: что в последние месяцы он лежал в больнице после долгого и смертельного запоя, что раскрытие преступлений Сталина вконец его доканало, ведь и он как представитель Союза советских писателей, пусть косвенно, способствовал гибели ни в чем неповинных и наиболее талантливых, короче, приложился к столько лет бушевавшему темному злодей ству, что падению его особенно способствовали возвращающиеся из сибирских лагерей оставшиеся в живых писатели, что за день до самоубийства к нему пришла какая-то совсем искалеченная писательница, обвинила его в убийстве, начала кричать и трястись в припадке.
Кто-то спросил: куда пришла к нему, в Союз, что ли, писателей?
Да нет же, ответил другой голос, его уже там давно не было, в правлении Союза, она к нему домой приехала, на дачу, в семнадцати километрах под Москвой, в Переделкино.
Так я впервые в жизни услышал это имя – Переделкино, с которым у меня лет через пятнадцать столько будет связано.
Кто-то с явной еврейской картавостью возражал: не совсем это правда, Фадеев пытался помочь репрессированным, например, Иосифу Певзнеру, который был прототипом его Левинсона в романе " Разгром командиром особого отряда на Дальнем Востоке.
Еще бы, сказал другой голос, героя-то своего конечно же спасать надо.
Знаем мы этих особистов, обиженно сказал третий голос.
Одни говорили, что до самоубийства он созвал гостей, все перепились. Другие говорили, что был один-одинешенек и абсолютно трезв, позвонил Ворошилову и сообщил, что собирается делать, тот всполошился, но было поздно.
Я лежал на верхней полке, не видя лиц говорящих, что было весьма кстати и ощущалось как продолжение затаенных человеческих пространств, наплывающих то громче, то слабее – в ночном радиоприемнике – глухим исподним гулом, бубнением, тревогами, выбалтывающих мне на ухо свои страхи, сомнения, разочарования и надежды.
Кто-то отчаянно доказывал, что Фадеев излечился от алкоголизма, и всем его окружающим казалось, что восстановил душевное равновесие.
Я лежал и думал о том, что это был год полного нарушения душевного равновесия страны, очнувшейся от угара, что в свете моих чувств и размышлений несколько часов назад у Фадеева просто разрушилась непрерывность внутреннего сосуществования с миром и гамлетовское "Распалась цепь времен" вспыхнуло огненными буквами от грохнувшего пистолета, приставленного к собственному лбу или груди.
Под рев фанфар и вдохновенное пение десятилетиями летели головы; теперь возвращалось эхо – беспрерывная беззвучная панихида, и это было, как в немом кино: под бравурные звуки оркестра или фортепьяно в зале на экране идет нескончаемое и беззвучное изображение массовых похорон, и его не могут заглушить хоры-александровых-имени-пятницкого, заполнившие все палубы государственного корабля, где партия – наш рулевой, никакие оптимистические-трагедии и незабываемые-девятьсот-девятнадцатые, только иногда внезапный взлет церковного песнопения на миг пробирает до костей потусторонним холодом воздаяния и возмездия в ожидающий всех день Страшного суда.
Но раздается выстрел Фадеева – и только на миг оживает истинная звуковая дорожка нескончаемого немого похоронного шествия – в этом звуке тонут все сладостные аккорды и голоса.
Я повернулся набок и уснул.
Сон мой был глубок и легок.
Проснулся, как переворачиваются на спину посредине широкой и вольной реки: поезд медленно катил над огромным распахнутым вдаль плесом со вспыхивающими на солнце стеклами дальних парящих и парящихся в мареве зданий.
Это был Днепр. Это был Киев.
Наскоро перекусив, я опять провалился в сон, в глубине которого слышались голоса входящих новых пассажиров, толчки и скрежет вагонов, неожиданно и отчетливо произнесенное имя – "Конотоп", обернувшееся конским топом в закатной степи, медленно и сладко закатывающейся в сон.
Проснулся на рассвете от звуков радио.
Исполнялась новая "Песня без слов" – гимн Советского Союза.
Уставшие от дискуссий пассажиры нижних полок, спали крепким сном. Не хотелось спускаться с полки, будить их. Я съел крутое яй цо из приготовленных мне мамой на дорогу, запил остатками крем-соды, извлек из-под подушки заложенную туда еще вчера книжку о масонах без начала и конца, чтение которой было столь же безначальным и незавершающимся.
До Москвы оставалось несколько часов езды: пей – заж за окнами существенно изменился, стал строже, холоднее, севернее, что ли, по колориту; курчаво-солнечную украинскую древесную веселость сменили по-лешачьи залегшие темной хвоей брянские леса с редкими белоствольными прострелами берез и медленным багрянцем зари поверх деревьев.
А масоны в книге, уже по локоть в крови, как попугаи, орали о "разуме, свободе и прогрессе" и водили жаждущих вступить в ложу с завязанными глазами по бесконечным коридорам. Это уже их наследники усовершенствовали ритуал: в конце долгого коридора разряжали пистолет в затылок. Это уже их наследники унаследовали обет молчания, а если надо, коллективного крика осуждения. Редкие случаи слияния масонов с иезуитами, у наследников были сплошь и рядом: партия и органы – близнецы-братья, сиамские, не-разлей – кровь, да только в процессе симбиоза брат-иезуит одолевать стал; это же только вслушаться – иезуитская ложа вольных каменщиков, процветавшая в Клермоне в восемнадцатом веке, а ныне расцветшая в восемнадцатом году. Мистику-то всю в масонство внесли розенкрейцеры, этакие массовые символы – роза и крест: распинают, а затем покрывают розами; убивают, к примеру, Кирова, а затем всей стаей стоят в почетном карауле; всей иррациональной алхимической восточной магией мистифицируют и вовсе машинные слова западной цивилизации – "политбюро, секретариат, комиссариат", а то и вообще начинают пугать мир заклинаниями – ВЦИК, ЧК, ГПУ, Угрозыск, НКГБ – эти бесконечные спотыкающиеся и сливающиеся "г", "р", "б" – горбаты и гробоносны. Тем временем масонство мальтийским своим орденом выступает в крестовые походы. Против кого?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































