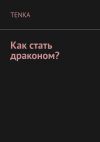Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
«Как странно и глупо кроится жизнь…» (1922 – 1923)
О только что вышедшей книге «Вёрсты» Пастернак узнал от Маяковского, очень ее хвалившего. Было это до 11 апреля 1922 года – дня, когда на похоронах Т. Ф. Скрябиной, вдовы композитора, Борис Леонидович в последний раз столкнулся с Цветаевой перед ее отъездом из России. Тогда он передал ей слова Маяковского, хотя сам книги еще не видел. «Вёрсты» попали к нему в руки лишь два месяца спустя, когда Марина Ивановна уже была за границей. И тотчас же в Берлин летят ошеломленные строки. (Впрочем – не летят: Пастернак не знал адреса, и письмо переслал Цветаевой их общий знакомый, писатель Илья Эренбург.)
«Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыданья, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворенья на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб» – случилось то же самое.
<…> Простите, простите, простите! Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду» (ЦП, 11).
Пастернак сетует, что не сразу приобрел сборник
«Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже „Версты“, и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта!» (ЦП, 12)
Борис Леонидович нежно упрекает Цветаеву за то, что она не подарила ему своей книги, называет ее «первостепенным и редким поэтом» (ЦП, 13), в конце письма говорит о скорой поездке за границу, о своем желании встретиться – и подписывается: «Потрясенный Вами Б. Пастернак» (ЦП, 13).
Можно представить, какое впечатление произвело на Цветаеву, не избалованную признаниями собратьев по перу, это бурное излияние чувств! Но она крепится и отвечает лишь через два дня после получения письма, давая ему «остыть в себе» (ЦП, 13). Возможно, поэтому на первый план в ответе выступает чувство обиды: как мог НЕ заметить? (Чего-чего, а цену себе Цветаева знала.) Она подробно вспоминает несколько их встреч, а затем, словно стремясь уколоть, признается, что и сама практически не знакома с его творчеством – знает всего 5, 6 стихотворений (ЦП, 16). Тем не менее, живо откликается на предложение о встрече.
Вскоре после отправки письма Марина Ивановна получила посылку с недавно вышедшей книгой «Сестра моя жизнь». (Дарственная надпись на ней помечена тем же днем, что и первое письмо Пастернака. Однако в ответе о ней не упоминается, значит, книга дошла позже.) Прочитав ее, Цветаева взахлеб, буквально за несколько дней, пишет статью «Световой ливень», которая до сих пор остается одним из наиболее проникновенных откликов на книгу.
Откровенно признаваясь: «стихи Пастернака читаю первый раз», «с самим Пастернаком знакома почти что шапочно»88
Цветаева М. И. Световой ливень. Поэзия вечной мужественности. // В кн.: Цветаева М. И. Об искусстве. – М.: Искусство, 1991. – С. 261.
[Закрыть], она доверяет не столько воспоминаниям, сколько собственным представлениям о сущности Поэта и, опираясь на них, размашистыми мазками создает образ автора. Начинает со ставшего хрестоматийным портрета: «в лице зараз и от араба, и от его коня: настороженность, вслушивание, – и вот-вот… Полнейшая готовность к бегу»99
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 261.
[Закрыть]. Чуть ниже – о его даре: «Стих – формула его сущности. Божественное „иначе нельзя“»1010
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 262.
[Закрыть]. Увлекаясь, Цветаева видит в нем воплощение демиурга, создателя поэзии, ровесника «первых рек, первых зорь, первых гроз», появившегося на свет «до Адама»; в нем ей чудится «веселость взрыва, обвала, удара, наичистейшее разряжение всех жизненных сил и жил, некая раскаленность добела, которую – издалека – можно принять просто за белый лист»1111
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 263.
[Закрыть]. И чуть ниже:
«Пастернак – это сплошное настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки. До него ничего не было. Все двери с петли: в Жизнь!»1212
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 263.
[Закрыть]
Похоже ли это на реального Бориса Леонидовича? Да, похоже, но – лишь отчасти. С той же степенью достоверности можно утверждать, что это написано о… Марине Цветаевой. Или, к примеру, о Маяковском. Впрочем, дальше Марина Ивановна пытается «здраво и трезво» (ее любимая формула, означающая уступку внешней необходимости) охарактеризовать саму книгу. Она очень точно выхватывает несколько существенных особенностей поэзии Пастернака (конкретность бытовых деталей; показ революции «через природу»1313
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 270.
[Закрыть]; один из любимых образов поэта – дождь). Выхватывает, и – щедро делится с читателем россыпью «вкусных» цитат, подтверждающих ее правоту. Под конец сама чувствует, что «ничего не сказала. Ничего – ни о чем – ибо передо мной: Жизнь, и я таких слов не знаю». Чуть ниже уточняет: «Это не отзыв: попытка выхода, чтобы не захлебнуться». И в самом конце – еще одна фраза, вошедшая в учебники литературы: «Единственный современник, на которого мне не хватило грудной клетки»1414
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 274, 275.
[Закрыть].
О том, что́ почувствовал «современник», получив по почте рукопись статьи вместе с только что вышедшими сборниками «Разлука», «Стихи к Блоку» и поэмой «Царь Девица», Цветаева долгое время могла лишь гадать – ответное письмо Пастернак напишет только через четыре месяца, 12 ноября. За это время Марина Ивановна пережила бурное увлечение владельцем берлинского издательства «Геликон» А. Г. Вишняком и, не прижившись в Берлине, 1 августа 1922 года уехала в Чехию. Денег не хватало, поэтому на следующие три года пристанищем семьи будут съемные комнаты в деревнях под Прагой.
А Пастернак с женой приехали в Германию в 20-х числах августа – снова разминулись… (Возможно, первопричиной задержки с ответом и был расчет на личную встречу.) Приехал в надежде переломить творческий застой. В Берлине его встретили хорошо, тот же Вишняк заключил договор на издание книги стихов «Темы и вариации» (она появится в конце декабря 1922 года). Но одновременно в эмигрантских литературных кругах сформировалось мнение, будто сила Пастернака – в его… непонятности. Поэта это бесило: «Я хочу, чтобы меня понимали зыряне (старое название народности коми, – Е.З.)», – оборвал он одного из поклонников.
Любопытно, что почти о том же скажет и Цветаева в письме от 10 февраля 1923 года. Но – как скажет!
«Пастернак, есть тайный шифр. Вы – сплошь шифрованы. Вы безнадежны для «публики». Вы – царская перекличка или полководческая. Вы переписка Пастернака с его Гением. <…> Если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь «отстать», другие, зорчайшие, чуя. Но знать… Да и я Вас не знаю, никогда не осмелюсь, потому что и Пастернак часто сам не знает, Пастернак пишет буквы, а потом – в порыве ночного прозрения – на секунду осознаёт, чтобы утром опять забыть.
А есть другой мир, – продолжает она, — где Ваша тайнопись – Детская пропись. Горние Вас читают шутя. Закиньте выше голову – выше! – Там Ваш «Политехнический зал»» (ЦП, 36).
Как видим, для Цветаевой сложность пастернаковской поэзии – еще одно свидетельство его избранности высшим, духовным миром. И одновременно – какая блистательная отповедь стремлению Пастернака «быть понятным», о котором она, к слову, вряд ли знала. И уж точно не знала Марина Ивановна, что в это время уже вышла книга Райнера Мария Рильке «Дуинезские элегии», центральная тема которой – проблема взаимопонимания «этого» и «того» мира…
При всей своей усидчивости и аккуратности, Борис Леонидович частенько запаздывал с ответами на письма. Мог неделями не писать даже родителям и сестрам, которых нежно любил. Оправдываясь перед Цветаевой за задержку, он прежде всего пытается объяснить ей свою «неспособность быть или только воображать себя человеком всегда и во всякое время» (ЦП, 17). Пастернак внушает корреспондентке, что живет только в периоды творческого подъема, а в остальное время предается «полному, отчаянному и решительному бездействию» (ЦП, 18), которое мешает даже писать письма и общаться с друзьями. Возможно, этим он хотел не только оправдаться, но и открыть Цветаевой свое истинное, отнюдь не идеальное лицо. Однако, обращаясь к «Световому ливню», он ни слова не говорит о несогласии с автором, отмечая только случаи «пониманья, подчас загадочного» (ЦП, 19) принципиально важных особенностей книги, например, «тайны» ее «революционности», показанной через буйство природных стихий.
И все же главным потрясением стала для него не статья, а небольшое стихотворение, вписанное Цветаевой в книгу «Разлука»:
Слова на сон
Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи…
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!
Словно во ржи лежишь: звон, синь…
(Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал…
Бормот – сквозь жимолость – ста жил…
Радуйся же! – Звал!
И не кори меня, друг, столь
Заворожимы у нас, тел,
Души – что вот уже: лбом в сон,
Ибо – зачем пел?
В белую книгу твоих тишизн,
В дикую глину твоих «да» —
Тихо склоняю облом лба:
Ибо ладонь – жизнь.
Колдовское по звукописи, темное, сплошь построенное на прихотливых ассоциациях, оно самим своим появлением свидетельствовало: Марина Цветаева вошла в мир пастернаковской лирики. Вошла легко и свободно, ничего не разрушая и не теряя собственного своеобразия. Разумеется, Пастернак это почувствовал:
«У меня было ощущение (и оно не прошло), что во многом, вплоть до самого звучанья, „Слова на сон“ до крайности близки, – и намеренно – миру „Сестры“. Не смейтесь надо мной и простите, если это не так» (ЦП, 18—19),
– тут же оговаривается он, словно боясь поверить в чудо духовного сближения. И не мудрено: такого глубокого взаимопонимания у Бориса Леонидовича, пожалуй, еще ни с кем не было… Он и не пытается скрыть, что стихотворение помогает ему поверить в свои силы: «„Слова“ – поддержка в минуты сомненья в себе, – на что я – мастер вне соревнованья» (ЦП, 19).
Получив долгожданный ответ и убедившись в правильности своих догадок, Цветаева распахивает перед ним свой мир.
«Мой дорогой Пастернак!
Мой любимый вид общения – потусторонний: сон: видеть во сне, – так, без долгих вступлений, начинает она письмо. И продолжает:
– А второе – переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенное, нежели сон, но законы те же.
Ни то, ни другое – не по заказу: снится и пишется не когда нам хочется, а когда хочется: письму – быть написанным, сну – быть увиденным» (ЦП, 23—24).
Так, легко и великодушно, Марина Ивановна оправдала задержку письма. Ниже, в связи с возможной встречей, она возвращается к теме общения:
«Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча – над. – Закинутые лбы!» (ЦП, 25).
Казалось бы, логика ясна. Испытавшая немало разочарований от слишком близкого общения с возлюбленными (среди которых, к слову, были и поэты), Цветаева приглашает Пастернака к духовному диалогу, в котором для ненавистного ей «быта» просто нет места. Но не так проста Марина Ивановна. Буквально в следующем абзаце письма эта логика разлетается вдребезги:
«Но сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу – ясно и трезво: на сколько приехали, когда едете. Не скрою, что рада была бы посидеть с Вами где-нибудь в Богом забытом (вспомянутом) захудалом кафе, в дождь. – Локоть и лоб» (ЦП, 25).
Времена и впрямь были не самые благоприятные для откладывания встреч на будущее. Но даже по тому, что Цветаева тщательно прячется за реалии этого времени, чувствуется, как страстно жаждет она свидания, не «потустороннего», а самого что ни на есть земного.
В этом противоречии – стержень цветаевской энергетики: с отрочества устремленная к «тому» свету, верящая снам и фантазиям больше, чем самым точным фактам, она не в силах была ограничиться только его дарами. Цветаеву переполняет жажда жизни, признания, взаимопонимания… Она непременно хочет иметь в руках вещественное доказательство расположения Пастернака и просит его подарить ей на Рождество Библию, «немецкую, непременно готическим шрифтом», прибавляя: «Буду возить ее с собой всю жизнь» (ЦП, 27).
Ответ Бориса Леонидовича, снова запоздавший на пару месяцев, был явно «не про то». Большую его часть занимает восторженный анализ присланной ему Цветаевой поэмы «Царь Девица». А в конце – странная приписка:
«Это письмо лежит у меня более месяца. <…> Вероятно, в заключенье мне хотелось, как говорится, вывернуть перед Вами свою душу, а это, по счастью, никогда не удается. <…> Тяжело мне, ах как тяжело. И ведь бо́льшая часть моей жизни прошла так, и кажется, – нет, зачем же так, лучше прямо сказать: – и вижу, так пройдет вся остальная» (ЦП, 29).
Цветаева поймет эти строки как намек на сомнения в творческих силах, о которых Пастернак упоминал в предыдущем письме, и примется горячо убеждать его в обратном. Одно за другим она пишет два больших письма (второе посвящено впечатлениям от только что вышедшей и присланной ей книги «Темы и вариации»).
«Пастернак!
Вы первый поэт, которого я – за жизнь – вижу, – так начинается первое из них. – Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше его самого, хотя больше всех остальных“ (ЦП, 33). А дальше следует почти любовное признание: „Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе – далеко! И было одно место – фонарный столб – без света, сюда я вызывала Вас. – «Пастернак!» И долгие беседы бок-о́-бок – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ (единственное место в России, где я мыслю Goethe!)» (ЦП, 35).
Марина Ивановна предельно искренна, она дотошно фиксирует каждое изменение чувства. Вот ей кажется, что наваждение спало. («Рассказываю, потому что прошло». ) И тут же – обратное утверждение: «И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми „косыми ливнями“ – это будет: мой вызов, Ваш приход» (ЦП, 35). В черновике этих строк нет, зато после «все прошло» следует еще более красноречивое: «Нет, впрочем, лгу!» (ЦП, 31)…
Итак, Цветаева-поэт продолжает уверенно творить свой миф о Пастернаке, поскольку на собственном опыте изучила силу парадоксальной реальности фантазий. Более того, стремится убедить его в том, что все, сказанное ею, – правда. И действительно, она с поразительной точностью угадывает основополагающие черты творческой личности Бориса Леонидовича. Например, такую: «…Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта – отчаяние сказать» (ЦП, 39). Откуда ей знать, что над проблемой точного выражения своего понимания мира он бился с ранней юности и будет биться до последнего дня?.. Еще одна догадка:
«А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь» (ЦП, 40).
Чем не формула «Доктора Живаго», до начала работы над которым еще двадцать с лишним лет? Впрочем, есть и более близкие по времени доказательства цветаевской прозорливости. В начале 1923 года в Берлине Пастернак пытается продолжить повесть «Детство Люверс», а затем, до начала 30-х годов, напишет три поэмы, роман в стихах «Спекторский» и автобиографическую прозу «Охранная грамота».
Для этой Цветаевой встреча с Пастернаком действительно – «сшибка лбами». Но есть еще и Цветаева-человек, прекрасно знающая, каким обманчивым может быть воображение. Ей нужно не только внимание бесплотной тени, но и понимание живого человека. Хочется, в конце концов, «просто рукопожатия» (ЦП, 37). А между тем, Марина Ивановна практически ничего не знает о Пастернаке. (В черновике гадает: «Сколько Вам лет? <…> 27?» (ЦП, 33). В день, когда писалось это письмо, Борису Леонидовичу исполнилось 33 года…) Она признается: «Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, по той слепоте, которая у меня к Вам» (ЦП, 37). Стремлением убедиться в реальности своего корреспондента объясняется и просьба о Библии, и еще одно странное желание:
«„Так начинаются цыгане“ – посвятите эти стихи мне. (Мысленно.) Подарите. Чтобы я знала, что они мои. Чтобы никто не смел думать, что они его» (ЦП, 36).
Такое можно попросить только от отчаянного одиночества…
Однако Пастернак, сам начавший переписку с ошеломляющих признаний, явно откладывал объяснение до личной встречи. Правда, отозвался быстро, но – открыткой с осторожным увещеванием:
«Хотя бы даже из одного любопытства только, не ждите от меня немедленного ответа на письма, потому что, будучи без сравненья ниже Вас и Ваших представлений, я не принадлежу сейчас, как мне бы того хотелось, – ни Вам, ни им» (ЦП, 43—44).
Марину Ивановну такой ответ явно озадачил. В тетради появляются вопросы: «Любезность или нежелание огорчить? Робость <вариант: глухота> – или нежелание принять?» И несколькими строками ниже – чеканная формула: «Отношение к Вам я считаю срывом, – м.б. и ввысь. (Вряд ли.)» (ЦП, 44).
Неизвестно, узнал ли об этих сомнениях Пастернак. Однако 6 марта он пишет ей письмо, главный смысл которого (для Цветаевой) был заключен в первых фразах:
«Мы уезжаем 18 марта. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях» (ЦП, 44).
Видимо, почти не надеясь на встречу в Берлине, в этом письме Борис Леонидович осторожно проясняет свое отношение и к самой Цветаевой, и к созданному ею мифу. Он утверждает, что цветаевские «догадки» свидетельствуют вовсе не о нем, «как, за всеми поправками, Вам все-таки угодно думать, – о, далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы, вероятно, не в пример больше моего и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движеньем» (ЦП, 45). Иначе говоря, он видит в портрете, созданном Цветаевой, близкий обоим идеал поэта. Отсюда естественно вытекает следующее за этими словами требование:
«Темы „первый поэт за жизнь“, „Пастернак“ и пр. я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. <…> Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это – больно» (ЦП, 45).
А в конце письма так же осторожно Пастернак дает понять, насколько дорога стала ему Цветаева после последних «больших» писем. «Дорогая Марина Ивановна, – пишет он, – будемте действительно оба, всерьез и надолго, тем, чем мы за эти две недели стали, друг другу этого не называя» (ЦП, 45).
Причину его сдержанности Цветаева скоро узнает. Само же письмо стало для нее одновременно признанием и приговором.
«…Я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно» (ЦП, 49).
В последней фразе – суть драмы: для поездки в Берлин требовалась виза, получить ее за оставшиеся дни Марина Ивановна не могла…
Возможно, только после этого письма Цветаева поняла, как важна была для нее, заброшенной судьбой в чешское захолустье, эта встреча с нечаянно обретенным единомышленником. Теперь все ее помыслы обращены к обещанному свиданию в Веймаре.
«А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. <…> …ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью)» (ЦП, 50).
Видимо, задетая осторожным утверждением Пастернака о том, что ее «горячность» направлена «не по принадлежности», Цветаева пытается определить суть своего чувства к нему – и приходит к неожиданному признанию:
«Я честна и ясна, сло́ва – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) … Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным, – Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: чувства, уже исключающие понятие меры!» (ЦП, 50).
Марина Ивановна знала, о чем говорит. Впрочем, знала не только она, но и многие близкие ей люди. Пожалуй, наиболее точно алгоритм ее чувств описал Сергей Яковлевич Эфрон в письме Максимилиану Волошину, написанном в декабре 1923 года.
«М <арина> – человек страстей. Гораздо в большей мере чем раньше – до моего отъезда (в армию, – Е.З.). Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда (теперь так же как и раньше), вернее всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М <арина> предается ураганному же отчаянию. Состояние, при к <отор> ом появление нового возбудителя облегчается. Что – не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном (пожалуй вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу».
Здесь верно все, кроме первой фразы. Причиной такого поведения была не столько «страстность», сколько сознательное подчинение всей жизни интересам Поэзии, творчества. (Недаром в конце появляется «книга»! ) В том же письме Пастернаку Марина Ивановна роняет многозначительное признание.
«Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом – благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь – только перо!» (ЦП, 51).
(В доказательство своих слов она приложила к письму 10 стихотворений, написанных в середине февраля.)
Конечно же, эти слова относится не только к Пастернаку. Большинство лучших стихотворений Цветаевой – обращения к возлюбленным или детям. Да и насчет «когда-нибудь сделаться большим поэтом» Марина Ивановна явно лукавит. Однако источник вдохновения – несказа́нность чувства – назвала абсолютно точно. Как, впрочем, и потребность «выдышаться» в Пастернака – близкое знакомство с героями своих романов, как правило, действовало на Цветаеву отрезвляюще.
На это письмо Борис Леонидович ответил почти мгновенно – 20 марта, накануне отъезда из Германии. Зная, что встречи не будет, он наконец-то решился раскрыть перед корреспонденткой всю сложность своего положения – сложность, невольно вызванную письмами Цветаевой:
«Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой, терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всей горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит» (ЦП, 62).
Ситуация, в общем-то, банальна: молодая жена, к тому же, ждущая ребенка (об этом Пастернак тоже сообщает в письме), ревнует мужа к его корреспондентке. Ревнует, с бытовой точки зрения, вполне обоснованно – письма Цветаевой (и, видимо, не только они) дают к тому множество поводов. Вообще кажется странным, что Борис Леонидович не скрыл от жены хотя бы часть переписки. Однако для него, впервые и очень серьезно строящего семейную жизнь, самая невинная «ложь во спасение» была недопустима. Перед глазами был пример – образцовый брак родителей, основанный (по крайней мере, в восприятии детей) на безусловном доверии и взаимном уважении. Вот только в собственной семье наладить доверительные отношения не очень получалось…
Пастернак искренне верит в то, что чувства, которые испытывают он и Цветаева, всецело относятся к духовной сфере, и ревность жены – не более чем недоразумение. Сразу после приведенных строк он пишет:
«Это роковая незадача, что мы не встретились втроем… Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразумений» (ЦП, 62—63).
Он несколько раз называет Цветаеву сестрой, словно стремясь внушить ей свое понимание их отношений, а ближе к концу, признавшись, что пишет тайком от жены, прибавляет: «Этот один обман да простится всем нам троим, – он невольный, дальше поднимемся, другого никогда не будет» (ЦП, 64). Вот уж где бездна «ребячливости»…
Впрочем, и сам Борис Леонидович, видимо, чувствовал, что выдает желаемое за действительное. Иначе зачем он «благодарит Бога», что не встретил ее летом семнадцатого года. «А то бы я только влюбился в Вас» (ЦП, 64). Значит, влюбленность – есть?..
Пастернак просил Цветаеву не посылать ему писем, пока он не напишет из Москвы. В черновых тетрадях Марины Ивановны исследователи вычленили ряд фрагментов, написанных в ответ на это письмо, но были ли они отосланы адресату – неизвестно…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?