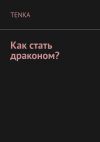Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
С оглядкой в будущее (1924 – май 1925)
Переписка прервалась на год. За это время в жизни обоих произошли серьезные события.
Пастернак усиленно занимался обеспечением прожиточного минимума выросшей семьи – в сентябре 1923 года у него родился сын Евгений. Дело оказалось непростым, одно время (правда, несколько позже) пришлось заниматься даже сбором библиографии о Ленине. Вспоминая об этом, во «Вступлении» к роману «Спекторский» он иронично напишет:
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.
Цветаева же во второй половине 1923 года пережила, пожалуй, самое сильное из своих «сбывшихся» увлечений. Ее возлюбленным стал товарищ мужа по первым годам эмиграции Константин Родзевич. Чувство было взаимным. Может быть, впервые Марина Ивановна почувствовала себя счастливой – без забот, страхов и волнений за любимого. Родзевич даже предложил ей стать его женой, но… Но дальше произошло то, что происходило всегда (исключением был только Сергей Эфрон). Счастливый влюбленный не смог, как говорила в подобных случаях сама Цветаева, «вместить в себя» возлюбленную во всей ее сложности (проще говоря, соответствовать созданному ею образу), хотя бережно и целомудренно хранил память о ней всю свою долгую жизнь. Страдая сама и мучая Сергея Яковлевича (именно в этот период он написал процитированное выше письмо), Марина Ивановна металась между мужем и Родзевичем и в конце концов осталась в семье. Вскоре пережитое чувство «аукнулось» двумя шедеврами – «Поэмой Горы» и «Поэмой Конца».
…Год молчания доказал обоим: их чувства – не мимолетны, их невозможно ни забыть, ни превозмочь.
«Пастернак, полгода прошло, – нет, уже 8 месяцев! – я не сдвинулась с места, так пройдут и еще полгода, и еще год – если еще помните! – записывает Цветаева в рабочую тетрадь в январе 1924 года. – Срывалась и отрывалась – только для того, очевидно, чтобы больнее и явнее знать, что вне Вас мне ничего не найти и ничего не потерять. Вы, моя безнадежность, являетесь одновременно и всем моим будущим, т.е. надеждой. <…> Ни одна строка, написанная с тех пор, Вас не миновала, я пишу и дышу в Вас (как цель, место, куда пишешь). Я знаю, что когда мы встретимся, мы уже не расстанемся» (ЦП, 68). И чуть ниже – о Родзевиче, не называя имени: «Я так пыталась любить другого, всей волей любви, но тщетно, из другого я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас (как на поезд заглядываются, долженствующий появиться из тумана)» (ЦП, 69).
О том же пишет и Пастернак весной 1924 года в ответ на несохранившееся письмо (или устную весть?) от Цветаевой. (Кстати, в нем он впервые называет ее просто по имени.)
«Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная, с тем чтобы когда-нибудь и как-то (и кто скажет, как?) отправиться только и дышать им, как отправляются в горы или на море или зимой в деревню. <…> В том, как я люблю Вас, то́, что жена моей любви к Вам не любит, есть знак неслучайный и себе подчиняющий, – о, если бы Вы это поняли! Что он может значить? А Бог его знает. У него может быть только два значенья. Либо нам не суждено свидеться (ну скажем, меня вдруг завтра не станет, и тогда к чему было бы понапрасну их (семью, – Е.З.) огорчать или отчуждать). Либо же суждено нам, и в это я верю, встретиться вне всякой неправды, как бы непонятно и несбыточно это ни казалось» (ЦП, 70, 71).
В том же письме он просит подругу присылать новые стихи. Пользуясь этим разрешением, она буквально в один присест переписывает целую тетрадь – 26 адресованных ему стихотворений, датированных мартом-октябрем 1923 года. Лучше всякого письма могли они поведать о том, что́ пережила и передумала Цветаева за это время.
Все стихотворения расположены в хронологическом порядке, и потому похожи на своеобразный дневник. Открывает его цикл «Провода», написанный 17—20 марта, в те самые дни, когда Цветаева мысленно провожала Пастернака в Россию. Главной темой его, естественно, стала боль расставания:
– Слышишь? Это последний срыв
Глотки сорванной: про-о-стите…
Это – снасти над морем нив,
Атлантический путь тихий:
Выше, выше – и сли-лись
В Ариаднино: ве-ер-нись,
Обернись! Даровых больниц
Заунывное: не́ выйду!
Это – про́водами стальных
Проводо́в – голоса Аида
Удаляющиеся… Даль
Заклинающее: жа-аль…
Но вскоре отчаяние уступает место упрямому стремлению дождаться, верностью и терпением «выстрадать» встречу. 25 марта она пишет:
Не чернокнижница! В белой книге
Далей денных – навострила взгляд!
Где бы ты ни был – тебя настигну,
Выстрадаю – и верну назад.
Одновременно появляется центральная тема этой подборки, тема, выросшая из упорного желания Пастернака видеть в Цветаевой свою «сестру». И первый отклик на него – скорее упрек, нежели согласие: «Не надо Орфею сходить к Эвридике // И братьям тревожить сестер». 11 мая датировано короткое стихотворение «Сестра», ясно показывающее, насколько чувство лирической героини далеко от сестринского:
Мимо ада и мимо рая:
За тебя уже умирают.
Вслед за братом, увы, в костер
Разве принято? – Не сестер
Это место, а страсти рдяной!
Разве принято под курганом —
С братом?..
– «Был мой и есть! Пусть сгнил!»
– Это местничество могил!!!
Меньше чем через месяц Цветаева пишет знаменитый «Диалог Гамлета с совестью», насквозь пропитанный иронией относительно силы «братской» любви Гамлета к Офелии. Его ключевыми фразами становятся страстное восклицание Гамлета:
– Но я ее любил,
как сорок тысяч братьев
Любить не могут! —
и намеренно спокойный ответ совести:
– Меньше
все ж, чем один любовник.
Еще через месяц, 12 июля, появляется стихотворение «Брат», продолжающее тему «Сестры»:
Раскалена, как смоль:
Дважды не вынести!
Брат, но с какой-то столь
Странною примесью
Смуты…
……………………………
Брат без других сестер:
На́-прочь присвоенный!
По гробовой костер —
Брат, но с условием:
Вместе и в ад и в рай!
И вслед за ним – откровенно-страстный «Клинок»:
Между нами – клинок двуострый
Присягнувши – и в мыслях класть…
Но бывают – страстные сестры!
Но бывает – братская страсть!
…………………………………….
Двусторонний клинок, синим
Ливший, красным пойдет… Меч
Двусторонний – в себя вдвинем!
Это будет – лучшее лечь!
Чем тверже пытается Цветаева принять желание Пастернака, тем явственней проявляется в стихах сдерживаемая ею страсть. Но, пожалуй, лучше всего о непреодолимости этого чувства говорят последние стихотворения подборки, написанные в середине октября 1923 года – в самые счастливые дни романа с Родзевичем:
Все ты один: во всех местах,
Во всех мастях, на всех мостах.
Так неживые дети мстят:
Разбейся, льстят, развейся, льстят.
…Такая власть над сбивчивым
Числом – у лиры любящей,
Что на тебя, небывший мой,
Оглядываюсь – в будущее!
«Брожу – не дом же плотничать…»
Не понять послания, заключенного в этой подборке, Пастернак, разумеется, не мог. «Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина» (ЦП, 93), – так начинает он письмо, написанное вскоре после получения стихотворений. Собственно, этим захлебывающимся возгласом сказано почти все. Кажется, перед нами – безоговорочная капитуляция под напором страстного признания. Борис Леонидович уже сам открыто говорит о любви, о мучительном ощущении оторванности от любимой, когда сжимается сердце от того, что все окружающие – «не она» (ЦП, 94). Он признается, что ненавидит письма, неспособные передать «утомительной долготы любованья» (ЦП, 94).
Однако ближе к концу в письме появляется неожиданные для влюбленного рассуждения:
«Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! … И все равно не изобразить прелести и утомительности труда, которым необходимо заработать Вас. Не как женщину, – не оскорбляйтесь, – это завоевывается именно маховым движеньем, слепо и невнимательно <…> О как меня на подлинник тянет. Как хочется жизни с Вами. И прежде всего той его (подлинника? – Е.З.) части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем» (ЦП, 95, 96).
К кому обращено это чувство? К возлюбленной – или к соратнице, «сестре» по поэзии? Чего в нем больше – любовной страсти или творческого соперничества? Не забудем, что Борис Леонидович судит о Цветаевой по ее стихам и письмам…
Пастернак на собственном опыте знал, какими личными драмами оплачивается творческий успех. В марте 1923 года он писал Марине Ивановне, касаясь своих отношений с женой:
«…полюбив, <я> не дал этому чувству расти, а женился, чтобы не было опять стихов и катастроф, чтобы не быть смешным, чтобы быть человеком, – и… я узнал чувства делимые, множественные, бренные и фрагментарные, не выражающиеся в стихах и их не знающие, но как бы наблюдающие человека и его сердце и их безмолвно обвиняющие. Надо ли говорить Вам, что я далеко не тот, чтобы легкомысленно над этими призраками чувств, дающими жизнь на земле не призракам, но живым детям, насмеяться за то только, что они не поют и не хватают за сердце своим одиноким, неделимым и бесследным богоподобьем, а смотрят, всматриваются и размножаются деленьем» (ЦП, 63).
И вот теперь Пастернак восхищается мужеством Цветаевой, которая, несмотря на семью, отваживается жить истинным, в его понимании, чувством и благодаря этому обогнала его в творчестве. «Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня!» (ЦП, 95) – восклицает он. Впрочем, в его словах нет зависти. Как два года назад Цветаева, он пропагандирует ее поэзию в России, пытается опубликовать подборку стихов, о чем и сообщает в конце письма.
А в это время Марину Ивановну почти полностью поглотили те самые «призраки чувств». Примирение с мужем обернулось нежданной беременностью. Она мечтает о сыне. О своих переживаниях Цветаева напишет Пастернаку летом и, возможно, осенью 1924 года. В набросках к осеннему письму (оригинал утрачен) жалуется, что друзья-мужчины не разделяют ее радости. Однако и теперь ее чувство к Пастернаку осталось неизменным. «Я назову его Борисом и этим втяну Вас в круг» (ЦП, 100), – пишет Цветаева о будущем сыне.
Пастернак молчал (неизвестно, впрочем, получал ли он вообще эти письма, вычлененные исследователями из черновых тетрадей). В следующий раз Марина Ивановна напишет ему 14 февраля 1925 года, ровно через две недели после рождения сына. В этом письме Цветаева – прежняя порывистая фантазерка, видящая сокровенный смысл обыденных вещей. Она подробно рассказывает о родах, сообщает, что по желанию Сергея Яковлевича (подчеркивает: не по требованию) мальчика назвали Георгием. А в конце рассказа прибавляет:
«Мой сын – Sonntagskind1515
воскресный ребенок (нем.).
[Закрыть], будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я себе его заказала» (ЦП, 104).
Так начинается творение нового мифа…
Ожидание ребенка привязало Марину Ивановну к семье. Возможно, именно сейчас она начала понимать чувства, связывающие Пастернака с женой и сыном. В том же письме она отмечает:
«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это – доля. Ты же – воля моя, та́, пушкинская, взамен счастья (я вовсе не думаю, что была бы с тобою счастлива!)» (ЦП, 105).
И признается:
«Я вся на Вы (даже с мужем, – Е.З.), а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвется, мой большой брат.
Ты мне насквозь родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта, как горы» (ЦП, 105).
Но тут же – отрезвляющее предчувствие невозможности совместной жизни:
«Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было?
<…> Душу свою я сделала своим домом (maison roulante1616
дом на колесах (фр.).
[Закрыть]), но никогда дом – душой. Я в жизни своей отсутствую, меня нет дома. Душа в доме, душа – дома для меня немыслимость, именно не мыслю. Stranger here1717
Чужая здесь (англ.).
[Закрыть]» (ЦП, 105).
В следующем письме от 26 мая она подытожит:
«Борис, а нам с тобой не жить. Не потому, что ты – не потому, что я (любим, жалеем, связаны), а потому что и ты и я из жизни – как из жил! Мы только (!) встретимся. Та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь.
<…>
А взрыв не значит поцелуй, взрыв – взгляд, то, что не длится. Я даже не знаю, буду ли я тебя целовать» (ЦП, 112).
В конце февральского письма Цветаева назначает новую дату встречи – 1 мая 1926 года. И просит:
«Борис, думай о мне и о нем (о сыне, – Е.З.), и благослови его издалека. И не ревнуй, потому что это не дитя услады» (ЦП, 107).
И, как заклинание, из письма в письмо повторяет фразу: «Посвящаю его тебе как божеству» (ЦП, 107, см. также 100 и 111).
Человеческие письма (июнь 1925 – март 1926)
Неизвестно, какое из писем, посланных с оказией, дошло до адресата в начале июня 1925 года. Волнения Марины Ивановны по поводу того, как Борис Леонидович отнесется к ее сыну, оказались напрасными. Ему, и так предельно благожелательному к людям, в это время было уж точно не до ревности к новорожденному. (Кажется, ревность как чувство собственности вообще не была ему присуща.)
В начале 20-х годов в России стремительно, буквально за несколько лет, растаял слой поклонников «высокого» искусства. Многие эмигрировали, а оставшимся, живущим на грани нищеты, из-за бытовых неурядиц и растущего политического давления было не до поэзии, погружающей в таинственные глубины мира и человеческого духа. (Сходные процессы, вызванные последствиями Первой мировой войны, развивались и в Европе.) Большинство молодежи восхищалось своими сверстниками, которые вслед за Маяковским воспевали новую власть, и хулиганскими выходками многочисленных «левых» групп.
Пастернак остро чувствовал, что дышит воздухом, «в котором поэзии нет и который на нее не отзывается» (ЦП, 130). Еще в 1923 году он пишет поэму «Высокая болезнь», в которой оплакивает уход кровно близкой ему среды и даже высказывает готовность вместе с ней «сойти со сцены» истории. Трудно сказать, к чему привели бы поэта эти размышления, если бы не семья и особенно маленький сын. Он пытается как-то приспособиться к новому времени, понять его. В этой ситуации, осложненной хроническим непониманием с женой, ему особенно дорога дружба Цветаевой, которая оказалась едва ли не единственным человеком, разделявшим его взгляды на поэзию.
Материальные затруднения, отсутствие постоянного заработка и связанная с этим невозможность спокойно творить доводила Пастернака до отчаяния. (Он не принадлежал к профессиональным стихотворцам, легко тиражирующим собственные достижения и превращающим в стихи любое мимолетное впечатление.) В один из таких моментов, в июле 1925 года, было написано ответное письмо.
«Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок. <…> Вот завтра я поеду к жене и сыну (на дачу, – Е.З.). Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора» (ЦП, 114, 116).
Там же он жалуется на литературных дельцов, которые говорят, что он делит «поэтическое первенство с Есениным» (ЦП, 114), но не удосуживаются своевременно платить гонорары. «О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать!» (ЦП, 115) – с горечью восклицает Пастернак.
Цветаевская реакция была быстрой и меткой.
«Борис,
Первое человеческое письмо от тебя (остальные Geisterbriefe1818
Письма духа (нем.).
[Закрыть]), и я польщена, одарена, возвеличена. Ты просто удостоил меня своего черновика» (ЦП, 119).
Трудно сказать, чего в этих фразах больше – благодарности за доверие или искусно скрытой иронии. По крайней мере, дальше она откровенно, даже с долей эпатажа, описывает свою закабаленность бытом, по сравнению с которой проблемы Пастернака выглядят не самыми страшными:
«8 лет (1917 г. – 1925 г.) киплю в быту, я тот козел, которого непрестанно заре– и недорезывают, я сама то варево, которое непрестанно (8 лет) кипит у меня на примусе. <…> Презираю себя за то, что по первому зову (1001 в день!) быта (NB быт – твоя задолженность другим) – срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА – обратно. Во мне протестантский долг, перед которым моя католическая – нет! моя хлыстовская любовь (к тебе) – пустяк». Чуть ниже она добавляет: «…перечти Катерину Ивановну из „Преступления и наказания“, это я» (ЦП, 119).
Но ее сочувствие тоже неподдельно и, как всегда, деятельно. В несохранившейся части письма она (!) предлагает Борису Леонидовичу помощь – гонорар за предполагающееся переиздание в Чехии его прозы (которое, вероятно, сама же пыталась организовать). Это предложение вызвало у Пастернака почти истерический протест:
«Вам в тысячу раз трудней, и трудность Вашей жизни слышна истории, она современна, стесненье, в котором Вы живете, делает честь каждому, кто к нему прикоснется. А мои матерьяльные неурядицы – архаизм, дичь, блажь, мыльные пузыри, практическое несовершеннолетие. <…> Нет, ради Бога, Марина, пусть все будет по-прежнему, умоляю Вас, умоляю во имя пониманья дела, на которое я так всегда любовался. А по-прежнему это значит я Ваш должник, и моего долга ни обнять, ни простить, ни оплатить» (ЦП, 122).
В том же письме, говоря о переменах в мировосприятии, он объясняет, почему долго не писал:
«Нечего мне Вам в этом отношении показать, нечем поделиться, не о чем спросить и посоветоваться. Когда то сделаются такие вещи! Сколько надо работать! <…> Работать не терпится, без работы душе нашей конец, полное выбытье, беззубость, а работать не дает именно то время, которое с угрозою взывает к ней» (ЦП, 125).
Так, снова и снова, Борис Леонидович подчеркивает, что основой его чувства к Цветаевой являются общие творческие интересы, и корит себя за сползание в письме на бытовые темы.
Однако для Марины Ивановны «по-прежнему» быть, по-видимому, уже не могло. Она наконец-то начала понимать Пастернака-человека, и это узнавание неумолимо разрушало прежний образ «божества». С лета 1925 года тон ее писем меняется – становится проще, дружелюбнее, но одновременно более приземленным и критичным. Впрочем, насколько резко произошли эти перемены, мы, скорее всего, никогда не узнаем: до нас не дошли письма Цветаевой с октября 1925 по конец марта 1926 года, хотя, судя по сохранившимся ответам Пастернака, переписка была весьма оживленной.
В том же июльском письме Цветаевой появился третий персонаж – Райнер Мария Рильке. Если не считать мимолетного упоминания Пастернаком в самом начале переписки, это – первый знак обоюдного интереса к нему, связанный с драматичным курьезом. Кто-то (кто именно – неизвестно, так как эта часть письма утрачена) сообщил Марине Ивановне о смерти поэта – и она поспешила передать новость своему корреспонденту.
Прочитав об этом, Борис Леонидович, по собственному признанию, «попросту разревелся вовсю» (ЦП, 122). Еще бы – с юности Рильке был для него не просто кумиром, а воплощенной поэзией, человеком, «вновь и вновь, в который раз в истории, наперекор ее скольжению, восходящим к самому началу художественной стихии, к ее абсолютному роднику» (ЦП, 133). (Такое отношение к творчеству стало и его идеалом.)
Пастернак мечтал о встрече с ним.
«Вы часто спрашивали, что мы будем с Вами делать. Одно я знал твердо: поедем к Рильке» (ЦП, 123).
Эта фраза вызвала у Цветаевой противоречивые чувства. В ответном письме, отправленном в конце сентября, она признается, что полюбила поэзию Рильке одновременно с пастернаковской – летом 1922 года, в Берлине (сохранился экземпляр сборника Рильке «Книга образов», с владельческой надписью Цветаевой 1 августа 1922 года)1919
Впрочем, доверять этому признанию надо с большой осторожностью. По крайней мере, два сборника поэта были у Цветаевой в Москве; один из них ее сестра Анастасия подарила Пастернаку в 1925 году. В дневнике 1919 года она уже упоминает имя Рильке в числе любимых писателей. О том, что какие-то произведения Рильке она читала, когда Ариадне было всего 2—3 года, то есть в 1914—15 гг., Марина Ивановна сообщила Райнеру в первом же письме. (См.: НА, 56.)
[Закрыть]. А затем следует страстная тирада, почти отповедь:
«Ты думаешь – к Рильке можно вдвоем? И, вообще, можно – втроем? Нет, нет. Вдвоем можно к спящим. На кладбище. В уже безличное. Там, где еще лицо… Борис, ты бы разорвался от ревности, я бы разорвалась от ревности, а м.б. от непомерности такого втроем. Что же дальше? Умереть? <…> К Рильке за любовью – любить, тебе как мне.
– К Рильке мы бы, конечно, поехали» (ЦП, 127).
Парадоксальный вывод, завершающий тираду, на общем фоне выглядит уступкой, почти утешением – так обещают ребенку выполнить явно невыполнимую просьбу. В целом же позиция Марины Ивановны предельно ясна. Будучи принципиальной бессребреницей в быту (в голодной послереволюционной Москве она, мать двоих детей, делилась последней картошкой с немолодым и неустроенным Бальмонтом), в области личностных отношений Цветаева была неукротимой собственницей. Влюбленность (неважно – в человека или его произведения) всегда вызывала в ней стремление к полному и безраздельному обладанию возлюбленным, контролю над его духовным миром…
Впрочем, к моменту получения письма Пастернак уже знал, что Рильке жив. 3 августа он запросил у живущей в Мюнхене сестры Жозефины подробности его кончины (ПРС, 265) и вскоре получил не только опровержение слуха, но и последний сборник поэта «Сонеты к Орфею». Возможно, поэтому он обратил внимание не на отповедь Цветаевой, а на согласие на поездку. Странно, что сама Марина Ивановна так долго оставалась в неведении относительно своей ошибки. Виновато ли в этом чешское захолустье, или она просто не стремилась (несмотря на запрос друга!) узнавать подробности, чтобы не разрушить свой миф о смерти Гения?…
Между тем, этот слух активизировал в сознании Пастернака процессы, зародившиеся еще в 1923 году, когда писалась поэма «Высокая болезнь». Поэт давно задумывался о смысле головокружительных перемен, происходящих в стране и мире. Но до сих пор, не находя внятного объяснения «перемешанности времен», чувству «неизвестности и тревоги за свое детство, за свои собственные корни» (ЦП, 122), он «посвящал все эти ощущения Рильке, как можно посвятить кому-нибудь свою заботу или время» (ЦП, 123). Уход Рильке в этой ситуации значил одно: надеяться на решение проблемы кем-то другим больше не приходится. В августовском письме, размышляя о необходимости исторического осмысления жизни, Борис Леонидович напишет:
«Мы рискуем быть отлученными от глубины, если, в каком-то отношении, не станем историографами. <…> Мне все больше и больше кажется, что то, чем история занимается вплотную – есть наш горизонт, без которого у нас все будет плоскостью или переводной картинкой» (ЦП, 124, 125).
Сам Пастернак этот поворот в творчестве миновал. Еще зимой 1925 года был начат роман в стихах «Спекторский», героем которого стал прекраснодушный, придавленный катком революции интеллигент, а летом он засел за поэму «905 год». Однако Цветаева в ответном письме никак не откликнулась на эти рассуждения, хотя довольно подробно написала о предстоящем переезде в Париж и о том, что собирается послать Борису Леонидовичу посылку с одеждой для него и сына. Впрочем, это и неудивительно: ее, чистого лирика, история интересовала мало. (Характерно, что в статье «Поэты с историей и поэты без истории», опубликованной в 1934 году, она причислила Пастернака к кругу «поэтов без истории», «поэтов без развития»…)
В начале 1926 года, узнав о гибели Сергея Есенина и задумав поэму о нем, Марина Ивановна впервые просит Пастернака о помощи. Ей нужны материалы о последних месяцах его жизни – и Пастернак с готовностью бросается на поиски, подключив к ним своих знакомых. А чуть раньше, в начале января, сообщив ей о самоубийстве, он подробно рассказывает о своей ссоре с Есениным и так объясняет смысл своего поступка:
«И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устраненье фальшивых видимостей из жизни, т.е. когда, точнее, я услышал свои же слова, ему сказанные когда-то, и лишившиеся, в его употребленьи, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и только за это, дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности» (ЦП, 130).
Вряд ли эти слова вызваны только стремлением облегчить чувство «тягостности», связанное с погибшим. В контексте письма они звучат еще и мольбой о пощаде, обращенной к самой Цветаевой. Незадолго до этого Марина Ивановна прислала Пастернаку посвященную ему поэму-сказку «Молодец». Высоко оценивая присланное, он пишет:
«Большая радость, большая честь, большая поддержка. Большое Горе: если Вы еще о посвященьи не пожалели, то пожалеете. Годы разведут нас в разные стороны, и я от Вас услышу свои же слова, серые, нехорошие, когда их тебе о себе самом возвращают, как открытье. Так будет, потому что – скользнуло предчувствие» (ЦП, 130).
Тем не менее, в начале февраля он посылает ей первые главы «большой работы о 905 годе» (ЦП, 134). Его интересовало мнение Цветаевой «о стихах про вонючее мясо и пр.» (ЦП, 134) – речь идет о событиях, которые привели к восстанию на броненосце «Потемкин». Впрочем, тут же он оговаривается:
«Но что бы Вы ни сказали, я это болото великой, но болезненно близкой и внеперспективной прозы изойду из конца в конец, осушу, кончусь в нем. Начинаю с 905-го, приду к современности» (ЦП, 134).
Отзыв Марины Ивановны нам неизвестен. Однако в следующем письме от 23 февраля Борис Леонидович говорит о «взрыве, которого я так давно ждал и боялся» (ЦП, 137). В письме приведено лишь одно выражение Цветаевой – утверждение, якобы Пастернак ее «потерял» (ЦП, 137). (В передаче Бориса Леонидовича это звучит пошловато. Возможно, так оно и было – известно, что Марина Ивановна легко превращала любые отношения в подобие любовных…) В ответ он пространно рассуждает о своем ничтожестве по сравнению с ней, но при этом решительно отметает саму возможность «потери», поскольку владеет «навсегда и неотъемлемо образом, говорящим мне из Верст и Ваших юношеских книг» (ЦП, 137—138). Чуть ниже он повторяет свое понимание взаимоотношений с Цветаевой: «…Это не человеческий роман, а толчки и соприкосновенья двух знаний, очутившихся вдвоем силой… содрогающего родства» (ЦП, 138). Пастернак в который раз подчеркивает, что ценит в ней прежде всего «одно из начал таланта …, которое мне кажется всеобъемлющим и предельным. То, которое, выгоняя в высоту индивидуальность и тем неся ее прочь от человека, делает это во имя перспективы, для того чтобы озираться на него, стоящего позади в кругозоре, все более и более насыщающемся соками времени, смысла и жалости» (ЦП, 139).
Стремясь добиться взаимопонимания с «большой образцовой душой, которая не может не быть большим умом, знающим все и любящим свое знанье» (ЦП, 137), Пастернак еще раз рассказывает Цветаевой о своем взгляде на историю и творческих замыслах.
«Наше время не вспышка стихии, не скифская сказка, не точка приложения красной мифологии. Это глава истории русского общества, и прекрасная глава, непосредственно следующая за главами о декабристах, народовольцах и 905-м годе. <…> Кроме того, глава эта в мировой истории будет называться социализмом, безо всяких кавычек, и опять-таки, в этом значении звена более обширного ряда окажется богатой непредвосхитимым нравственным содержаньем, формировка которого, однако, прямо зависит от каждой отдельной попытки его предугадать. Вот по чем голодает, пока еще совсем у меня беззубый, глаз. <…> Это надо увидеть и показать» (ЦП, 139—140).
На этот раз Борис Леонидович сам сделал ошибку, от которой предостерегал свою корреспондентку три года назад. «Вычитав» Цветаеву из ее книг, он хотел видеть в ней идеального соратника, проницательного и близкого по духу, строгого и справедливого, но в то же время все понимающего и готового помочь. Излишне доказывать, как далека была увлекающаяся, эгоцентричная Марина Ивановна от такого идеала. (Впрочем, он и сам чувствовал это, замечая: «Но о чем я пишу Вам! Вам ведь интересно совсем не это» (ЦП, 140).) Кажется, она не помнила своей фразы о потере (а была ли фраза?…) и даже не поняла, какую бурю чувств вызвала своим письмом. Как ни в чем не бывало, Цветаева продолжает писать ему «ты», делится своими новостями – в следующем письме Пастернак благодарит ее за подробный рассказ о творческом вечере (ЦП, 143). Правда, в конце письма делает многозначительную приписку, которую Борис Леонидович приводит в своем отклике: «Смеюсь на себя за все эти годы назад с тобой. Как смеюсь!» (ЦП, 144). Похоже, Марина Ивановна окончательно «разжаловала» Пастернака из возлюбленных в друзья-приятели – и довольно ясно намекала ему на это.
Письмо вызвало очередной взрыв эмоций. Примерно половину ответа занимает страстная мольба, суть которой выражена в одной фразе: «…пиши мне на вы, умоляю тебя, нам не надо взрываться» (ЦП, 141). Какая борьба чувств в этом чередовании «вы» и «ты»! Чуть ниже Борис Леонидович овладевает собой и решительно переходит на «Вы».
Впрочем, не меньше его взволновала процитированная выше фраза. Над чем (или над кем) смеется Цветаева? Над очередным крушением собственных фантазий – или над тем, кто оказался недостоин ее чувств? Для Пастернака второй вариант несомненен.
«Вы вправду хотите напомнить мне, как много тогда было и как не осталось ничего? – в смятении вопрошает он и заклинает. – Не говорите этой фразы, даже и про себя, и только!! <…> …Я пуще судьбы боюсь этой Вашей фразы, п.ч. знаю вес Ваших слов и то, как вся Вы в них окунаетесь, и вот Вы действительно пойдете „смеяться на себя за все эти годы“, верная собственному слову, перестав слышать, что значит этот смех, и смеющаяся, и предмет насмешки. Умоляю Вас, пишите мне на „Вы“ и перестаньте смеяться» (ЦП, 144).
Мнительному и не уверенному в себе, Борису Леонидовичу показалось, что Цветаева утратила веру в его творческую состоятельность. А ведь именно она, эта вера, поддерживала его уже несколько лет! Он не знал, что так Марина Ивановна прощается с каждым своим возлюбленным. (Вспомним еще раз фразу из письма С. Я. Эфрона Максимилиану Волошину: «Вчерашние возбудители <чувства, – Е.З.> сегодня остроумно и зло высмеиваются». ) И не сам ли Пастернак методично разрушал миф, сотворенный Цветаевой после знакомства с «Сестрой моей жизнью»?…
Однако уже в следующем письме, написанном примерно через две недели, картина решительно меняется. Он снова – и уже окончательно – переходит на «ты». Ведь в ответе Марина Ивановна напомнила ему о том, что́ значит для нее это обращение: ее «ты» – «бунтовское», обычно ее зовут на «вы» (ЦП, 146). «Однако между твоим письмом и моей сегодняшней свободой нет связи», – уточняет Пастернак и рассказывает, как, беседуя с приехавшей в Москву из Петербурга Анной Ахматовой, окунулся в атмосферу родственной близости, захватившую всех троих: «…Болтая ногами, гимназистка обсуждала с гимназистом, что у них пройдено по географии, и разговор этот происходил в отсутствие тебя, сестры по парте, в… учебном заведении, усеянном звездами, к вечеру схватывающемся тонким черным ледком, от фонаря к фонарю» (ЦП, 145—146). После этого его «ты» «вырвалось и потекло, став, как первоначально – школьным, чистым, детским» (ЦП, 146). В этом же письме мелькает фраза, позволяющая предположить, что Пастернак видел одно из «парных» выступлений сестер Цветаевых 1913—14 годов, на которых они, взявшись за руки, в унисон читали Маринины стихи, или, по крайней мере, слышал о них.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?