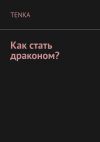Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Возможно, эта атмосфера невинной детской дружбы стала для него защитой от мыслей о невольной измене жене, пусть только духовной. В том же письме он сообщает, что «хотел рассказать… о жене и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и – в эти дни; о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю и болею, когда она (жена, – Е.З.) не пьет рыбьего жира… Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не попадает в соли и щелочи, разъедающие ее до лжи» (ЦП, 147). Видимо, было в ответе Цветаевой что-то, что вернуло Борису Леонидовичу веру в себя. Тем не менее, казалось, что ее чувство остывает, в то время как его только разгорается. Буквально через пару дней Пастернак получил очередную порцию «дров» в его топку – порцию, которая станет началом нового этапа этой истории.
Несущие поэзию (март – май 1926)
Ею стала цветаевская «Поэма Конца», машинописные копии которой уже ходили по Москве. В начале 20-х чисел марта одна из них, скверного качества, попала в руки Пастернака. Для Бориса Леонидовича, задавленного чрезмерной требовательностью к себе, непониманием окружающих и хроническими семейными неурядицами, само бытование поэмы в России без участия типографского станка было равносильно чудесному явлению Поэзии там, где он ее давно оплакал.
25 марта он написал Марине Ивановне:
«Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинанья. <…> Сижу и читаю так, точно ты это видишь, люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила» (ЦП, 148, 149).
Повторилась история с «Вёрстами»: погружение в новый шедевр Цветаевой породило волну любви, нежности, преклонения перед ее талантом.
Однако на этот раз он уже не сдерживает чувств, шлет ей одно за другим четыре больших письма, в которых объяснения в любви перемежаются размышлениями о будущем, о сути творчества и собственной судьбе. Этот сплав в отношениях Пастернака к Цветаевой глубоко естественен.
«Надо было прочесть Поэму Конца, – пишет он в одном из них, – чтобы увидать, что большая поэзия жива, что, против ожиданья, можно жить. К Поэме Конца присоединился еще один факт, тоже родом из большой поэзии. О нем после» (ЦП, 156—157), – проговорившись, спохватывается он.
Этим фактом стало известие, полученное практически одновременно с цветаевской поэмой – в письме от отца, датированном 17 марта. В нем, сообщая о получении ответа от Рильке на давнее поздравление с юбилеем (что для Пастернака само по себе было чудом), Леонид Осипович вскользь замечает, обещая прислать выписки из оригинала: «он о тебе, Боря, с восторгом пишет… и недавно читал в парижском журнале перевод Valery» (ПРС, 281).
Это сообщение не только несказанно обрадовало, но и озадачило адресата. Прежде всего, его волновали два вопроса: что конкретно написал Рильке и не скрывается ли за упомянутым Valery известный французский поэт Поль Валери. Именно их он задает 23 марта сестре Жозефине, которой отец отправил оригинал письма. Да и вообще Пастернаку как-то не верилось в похвалы Рильке:
«Если папа всего этого не выдумал, – замечает он, – то перепиши, пожалуйста, все письмо Рильке сначала до конца, потому что оно, наверное, изумительное и мне хочется прочесть его целиком. Если папа наболтал, то есть преувеличил, я ему это прощу, конечно, но тогда он не знает, что он сделал».
Чуть ниже он поясняет, что признание Рильке для него – «веянье близости и любви, платонизм, равенство душевного божественному» (ПРС, 285—286). Однако письмо уже не застало послания Рильке у Жозефины – оно пошло дальше по семейным каналам.
В следующем письме сестре от 28 марта Пастернак связывает воедино имена Рильке и Цветаевой:
«Ах, какой она артист, и как я не могу не любить ее сильнее всего на свете, как Rilke. <…> Почитай ее. <…> Там среди бурной недоделанности среднего достоинства постоянно попадаются куски настоящего, большого, законченного искусства, свидетельствующие о талантливости, достигающей часто гениальности. Так волновали меня только Скрябин, Rilke, Маяковский, Cohen» (ПРС, 287—288).
(Заметим: восхищаясь подругой, он, оказывается, ясно видел не только ее достоинства, но и слабости.) Он рассказывает сестре о действии, произведенном двумя этими событиями:
«Весь мой „историзм“, тяга к актуальности и все вообще диспозиции разлетелись вдребезги от сообщенья Rilke и Марининой поэмы. Это как если бы рубашка лопнула от подъема сердца. Я сейчас совсем как шальной, кругом щепки, и родное мне существует на свете, и какое!» (ПРС, 288)
В конце он вновь осторожно интересуется письмом Рильке.
Между тем выписок все не было, терпение Бориса Леонидовича иссякало, и за следующие 6 дней он шлет родным 4 послания с мольбами прислать обещанное. Долгожданное письмо было получено лишь 4 апреля. Выяснилось, что Рильке и не думал «восторгаться» творчеством Пастернака, однако написанное им было гораздо весомее гипотетических восторгов.
«…С разных сторон меня коснулась ранняя слава Вашего сына Бориса, – сообщал он Леониду Осиповичу. – Последнее, что я пробовал читать, находясь в Париже, были его очень хорошие стихи (в маленькой антологии, изданной Ильей Эренбургом, – к сожалению, я потом подарил ее русской танцовщице Миле Сируль; говорю „к сожалению“, потому что впоследствии мне не раз хотелось перечитать их). А теперь я взволнован известием о том, что не только один Борис, уже признанный поэт нового поколения, продолжает интересоваться мной и моими работами, но и что все Ваши сохранили сердечное и участливое внимание к моей жизни…» (П26, 47—48).
Было чем гордиться, тем более что Рильке читал стихи Пастернака в подлиннике, по-русски! Оправдались и предположения относительно Валери. Райнер Мария писал совершенно ясно: «Как раз в зимнем номере толстого и очень хорошего парижского журнала „Коммерс“ который издает великий поэт Поль Валери, помещены очень выразительные стихи Бориса Пастернака, переведенные на французский Еленой Извольской» (П26, 49).
Отдельно нужно сказать об упомянутой Рильке антологии «Портреты русских поэтов». В ней, изданной в Берлине в 1922 году, едва ли не впервые имена Пастернака и Цветаевой оказались под одной обложкой. Туда вошли пять стихотворений Пастернака («Не как люди, не еженедельно…», «Памяти Демона», «Сложа весла», «Образец», «Из суеверья»), и столько же стихотворений Цветаевой («Настанет день – печальный, говорят…», «Идешь, на меня похожий…», «Ох, грибок ты мой грибочек, белый груздь!..», «Уже богов – не те уже щедроты…», «Пустоты отроческих глаз! Провалы…»)2020
Данные взяты из кн.: Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке.– Изд. подгот. К. Азадовский.– СПб.: Акрополь, 1992.– С. 233.
[Закрыть]. Но, читая Пастернака, Рильке, похоже, не обратил внимания на Цветаеву.
Ответное письмо Бориса Леонидовича Рильке датировано 12 апреля. Основа его – неудержимое славословие великому современнику:
«Я вне себя от радости, что стал Вам известен как поэт, – признается Пастернак, – мне так же трудно представить себе это, как если бы речь шла о Пушкине или Эсхиле» (П26, 62).
Он благодарит Рильке «за внезапное и сосредоточенное, благодетельное вмешательство» (П26, 63) в свою судьбу. Не решаясь подробно рассуждать на эту тему, Пастернак отмечает только один ее признак – «волю случая», позволившую ему вновь стать поэтом «после того, как восемь лет не знал этого обессиливающего счастья» (П26, 63).
Едва ли не треть письма Борис Леонидович посвятил рассказу о Марине Цветаевой, «которая любит Вас не меньше и не иначе, чем я, и которая (как бы широко или узко это ни понимать) может в той же степени, что и я, рассматриваться как часть Вашей поэтической биографии в ее действии и охвате». «Я хотел бы, я осмелился бы пожелать, – пишет он, – чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня» (П26, 64).
В конце письма, как уже говорилось, Пастернак попросил Рильке воспользоваться адресом Цветаевой в том случае, «если бы Вы захотели меня осчастливить несколькими строчками, написанными Вашей рукой» (П26, 65). В тот же день он предупредил Марину Ивановну: «Если ты что-нибудь от него (Рильке, – Е.З.) получишь, сообщи мне» (ЦП, 178).
Возможно, помимо сложностей с получением в Советском Союзе почты из Швейцарии, эта просьба была вызвана и своеобразным отношением к письмам в семействе Леонида Осиповича. Свое письмо Рильке Борис Леонидович вынужден был послать через отца, так как не знал адреса поэта, и вскоре получил весьма откровенное сообщение. «Письмо Рильке отправлю по его адресу, – сообщает Леонид Осипович сыну 22 апреля, – пока его со Стеллой послал к Жонечке, оно очень мне и нам понравилось, и мы хотели и Жоне дать возможность его прочитать» (ПРС, 294). Чуть ниже он добродушно критикует сына за то, что он назвал отца «Л.О.» и осмелился просить «незнакомого лично автора» послать Цветаевой книжку с автографом (ПРС, 294).
В итоге письмо отправилось из Берлина к Рильке только 30 апреля, а до этого было прочитано и обсуждено всеми членами семьи. Для Бориса Леонидовича такое отношение к переписке секретом, разумеется, не было. Более того, в июне он сам сделает то же самое. Получив от Цветаевой ответную записку поэта, он воспроизведет в письме родителям не только ее, но и фрагменты первого письма Рильке Марине Ивановне, которыми она поделилась с ним. (Трудно представить бурю, которая разразилась бы, узнай она об этой пересылке!)
…Между тем в апрельской переписке поэтов возникла явная аритмия. Как раз в 20-х числах марта Цветаева уехала на север Франции, в Вандею, чтобы присмотреть дачу на лето. Из-за этого пастернаковские излияния недели две оставались безответными. В начале апреля до него дошло очередное письмо Цветаевой, в котором она мельком упоминает о критическом выпаде В. Ф. Ходасевича, направленном против них обоих. Пастернака это известие «больно кольнуло» (ЦП, 172) – ему показалось, что Марина Ивановна пострадала из-за него. В итоге почти половину ответного письма он горячечно разбирается в своих чувствах к Ходасевичу. А затем, словно иллюстрируя слова о том, что «очередная работа стала перебиваться налетами внезапных состояний полу-диктанта, бессонниц со слушаньем стихов, … как в Сестру мою жизнь» (ЦП, 175), Борис Леонидович посылает ей два необработанных стихотворения, одно из которых посвящено их собственным отношениям, а другое было задумано как реквием недавно умершей революционерке Ларисе Рейснер. Отвечая на это письмо, Марина Ивановна слегка приревновала его к Рейснер. Цитируя строку: «…Как звук рифмует наши имена», – она обидчиво прибавляет: «Ну что ж, Ваши как звук, а наши – как смысл. И своего имени я бы не променяла даже ради рифмы с твоим / тобой» (ЦП, 183).
Только в начале апреля вернувшуюся в Париж Цветаеву захлестнул поток любовных признаний. В них ее прежде всего потрясла история с поэмой:
«…то, что ты полюбил ее такой, с опечатками (важен каждый слог!), без единого знака (только они и важны!) – зачем, Борис, говорить мне о писавшем, я читавшего слышу в каждой строке твоего письма. То, что ты прочел ее – вот ЧУДО. Написал во второй раз по (все-таки чужому) и какому сбитому! следу. <…>
Пленительно то, что дошла она до тебя сама, опередив мое (ныне сбывающееся) желание. Вещи не ждут, этим они чудесны, чудеснее нас» (ЦП, 166).
Цветаева снова пишет о стремлении быть вместе:
«Я, Борис, с Лондона (Марина Ивановна побывала там 10 – 25 марта, – Е.З.) – нет, раньше! – отодвинь до какого хочешь дня – с тобой не расстаюсь, пишу и дышу в тебя. У меня в Вандее была огромная постель – я такой не видывала, и я, ложась, подумала: С Борисом это была бы не 2-спальная кровать, а душа. Я бы просто спала в душе» (ЦП, 165).
Однако в конце наброска того же письма есть поразительные по откровенности строки, в которых Марина Ивановна описывает свои ощущения от плотской любви:
«Борис, когда меня в жизни любили, я мучилась, меня точно зарывали в землю, сначала по щиколотку, потом по колено, потом по грудь (начинала задыхаться). Меня изымали из всего мира и загоняли в ямку, жаркую, как баня. Я с острой подозрительностью выслеживала этот момент изъятия. Человек переставал говорить, только глядел, переставал глядеть, только дышал, переставал дышать, только целовал. И целовал не меня, п.ч. меня уже забыл, а губы, вовлекаясь в процесс (поганое слово!). Вовлекалась иногда и я. Словом, губы целовали губы и хотели целовать день и ночь. Я быстро уставала, убитая однообразием» (ЦП, 167—168).
Так чего же она хотела – от других, от себя, от жизни?
Намек на ответ можно найти в письме А. А. Тесковой от 30 декабря 1925 года: «Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес – только преображенная, т. е. – в искусстве»2121
Цветаева М. И. Собр. соч. – Т. 6. Письма. – С. 344.
[Закрыть]. Везде и всегда – в возлюбленных, в детях, в друзьях – для Марины Ивановны был важен не столько сам человек, сколько образ, возникший в ее воображении. Однажды составив представление о новом знакомом, она жаждала полного совпадения его реального облика с собственным образом. Это стремление в итоге неумолимо разрушало нормальные человеческие отношения.
Поразительно, что в это же время о своих чувствах к ней как воплощении идеальной любви говорит и Пастернак. (Такое созвучие желаний лишний раз подчеркивает, как близки духовно были в эти годы два поэта!) 20 апреля он написал Марине Ивановне о «счастливом, сквозном, бесконечном сне», в котором ему привиделось их свидание в «светлой безгрешной гостинице без клопов и быта» (ЦП, 186).
«Это была гармония, впервые в жизни пережитая с силой, какая до сих пор бывала только у боли. Я находился в мире, полном страсти к тебе, и не слышал резкости и дымности собственной. Это было первее первой любви и проще всего на свете. Я любил тебя так, как в жизни только думал любить, давно, давно, до числового ряда. Ты была абсолютно прекрасна. Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья, то есть в антропоморфной однородности воздуха и часа – Цветаевой, то есть языком, открывшимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ. Ты была громадным поэтом в поле большого влюбленного обожанья, то есть предельной человечностью стихии, не среди людей или в человеческом словоупотребленьи („стихийность“), а у себя на месте» (ЦП, 186—187).
Этот сон оказался настолько созвучен мировосприятию Цветаевой, что наложил зримый отпечаток на небольшую поэму «Попытка комнаты», задуманную ею еще в январе и законченную 6 июня 1926 года. В основе поэмы – отчаянная попытка Марины Ивановны сконструировать, силой искусства вызвать из небытия дом, где бы можно было встретиться с любимым, не опасаясь опошляющего воздействия быта. Это загадочное «место» («три стены, потолок и пол») получает название то «Гостиница / Свиданье Душ», то попросту «Психеин2222
Психея – в греческой мифологии душа, дыхание.
[Закрыть] дворец» (НА, 80, 81). Но при первых же признаках свидания с таким трудом созданное пространство исчезает: неожиданно «не стало стен», пол превратился в «брешь», и в финале
над ничем двух тел
Потолок достоверно пел —
Всеми ангелами. (НА, 84)
Пастернак тоже чувствовал, что сбыться такой сон не может. Ведь еще в 1924 году он понимал: «Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и прежде всего, конечно, – Вы» (ЦП, 95) … Мы не можем установить точно, что из черновых записей Марина Ивановна переносила в окончательный текст письма. Она сама признавалась: «Борюшка! <…> Письма к тебе (вот и это письмо) я всегда пишу в тетрадь, на лету, как черновик стихов. Только беловик никогда не удается, два черновика, один тебе, другой мне» (ЦП, 168). Но какой бы текст Борис Леонидович ни читал, он сознавал, что дорог Цветаевой не как человек со всеми своими слабостями, и тем более не как мужчина, а как поэт, творчество которого однажды поразило ее.
Потому-то, сгорая от естественного желания встретиться с любимой, он просит Цветаеву разрешить принципиальный для себя вопрос:
«Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?» «У меня есть настоящие причины колебаться в сроке, – поясняет он, – но нет сил остановиться на втором решеньи (т.е. через год). Если ты меня поддержишь во втором решеньи, то из этого проистечет следующее. …Я со всем возможным напряженьем проработаю этот год. Я передвинусь и продвинусь не только к тебе, но и к какой-то возможности быть для тебя (пойми широчайшим образом) чем-то более полезным в жизни и судьбе (объяснять – это томы исписать), чем это было бы сейчас» (ЦП, 188).
Наивно предполагать, что он попросту боялся разочаровать Цветаеву, представ перед нею в своем реальном облике. После знакомства с «Поэмой Конца», совпавшим с нежданным «сообщеньем» Рильке, Борис Леонидович убедился, насколько сильным и животворящим может быть влияние слов одного поэта на судьбу другого. И теперь он хотел хоть отчасти вернуть Марине Ивановне энергию, которую она только что вдохнула в него самого. (Именно о такой «пользе» и идет речь в письме!) Для этого надо было достойно завершить поэму «Лейтенант Шмидт», отпочковавшуюся от «905 года». Пастернак знал, что в юности Цветаева была увлечена этим трагическим героем первой русской революции – кадровым офицером, который вынужденно, из чувства долга, возглавил восстание на крейсере «Очаков» и был казнен царским правительством. Возможность свидания придавало его работе дополнительный смысл. А пока, вслед за письмом, Борис Леонидович посылает ей только что вышедший сборник «Избранные стихи», в который вошли старые тексты из дореволюционной книжки «Поверх барьеров». (Как следует из записи в тетради, больше всего Марину Ивановну поразила «Метель»…)
На вопрос о приезде Цветаева откликнулась сразу:
«Через год. Ты громадное счастье, которое надвигается медленно, – пишет она в ответ. — <…> Живи. Работай. 1905 год – твой подвиг. Доверши. Строка за строкой, – не строки, а кирпичи – кирпич за кирпичом – возводи здание. Я тебя люблю. Я не умру. Ты не умрешь. Все будет.
Чей сон сбудется – твой или мой – не знаю. А м.б. мой – только начало твоего. Мои поиски. Твоя встреча» (ЦП, 189, 191).
Какой именно сон Марина Ивановна имела в виду, неясно. В сентябре 1925 года она писала Пастернаку:
«Отчего все мои сны о Вас – без исключения! – такие короткие и всегда в невозможности. Который раз телефон, который я от всей души презираю и ненавижу, как сместивший переписку… То Вас дома нет, то мы на улице и вообще дома нет, ни Вам, ни мне» (ЦП, 126).
Готовность ждать встречи целый год удивляет саму Цветаеву: «И это я говорю, которая всегда первая входит, первая окликает, первая тянется, первая гнется, первая выпрямляется». Но тут же она находит поразительно емкое объяснение:
«С другими – да. Первая и тотчас же, п.ч. как во сне – сейчас пройдет. Недоувижу. (В переводе, недолюблю!) Разгляжу и недоувижу (Выделено мной, – Е.З.). И вот обеими руками – к себе, глаза зажав – к себе! Чтобы самой любить» (ЦП, 190).
Но, соглашаясь на ожидание, она боится разлуки и просит: «хоть пустой конверт, но хоть адрес твоей рукой. Не вычеркивай меня окончательно на целый год. Этого не должно. Будь моей редкой радостью, моим скупым божеством (о, это слово я люблю и за него стою, это не „гениальность“), но будь. Не бросай совсем» (ЦП, 192).
Казалось бы, такую веру в силу пастернаковской личности, притягивающей все сильнее и сильнее, трудно чем-то поколебать. Но… кто знает, что привидится героине этого романа через день, неделю, месяц?… Ведь всего два месяца назад, в конце февраля, она «смеялась» над своими чувствами трехлетней давности, доводя Пастернака до отчаяния!
О том, как далеко заводили Марину Ивановну ее фантазии, красноречиво говорит другой фрагмент того же письма. Борис Леонидович как-то предположил, что Сергей Яковлевич Эфрон – единственный из ее возлюбленных, у которого «есть вес» в сердце Цветаевой (ЦП, 187). «В одном ты прав – С.Я. единственное, что числится, – отвечает она. – С первой встречи (1905 г., Коктебель). – «За такого бы я вышла замуж!» (17 лет)» (ЦП, 190). Удивление вызывают даты: обе они изменены. Марина Ивановна действительно познакомилась с будущим мужем в Коктебеле, но в 1911 году. Тогда ей было 18 лет, а в 1905 – всего 12—13. И таких примеров в ее письмах немало, причем возраст Цветаева может как уменьшать, так и увеличивать. Например, в письме от 10 февраля 1923 года она утверждает, что в 1912 году ей было 18 лет (ЦП, 34), хотя на самом деле – 19—20. (В набросках к тому же письму Марина Ивановна предполагает, что Пастернаку 27 лет (ЦП, 33), однако в беловике этот абзац исчезает, значит, спросить его об этом она не решается.) Упорно считая друга младшим по возрасту, но старшим по таланту (ЦП, 33—34), Цветаева подгоняет свой возраст под это представление. О том, что перед нами – не просто ошибки или следствие забывчивости, свидетельствует и письмо Марины Ивановны Рильке от 13 мая 1926 года. В нем она снова уменьшает свой возраст (31 год вместо 33), на 4 года уменьшает возраст мужа и на 2 – дочери, оставляя правильным (вплоть до месяца!) только возраст сына Георгия (П26, 96—97)…
Как ни скор был ответ Цветаевой на вопрос о поездке, 18 дней, за которые письма шли туда – обратно, Пастернаку показались вечностью. Мнительный и не уверенный в себе, он, видимо, не раз и не два пожалел о своем порыве. 5 мая, не дождавшись ответа, Борис Леонидович начинает новое письмо, в котором бичует себя за несдержанность.
«Я мог и должен был скрыть от тебя до встречи, что никогда теперь не смогу уже разлюбить тебя, что ты мое единственное законное небо и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее» (ЦП, 194).
Парадоксальность того, что это признание было не только высказано, но и послано адресату, показывает, что Борис Леонидович хватается за любые средства, лишь бы избавиться от страха потерять любимую.
Очевидно, что его настроение заметили и окружающие, прежде всего – жена. Будучи не в состоянии разобраться в своих эмоциях, Пастернак писал Цветаевой о Евгении Владимировне:
«…Она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке, день за днем, до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страданьи, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованный тобой, я ее охватываю не с меньшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах» (ЦП, 194).
В таком виде письмо послано не было, а через пару дней подоспел долгожданный ответ. 8 мая, начав письмо заново, Борис Леонидович признается в сомнениях:
«Я двадцать раз уезжал, и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда превосходишь представленье, даже внушенное обожаньем» (ЦП, 195).
(По сути, в последней фразе Пастернак признает, что четыре года спустя еще только открывает для себя душу любимой. Как отличается этот подход от мифотворчества Цветаевой!)
Он просит Марину Ивановну не отвечать на его послания.
«Давай молчать и жить и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственно трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь» (ЦП, 196).
В этих строках – типичные для Пастернака преувеличения и самобичевание. (Чем-чем, а «нравственным трупом» он не был никогда.) Главное же в них – уже знакомая идея плодотворного творческого соперничества.
Казалось бы, ответ Цветаевой все расставил по местам и «усадил» адресата за работу (ЦП, 196). Однако в приписке к письму вновь появляются сомнения.
«И все-таки, что я не поехал к тебе – промах и ошибка. Жизнь опять страшно затруднена. Но на этот раз – жизнь, а не что-нибудь другое» (ЦП, 199).
Как знать, не кольнуло ли Пастернака предчувствие, что в это время Марине Ивановне совсем не до него?…
3 мая, проделав немалый путь по Европе, письмо Пастернака наконец-то добралось до Райнера Мария Рильке. Об этом он немедленно сообщает Цветаевой, прилагая к письму записку для Бориса Леонидовича.
«Сейчас я получил бесконечно потрясшее меня письмо от Бориса Пастернака, переполненное радостью и самыми бурными излияниями чувств. Волнение и благодарность – все то, что всколыхнуло во мне его послание, – должны идти от меня (так понял я из его строк) сначала к Вам, а затем, через Ваше посредничество, дальше – к нему!» (П26, 83)
Далее Рильке коротко рассказывает о своих связях с Россией и семейством Пастернаков, а в конце письма задается вопросом: почему во время восьмимесячного пребывания в Париже в 1925 году он не встретился с Цветаевой.
«Теперь, после письма Бориса Пастернака, – поясняет Райнер Мария, – я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим глубочайшую сокровенную радость. Удастся ли нам когда-нибудь это исправить?!» (П26, 84)
Одновременно с письмом он посылает ей свои последние сборники. На «Дуинезских элегиях» поэт оставляет символичную стихотворную надпись, подчеркивающую преемственность поэтов в мире:
Темы «крыльев» и благодарности звучат и в записке, адресованной Пастернаку:
«Дорогой мой Борис Пастернак,
Ваше желание было исполнено тотчас, как только непосредственность Вашего письма коснулась меня словно веянье крыльев: «Элегии» и «Сонеты к Орфею» уже в руках поэтессы! Те же книги, в других экземплярах, будут посланы Вам. (Это обещание Рильке почему-то не выполнил, – Е.З.) Как мне благодарить Вас: Вы дали мне увидеть и почувствовать то, что так чудесно приумножили в самом себе. Вы смогли уделить мне так много места в своей душе, – это служит к славе Вашего щедрого сердца. Да снизойдет на Вас всяческое благословение!
Обнимаю Вас. Ваш Райнер Мария Рильке» (П26, 102—103).
Отправляя записку, Цветаева вложила в конверт листок с выпиской из письма Рильке к ней:
«Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать: прилагаемое же письмо отправьте Вашему другу в Москву. Как приветствие» (П26, 84).
Всю жизнь Борис Леонидович бережно хранил оба листка и, надолго уезжая из дома, всегда брал с собой…
Невольно задумываешься: чем же вызвано такое «потрясение» известного поэта, который только что пережил пик известности и, казалось бы, был избалован почитателями? Причин могло быть несколько.
С одной стороны, Рильке легко отзывался на любое проявление искреннего чувства. Он давно благоговел перед трагическим даром бескорыстно дарить любовь, которым, по его мнению, в основном обладают женщины. Еще в 1912 году, в прозе «Заметки Мальте Лауридса Бригге» Райнер Мария вложил в уста героя формулу:
«Быть любимой – значит сгорать. Любить – значит самой гореть неугасимым маслом и светить. Быть любимой – значит растворяться в другом, любить – продолжаться»2424
Рильке Р. М. Заметки Мальте Лауридс Бригге: Пер. с нем. Л. Горбуновой.– М., 1913. – С. 149.
[Закрыть].
Позже он писал одной из своих корреспонденток:
«Опыт Мальте заставляет меня иногда отвечать на… крики незнакомых, он-то бы ответил, если бы когда-либо чей-либо голос до него дошел, – и он оставил мне как бы целое наследие действия, которое я не мог бы ни направить, ни истратить на иное, чем любовь» (НА, 176).
В письме Пастернака Рильке могло привлечь и то, что послание пришло из России, которую он считал своей духовной родиной и которая, как он знал, переживает далеко не лучшие времена.
Однако главная причина, видимо, скрывается в самом таланте Райнера, погруженного в исследование глубин и высот человеческого духа. Такая поэзия понятна немногим и, по большому счету, никогда не была особенно популярной. Именно поэтому автор «Дуинезских элегий» дорожил каждым, в ком чувствовал родственное мироощущение. Особую радость вызвало то, что молодой талантливый поэт провозглашал себя его учеником и последователем. Видимо, он мечтал о чем-то подобном – иначе откуда чеканная точность автографа на «Дуинезских элегиях»?
И все же Рильке не ведал, какой вулкан чувств разбудит, откликнувшись на робкую просьбу Пастернака. Его письмо стало для Марины Ивановны почти полной и, естественно, радостной неожиданностью, а последние строки прозвучали разрешением не сдерживать своих эмоций. И она развернулась на полную мощь, начав с… наивной, но, как выяснилось, действенной мистификации. Если верить бумаге, ответ написан 9 и 10 мая. Однако на самом деле Цветаева писала его двумя днями раньше, подставив даты, когда письмо должно было дойти до адресата. Уловка удалась. 10 мая Рильке напишет:
«Вы считаете, что получили мои книги десятого (отворяя дверь, словно перелистывая страницу) … но в тот же день, десятого, сегодня, вечное Сегодня духа, я принял тебя, Марина, всей душой, всем моим сознанием, потрясенным тобою, твоим появлением, словно сам океан, читавший с тобою вместе, обрушился на меня потопом твоего сердца» (П26, 89—90).
То, на что в переписке с Пастернаком потребовались месяцы, здесь случилось почти мгновенно… Но вернемся к письму Марины Ивановны.
В его начале, говоря о сущности Рильке, она почти повторяет слова, которые писала Пастернаку в феврале 1923 года:
«Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. <…> Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю2525
От «кадить» – жечь благовония во славу божества.
[Закрыть]!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас – и не такое еще слышал! Вы же настолько велики, что не ревнуете» (ЦП, 33, 35).
Сравним:
«Вы не самый мой любимый поэт («самый любимый» – степень), Вы – явление природы, которое не может быть моим и которое не любишь, а ощущаешь всем существом, или (еще не все!) Вы – воплощенная пятая стихия: сама поэзия, или (еще не все) Вы – то, из чего рождается поэзия и что больше ее самой – Вас.
Речь идет не о человеке-Рильке (человек – то, на что мы осуждены!), – а о духе-Рильке, который еще больше поэта и который, собственно, и называется для меня Рильке – Рильке из послезавтра» (П26, 85).
И здесь, и там она обращается не столько к человеку, которого почти не знает, сколько к Духу поэзии, через него сходящему к людям. Одновременно цветаевские строки напоминают и суждение Пастернака о Рильке из письма Цветаевой от 4—5 января 1926 года (см. выше, с. 26.) А если предположить, что Марина Ивановна еще не видела автографа Рильке на «Дуинезских элегиях», окажется, что ее слова, как и слова Пастернака, чудесным образом перекликаются с мыслью Райнера о едином источнике поэзии, из которого черпает вдохновение каждый, кого именуют поэтом… Так три великих современника, не сговариваясь, творят общий миф о первоисточнике творчества.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?