Текст книги "Звезда моя единственная"
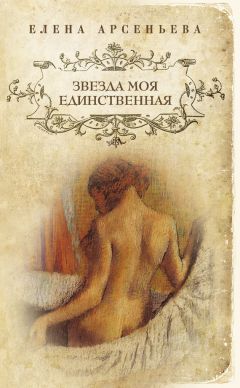
Автор книги: Елена Арсеньева
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Чтобы его жена постоянно оставалась именно недосягаемой, Николай Павлович не оставлял ее своим супружеским вниманием. Императрица столь часто пребывала в «ожидании», что физическая сторона любви ее совершенно не влекла. Она обожала чистый платонизм, которого в отношениях с кавалергардами было в избытке. И молодые люди четко понимали правила игры. Мотыльки порхали над этим роскошным цветком, не то что не осмеливаясь – не испытывая желания опуститься на его лепестки. Свои крылышки дороже!
Александр Трубецкой, Георгий Скарятин, Жорж Дантес с упоением играли в эту игру. А вот Барятинскому она вскоре наскучила. Что за радость быть пришитым к юбке, под которую не то что нельзя, но даже не хочется залезть?! В то время как он тут изображает из себя паркетного шаркуна, его однокашники по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров прославляют свои имена на Кавказе!
Ему вдруг показалось, что он жует однообразную преснятину, в то время как до смерти хочется острой приправы. На Кавказ! Эта мысль овладела им. Уволить себя от придворной службы он еще не просил, однако домашним уже объявил, что не нынче, так завтра это произойдет, вслед за чем он уедет на театр тех непрекращающихся военных действий, который русским непрестанно предоставлял Кавказ.
Матушка пребывала в непрестанном обмороке, лишь изредка возвращаясь к жизни, чтобы сказать Александру, что с него начнется вымирание рода Барятинских. Сестра рыдала с утра до ночи, измышляя предлоги, которые могли бы изменить решение Александра. Начала она с того, что уйдет в монастырь, закончила тем, что предложила ему жениться, и на ком? На Мари Трубецкой, которую он принимал за сестру. И вообще – девчонка! Ну что такое четырнадцать лет?!
В самом деле, ну что такое?
Барятинский встал перед камином. Это перед сестрой он мог как угодно притворяться и высказывать пренебрежение «к девчонкам», но от себя-то мог не таиться. Была одна – ровесница его сестры и Мари Трубецкой… была одна, к которой слово это – «девчонка» – не подходило. Не подходило по всем статьям! Она и выглядела старше своих лет, и в самом деле была старше. Вот если бы…
Да, это была бы невеста… Этот брак дал бы возможность возвыситься старинному роду Барятинских так, как никакие деньги его не возвысят! И будь он проклят, если она не влюблена в него. Ее чудесные голубые глаза так выразительны, они говорят… они говорят красноречиво и откровенно. Или он ничего не понимает в женщинах, или она не стала бы противиться, если бы…
Он боялся думать дальше.
Но мысли не подчинялись приказу. Более того – вслед за мыслями являлись желания…
Ох, она и сама не понимала, что делает с ним, она ничего еще не знала ни о мужчинах, ни о жизни, но вела себя так, словно отчетливо знает, чего хочет!
Вернее, кого. Вспомнить хотя бы тот бал… «Аладдин и волшебная лампа»!
Нет. Он же только что зарекся тянуть руки к коронованным особам! Лучше и не вспоминать… Ведь именно после этого бала он и стал всерьез задумываться – а не пора ли бежать на Кавказ?
Именно бежать…
* * *
Прохор Нилыч, купец Касьянов, оказался человеком ростом почти в сажень и с косою саженью в плечах – истинным богатырем оказался. Однако сердце он имел добрейшее. Полностью в этом сердце царила его единственная дочь Палашенька, последнее его утешение после смерти жены, которую Прохор Нилыч считал своим счастьем и самой большой жизненной удачей. Дарья Федоровна, Дашенька, дочь зажиточного мещанина, оставшаяся единственной наследницей, влюбилась в крепостного работника, помогла ему выкупиться на свободу и вышла за него замуж. С тех пор Прохор Нилыч стал другим человеком: состояние, которое принесла жена ему в приданое, приумножил, записался в купцы сначала третьей, а потом и второй гильдии, обозначив капитал сначала в восемь, а потом в двадцать тысяч рублей, спокойно платил несусветный гильдейский сбор и дело свое расширял. Безвременная смерть жены – она была слаба сердцем – его подкосила, Прохор Нилыч почувствовал, что ослабел, он жаждал сыскать помощника, однако ведь не всякому приказчику доверишься как себе… Прохору Нилычу вечно чудилось, что его обкрадывают. Да ладно бы его – но ведь с кражами таяло состояние, назначавшееся в приданое любимой Палашеньке!
Он находился в расстроенных чувствах, когда появилась Палашенька и сообщила, что к ним явился какой-то незнакомый человек с поручением от прежней барыни Касьянова, графини Дороховой. Прохору Нилычу сразу показалось, что у Палашеньки какое-то странное выражение лица… от уныния, не покидавшего ее вот уже полгода после смерти матери, не осталось и следа, она была такой, какой Прохор Нилыч видел ее прежде: неизбывно веселой, глаза щурились от едва сдерживаемого смеха, губы дрожали…
– Что сияешь, цветик лазоревый? – спросил он ласково, любуясь дочерью. – Видать, повеселил тебя этот посланец?
– Повеселил, да! – хихикнула Палашенька. – Я слышу, в ворота стучат, а Степаныча нету, небось в поварню пошел. – (Степанычем звали сторожа, который вечно торчал около кухарки Савельевны, мечтая сбить ее со вдовьего пути праведного.) – Я подхожу к воротам и спрашиваю: кто стучит? А он: отворите да поглядите! – И Палашенька залилась смехом.
Прохор Нилыч пожал плечами. По его мнению, ответ был не смешон, а немало дерзок, но Палашенька все хохотала, так и сияя от непонятного отцу веселья.
– А потом что? – спросил он, то улыбаясь, то хмурясь.
– Потом я спросила, за каким делом, он и сказал. И я пошла за вами.
– Ладно, я сейчас к нему выйду, – согласился Прохор Нилыч, не без труда выбираясь из старого кресла, которое с течением лет сделалось ему несколько узковато. – Степаныч так и не появился? Этот человек за воротами ждет?
– Ну что вы, батюшка, – удивилась Палашенька, – нешто я заставлю гостя на улице топтаться? Я ему хотела калитку отворить, да не смогла, там щеколда заскорузлая какая-то, ну а он говорит, не трудитесь, мол, барышня, я и не в калитку могу войти, коли приглашаете. Раз – и перемахнул через забор! – Палашенька снова расхохоталась.
Лицо Прохора Нилыча медленно наливалось кровью, когда он тяжелыми шагами шел к двери, чтобы взглянуть на этого наглеца и вытолкать его взашей еще прежде, чем он изложит поручение ее сиятельства. Ничего, миновали те времена, когда он дрожкой дрожал при каждом слове и приказе молодой, но такой злющей жены своего барина! Он выкупился, а значит, ничем господам более не обязан! Сами наглы, и холопы их таковы же! А что, каков поп, таков и приход!
Он вывалился на крыльцо туча тучей и с высоты десяти ступенек устремил грозный взгляд на парня, стоявшего посреди двора. И тут что-то сделалось с Прохором Нилычем, почудилось, будто кто-то взял его за сердце и сжал, потому что увидел он друга своей юности, молодого графа Василия Дорохова, красавца, молодца, удальца, храбреца и рубаху-парня, имевшего душу, распахнутую для всех в мире людей, кем бы они ни были. Это женитьба убавила ему доброты, широты душевной и молодечества, а до свадьбы был он… был он таким, каких людей больше на свете нет!
– Василий, – пробормотал Прохор Нилыч, – неужто ты?!
– Меня Григорием зовут, – отозвался парень, чуть улыбаясь темными, ну в точности как у Василия, глазами. Ресницы – длинные, пушистые, ресницы Василия! – поднялись, опустились, поднялись… Родинка возле губ его, тоже точно такая же, как у Василия, дрогнула, и Прохор Нилыч услышал, как Палашенька, стоявшая за спиной, тихо ахнула.
«Ишь, неймется», – недовольно подумал Петр Нилыч, покосившись на дочь. Палашенька дышать перестала со страху, что выдала себя.
Касьянов всмотрелся в светлые, волнистые волосы парня – у Василия были черные, – и догадался обо всем.
– Матушка твоя – Настя, кузнецова дочь, верно?
– Матушка упокоилась уж который год, а батюш… – парень запнулся, – а барин недавно, сорока дней еще не справили.
– Что за черные вести! – Прохор Нилыч перекрестился, глядя в его темные глаза, в которых словно тайна какая-то таилась, а какая – не угадаешь нипочем. – Упокой Господь их души, земля им пухом, царство небесное… Проходи. Василия Львовича сын в моем доме – гость дорогой.
– Не называйте меня так, сделайте милость, – сказал парень. – Барин меня никогда сыном не звал, получается, не считал он меня таковым, ну и я не желаю, чтобы эту честь мне навязывали.
– Ого… – пробормотал Прохор Нилыч. – Да ты гордец! Ну и как же тебя называть?
– Гриней меня зовут. Григорием Дороховым.
– А по батюшке? – с невинным видом спросил Касьянов.
– Васильевич я… – ответил Гриня – и осекся.
Прохор Нилыч засмеялся:
– Ну вот, а говоришь, барин сыном тебя не считал! Может, на словах и не считал, а в сердце своем держал. Ну что ж, кому жена – спасительница и благодать, а кому змеища и погибель, вот такая нашему Василию Львовичу и досталась. Ему бы пришибить ее своевременно, но, конечно, греха на душу он взять не пожелал… а зря, и Настасья бы небось пожила еще, и сам бы пожил, да еще и счастливо бы пожил… Не всякому так повезет, как мне повезло, – продолжал он, беря дочку за руку и выдвигая ее из-за своей спины. – Вот моя дочь, Пелагея Прохоровна, живой портрет матушки своей, незабвенной моей и горячо любимой супруги. Покойница была истинным даром Господним, данным мне в утешение, такова же и дочь его. Повезет тому, кому она достанется…
И при сих словах Прохор Нилыч зорко глянул в глаза Грини Дорохова. Лишь увидев его, он мигом смекнул, с чего так оживилась и повеселела дочь. У Василия был дар смущать женские сердца одним взглядом, видимо, сей дар унаследовал и сын его. Если бы темные, окруженные пушистыми ресницами очи Гринины сверкнули бы сейчас алчностью, Касьянов вытолкал бы его взашей, забыв старинную дружбу с его отцом, однако Гриня улыбнулся и сказал:
– Дай Бог вам, Пелагея Прохоровна, жениха доброго да богатого! – и сразу видно было, что говорит он от чистого сердца, от всей души, не тая при том никакой задней мысли.
Прохору Нилычу полегчало.
«Ничего, – быстро подумал он, – значит, бояться его нечего, можно в дом пустить и принять, а Палашеньке мы такого жениха отыщем, что лучше и не пожелаешь! Подумаешь, темноглазый… ерунда, девичье дело забывчиво!»
– Ну что ж, – сказал он, значительно подобрев, – говори, чего барыня тебе наказала?
Гриня начал рассказывать, глядя прямо в глаза Прохору Нилычу. Касьянов чувствовал, что дочь стоит за спиной и взора с пришельца не сводит, однако тот словно и не замечал ничего, говорил складно, не сбивался, очми не шнырял. Словно и не было там Палашеньки.
С одной стороны, это выдавало в нем человека серьезного и надежного. С другой – Петру Нилычу было досадно за дочку. И он снова напомнил себе, что отыщет ей жениха самого наилучшего. Вот на Духов в день в Летнем саду смотрины… непременно надо Палашеньку туда свезти! Пускай тогда этот Гриня локотки-то пообкусает!
– Ну что ж, – проговорил Прохор Нилыч, – есть для тебя хорошее место. Ты собой пригляден, язык хорошо подвешен, а мне в лавку мою гостинодворскую приказчик до зарезу нужен. Тот, что нынче там сидит, смекаю, обдирает меня как липку, а поймать его не могу, ловок, шельма. Может, конечно, он и чист на руку, однако, коли взяло меня сомнение, веры во мне уже нет прежней, нет во мне уже прежнего спокойствия. Ты как, силен в арифметике? Учен ли чему был? Нет – так и ничего, мы тебя живо…
– Простите великодушно, Петр Нилыч, – с поклоном перебил Гриня, – арифметике я учен, однако вряд ли с этим делом справлюсь. Мне бы не в помещении сидеть, а на воздухе работать. Я штукатур изрядный, люблю эту работу. Дозвольте мне по этой части пойти. Один добрый человек сказал, что для начала нужно идти в Контору адресов, потом на Биржу…
Прохор Нилыч огорчился было, а потом подумал, что не одним днем человек жив. Это даже хорошо, что не шмыгнул Гриня ужом на тепленькое местечко. Пускай поверхолазничает, пускай собьет руки до кровавых мозолей – и пообтешется, и поумнеет, и в другой раз к доброму предложению по-доброму и отнесется. Своим опытным глазом Прохор Нилыч видел – из него получится хороший приказчик. Парень честный – это главное! А до чего пригож собой! Ни одна баба, а может, и дама, мимо не пройдет, особенно если Гриня не столбом стоять будет, а станет в лавку с прибаутками зазывать. А впрочем, нет… этот зазывать не будет. Этот просто глазищи свои поднимет, махнет ресницами – и птицы-голубицы-покупательницы стаей к нему полетят!
Бывают такие щеглы – ему и петь сладко не нужно, только посвистит, а сердца у тех, кто слушает, уже дрожкою дрожат. Вот таков же этот Гриня.
– Ну что ж, – сказал Павел Нилыч, – коли желаешь, пусть так и будет. Завтра же с утра мы с тобой и пойдем в Контору адресов. Без меня ты там пропадешь, время потеряешь, а толку не добьешься. А у меня человечек там есть – добрый знакомый. Живой ногой все бумаги нам сделает. Ну а потом попытаем счастья по найму. И тут попытаюсь помочь тебе, своя рука и тут есть у меня… Приятель один есть… Исаакиевский собор начали ставить, почитай, напротив царского дворца, ну, он там на подрядах работает да в свою артель народ подряжает. Как раз вчера я его видел, он сказывал, нужен-де ему работник умелый и храбрый, чтоб на высоте трудиться не трусил. Ты высоты боишься ли?
– А чего ее бояться? – безмятежно спросил Гриня.
– Ну, коли так… – усмехнулся Прохор Нилыч. – Коли так, найдем тебе работу. А пока иди вон со Степанычем, – кивнул он на появившегося очень кстати сторожа, – он тебя в пристрой сведет, там конурка есть, тебе в ней ладно будет. Только прежде – в баню, не обессудь, у нас чисто, а ты вон весь в себе да упарившись.
– За баню спасибо! – обрадовался Гриня. – Но жилье в доме вашем, в отдельной каморе… это уж великая честь… может, я где-нибудь в уголке, за печкою?
– Ты сын моего старинного друга, чего ж тебе, как таракану запечному, тесниться? – покачал головой Петр Нилыч. – Иди помойся, облик благолепный прими, да оглядись, обживись, а устал – так поспи. Наутро, еще затемно, в контору пойдем, не то потом там не протолкнешься, никакая рука не поможет! Давай, Палашенька, чтоб через час обед был, мне по делам ехать, а гостю – устраиваться и обживаться.
Гриня смотрел на него, не веря глазам, слушал, не веря ушам.
– Дай Бог вам здоровья, Петр Нилыч, – сказал он, сдерживая дрожь в голосе. – Смогу ли вам за ваше добро отплатить?
– Ничего, сочтемся, свои, чай, люди, – ответил Прохор Нилыч, слушая, как шелестит за его спиной юбкой поспешно убежавшая в дом дочка, как радостно звенит ее голос, отдающий распоряжения прислуге, и думая: «Черт с ним, с добром, главное, чтоб ты мне злом не отплатил! Уж больно ты пригож, чертова сила!»
И перекрестился с досадой, поймав себя на том, что аж дважды подряд помянул врага рода человеческого.
* * *
Всевозможные балы устраивали при дворе очень часто, но особенно царская семья любила маскарады и балы костюмированные, где все одевались по заранее названной теме. На сей раз бал решили назвать «Аладдин и волшебная лампа», и в нем впервые должны были участвовать две подрастающие великие княжны – Мария и Ольга.
Двор часто менял свое местопребывание. Весной семья проводила несколько дней на Елагином острове, чтобы избежать уличной пыли; затем переезжали в Царское Село, а на июль – в Петергофский Летний дворец и, наконец, из-за маневров, которые любил устраивать государь, прибывали в Гатчину или Ропшу с ураганом светских обязанностей: приемы, балы, даже французский театр в маленьком деревянном доме. Дети видели эту блестящую жизнь, конечно, издалека: или когда сопровождали родителей, или же в свободные часы на подоконниках, слушая доносившуюся к ним музыку.
Разумеется, самые пышные и интересные балы устраивали в Петербурге. Девочки мечтали попасть хоть на один из них, но их все успокаивали – рано, мол, подрастите немного. И вот наконец-то знаменитая Роз Колинетт, дебютировавшая в Малом Гатчинском театре и учившая их танцам, зачастила в их комнаты. Уроки проходили в детском зале. Там стоял игрушечный двухэтажный домик. В нем не было крыши, чтобы можно было без опасности зажигать лампы и подсвечники. Этот домик сестры любили больше всех остальных игрушек. Это было их царство. Олли, любившая поплакать, пряталась там, если хотела побыть одна, в то время как Мэри упражнялась на рояле, а Адини, младшая, играла. Олли начала уже отдаляться от мирка игр Адини, но еще не приблизилась к миру взрослых, к которому в свои четырнадцать лет уже почти принадлежала Мэри. И она, и Адини были жизнерадостными и веселыми, Олли же – серьезной и замкнутой. От природы уступчивая, она старалась угодить каждому, часто подвергалась насмешкам и нападкам Мэри, не умея защитить себя. Ей нравилось думать, что они с Мэри – не родные сестры. Иной раз ее тешили мысли, что подкидыш в родной семье – она, иной раз – что Мэри… Однако взгляд в зеркало развеивал эти несуразные мысли: что она, что Мэри очень походили на родителей, особенно на отца.
Когда началась подготовка к балу, Олли не удавалось долго сидеть в домике – приходили кавалеры: Алексей Фредерикс, Иосиф Россетти, братья Виельгорские – друзья Саши, то есть великого князя и цесаревича Александра Николаевича, – Иосиф, Михаил и Матвей.
Подружились с Виельгорскими три года назад, когда холера, разразившаяся в столице, удерживала императорскую семью в Петергофе. Порядки здесь были не столь церемонные, как в городе. Без шляп и перчаток великие княжны гуляли по всей территории Летнего дворца, играли на своих детских площадках, прыгали через веревку, лазали по веревочным лестницам трапеций или же через заборы. Мэри, самая неугомонная из всей компании, придумывала постоянно новые игры, в которые любили играть все, даже плаксивая Олли. По воскресеньям все обедали на молочной ферме, принадлежащей брату Саше: устраивались со всеми друзьями, которыми обзавелись в Петергофе, гофмейстерами и гувернантками за длинным столом. Порой на нем стояло до тридцати приборов! После обеда бежали на сеновал, прыгали там с балки на балку и играли в прятки в сене. Это было чудесное развлечение! Но графиня Виельгорская находила такие игры предосудительными, так же как и свободное обращение с мальчиками, которым великие княжны говорили «ты». Мэри и Олли, которые редко находили общий язык, сходились в одном: обе графиню терпеть не могли. Она была женщина необыкновенно остроумная, но ее язык жалил, как укус осы. После каждого злобного замечания она облизывала губы, точно для того, чтобы спрятать самодовольную улыбку. От нее никогда не укрывалось ничего, что можно было бы не одобрить; замечания шепотом делались мадам Барановой, которая легко поддавалась ее влиянию. Потом гувернантка начинала поучать великих княжон, к их большому неудовольствию: ведь они знали, откуда ветер дует!
О вольном обращении Мэри и Олли с мальчиками было донесено императору, однако император и сам недолюбливал графиню, которая только и знала, что высматривала во всем и во всех дурные побуждения. Он сказал: «Предоставьте детям забавы их возраста, достаточно рано им придется научиться обособленности от всех остальных».
С тех пор общение с братьями Виельгорскими не прекращалось, причем Саша больше, чем со всеми прочими, дружил с Иосифом, а Мэри – с Матвеем. Мэри называла его «моя лучшая подруга», что немало сердило Олли, которая шуток совершенно не понимала и была уверена, что она одна должна быть лучшей подругой сестры. Это не мешало ей порой ненавидеть эту самую сестру до слез.
Перед балом все усиленно упражнялись в полонезе, гавоте, менуэте и контрдансе. Олли любила танцевать с задумчивым Иосифом, а Мэри – с Матвеем, с которым они непрестанно хохотали. Ну а Михаил был, что называется, без царя в голове и довольно неуклюж: вечно наступал девочкам на ноги, оттого с ним никто не хотел танцевать.
После уроков бывал совместный ужин, и вместо неизменного рыбного блюда с картофелем, к которому привыкли сестры, всем давали суп, что-нибудь мясное, а еще – шоколадное сладкое.
Однажды Матвей заболел, и Мэри пришлось танцевать с Михаилом. В очередной раз выдернув ногу из-под его башмака, она сквозь слезы воскликнула:
– Ах, как же несносно танцевать с косолапыми мальчишками! Ну отчего нам не дают настоящих кавалеров, вроде князя Барятинского!
Олли встрепенулась, вспомнив его прекрасные темно-голубые глаза.
Она вообще прежде всего замечала в мужчине глаза. Ей было совершенно не важно, умен ли он, добр, красив ли, были бы хороши глаза. Раньше Олли казалось, что самые красивые глаза, которые она видела в жизни, принадлежали пятнадцатилетнему персидскому принцу, который несколько лет назад – Олли была еще совсем маленькая – посетил Петербург. Прибытие этого посольства дало повод для торжественной аудиенции высшей степени: император и императрица перед троном в Георгиевском зале, великие князья и княжны ниже их на ступеньках, полукругом сановники, двор, высшие чины армии, посреди зала – проход, образованный двумя рядами дворцовых гренадер. Двери распахнулись, вошел церемониймейстер со свитой, и наконец показался Хозрев Мирза, сын принца Аббаса Мирзы, сопровождаемый старыми бородатыми мужчинами, все в длинных одеяниях из индийского кашемира, с высокими черными бараньими шапками на головах. С обеих сторон последовали три низких поклона. Потом Хозрев прочел персидское приветствие, которое тогдашний министр иностранных дел Нессельроде передал государю в русском переводе. На него император отвечал по-русски. Императрице поднесли прекрасные подарки: персидские шали, драгоценные ткани, работы из эмали, маленькие чашки для кофе, на которых была изображена бородатая голова шаха, а также четырехрядный жемчуг, который отличался не столько своей безупречностью, сколько длиной. Государь получил чепраки, усеянные бирюзой, и седла с серебряными стременами.
Еще несколько раз при дворе видели этого персидского принца: он завораживал дам своими чудными темными глазами, он развлекался в театрах, на балах и не знал больше четырех слов по-французски, которые он употреблял смотря по обстоятельствам: «Совершенно верно», – говорил он мужчинам и «Очень красиво», – дамам. Спустя несколько лет произошел переворот, и бедному принцу выкололи эти так всех восхищавшие глаза.
Теперь их затмили темно-голубые глаза Барятинского.
Она была уверена, что князь – самый красивый мужчина на свете! Неужели он нравится и Мэри? Интересно, а ему кто больше нравится: старшая сестра или она, Олли?
Брат усмехнулся:
– Не огорчайтесь, девочки. Если будете хорошо учиться, на Аладдиновом балу вам позволят потанцевать с матушкиными кавалергардами. А значит, и с Барятинским.
Олли захлопала в ладоши, а Мэри тихо, затаенно улыбнулась. С этого дня учителя не могли ею нахвалиться…
И вот настал день бала.
В Концертном зале поставили трон в восточном вкусе и галерею для тех, кто не танцевал. Зал декорировали тканями ярких цветов, кусты и цветы освещались цветными лампами, и от волшебной красоты этого убранства у зрителей захватывало дух.
А в это время за кулисами разгорелся скандал. Для Мэри и Олли принесли закрытые кафтаны, шаровары, тюрбаны и остроносые туфли.
– Я не надену этого! – воскликнула Мэри. – Это наряд для евнухов, а я хочу быть одалиской султана. Хочу шаровары с разрезами, чтобы были видны ноги, и прозрачный блузон, через который будут сквозить мои груди, похожие на опрокинутые чаши!
Вечно спорившие и ссорившиеся Юлия Баранова, воспитательница Мэри, и Шарлотта Дункер, воспитательница Олли, переглянулись с одинаковым выражением на лицах.
– Евнухи! Одалиска! Во имя Господа Бога, откуда вы узнали эти слова, Мэри? – ужаснулась мадам Баранова.
– Я умею читать, а «Mille et une nuit»[3]3
«Тысяча и одна ночь» (фр.).
[Закрыть] пестрит этими выражениями! – заносчиво сказала Мэри.
Дамы покраснели. Накануне бала они, конечно, прочли «La lampe magique d’Aladdin»[4]4
«Волшебная лампа Аладдина» (фр.).
[Закрыть]. Но там ничего такого не было… кажется, Мэри умудрилась прочесть еще многое другое, что им показалось бы неприличным… Для этой девчонки нет понятий приличного и неприличного. Такое впечатление, что ее отец рожден насаждать всюду порядок, а она – разрушать и разрушать! Как она будет жить? Куда придет со своим странным характером?!
Эти мысли часто посещали мадам Баранову, но сейчас, конечно, они были более чем некстати.
С трудом, в два голоса, воспитательницам удалось убедить Мэри надеть приготовленный костюм. Они уверяли, что иначе бал состоится без нее, а ведь сестрам впервые позволили участвовать в полонезе и идти сразу после родителей и старшего брата! Олли приободрилась: вдруг Мэри все же останется дома? Однако Мэри смирилась, бросила спорить, переоделась – и оказалась в маскарадном костюме такой хорошенькой, что настроение ее мигом улучшилось.
А вот у Олли настроение испортилось. Без всякой радости она натянула на себя костюм. Кафтан показался ей слишком широким, шаровары сползли на туфли.
– Какая-то ты коротконогая стала, Олли! – сказала безжалостная Мэри.
Олли расплакалась. Воспитательницы торопливо подкололи шаровары и кое-как уговорили Олли выйти в общий зал, чуть ли не вытолкали ее туда.
И тут девочки мигом забыли обо всем, кроме красоты, царившей вокруг.
Какой блеск, какая роскошь азиатских материй, камней, драгоценностей! Какие великолепные костюмы! Карлик с лампой, горбатый, с громадным носом, был гвоздем вечера. Его изображал Григорий Волконский, сын министра двора. Он отвлекал внимание даже от султана и султанши.
Николай Павлович первым повел в полонезе свою султаншу и императрицу. За ними шел Александр с великой княгиней Еленой Павловной, женой Михаила Павловича, брата императора.
Девочки замерли, ожидая приглашения на танец. К ним направлялись двое кавалергардов – Барятинский и Александр Трубецкой. Они были в шальварах, с саблями за широкими поясами, в шелковых длиннополых кафтанах, красиво обрисовывавших их стройные станы. Они оба были необычайно красивы, но сестры не видели Трубецкого. Для них существовал только тот, другой…
Олли зажмурилась: «Хоть бы он!» – и услышала голос Трубецкого:
– Ваше высочество, позвольте…
Открыла глаза.
Да, перед ней стоял Трубецкой. А Барятинский склонялся перед Мэри!
Какой ужас… Как это пережить?!
В эту минуту отец прошествовал мимо, и только страх перед ним, перед скандалом заставил Олли сдержать слезы.
А Мэри сияла улыбкой, которую ничто не могло сдержать! Да и надобности такой не было, тем паче что Барятинский охотно улыбался в ответ.
– А вы будете танцевать со мной весь вечер? – спросила она.
– Если не прогоните, ваше высочество, – ответил он с поклоном. Этого требовала фигура полонеза, но Мэри приятно было думать, что Барятинский поклонился просто так.
«Склонился к ее ногам…» – пронеслась в голове вычитанная где-то фраза.
Ее кавалер опустился на одно колено, Мэри обошла вокруг, близко заглядывая в его глаза, скользя взглядом по его лицу. У него был изящно вырезанный рот и яркие губы.
– А вы умеете целоваться? – спросила она неожиданно для себя, да так и вспыхнула.
Барятинский с изумлением взглянул в глаза Мэри – и вдруг страшно смутился. Почувствовал, что у него запылало лицо. Хотел что-то сказать – но не смог.
Оба сделали вид, что ни сказано, ни услышано ничего не было. Но Мэри ни на миг не отводила от него глаз, и он то и дело встречался с нею взглядом.
«Черт, задаст же она хлопот своему мужу!» – непочтительно подумал Барятинский. Таких вот быстроглазых он видел-перевидел… удивляло лишь, откуда у женщин эти умения – как посмотреть, как вздохнуть, как приоткрыть губы… кто их этому учит? Как будто по секрету передают одна другой свои заветные, тайные знания… или это по наследству переходит? Конечно, Александра Федоровна ведет себя безупречно, однако порой дает волю игре взоров, а уж бабушка Мэри, королева Луиза Прусская, по слухам, была ого-го!
Барятинский пытался отвлечься, но это мало помогало. Он сам не понимал, что с ним происходит. Следовало принять непроницаемый, невозмутимый вид, это было привычно, однако в том-то и дело, что у него непривычно дрожало сердце.
Вдруг он перехватил ее взгляд, устремленный на его бедра.
Черт… резко повернулся, огляделся… слава Богу, все заняты танцем!
– Ваше высочество, умоляю… – пробормотал, ужасаясь сам себе, обезумев от стыда.
Ее взгляд был враз детским, непонимающим, и женским, бесцеремонным, даже наглым.
«Она сама не понимает, что делает», – вдруг догадался князь, но это мало помогло его умирающему самообладанию.
На его счастье, начался la fontaine[5]5
Фигура полонеза, при которой пары расходятся, полукругом огибая зал.
[Закрыть], и он смог, наконец, оказаться поодаль от Мэри – хоть ненадолго. За это время удалось овладеть собой, и Барятинский вернулся на свое место с безупречно-вежливым выражением лица.
Мэри снова заиграла было глазами, но теперь Барятинский держал взгляд точно на ее переносице и довел полонез до конца, ни разу не сбившись, и лицо его с каждым мгновением становилось все спокойней. Правда, в душе по-прежнему что-то дрожало, и он, может быть, единственный из всех с нетерпением ждал окончания бала.
Однако и после полонеза Мэри не успокоилась. Она на минутку исчезла из зала, а потом снова появилась возле Барятинского. Тот, вздохнувший было с облегчением, сделал приветливую улыбку:
– Что угодно вашему высочеству?
– Отойдем вон туда, к жардиньеркам, – попросила Мэри. – Предложите мне руку, князь.
Николай Павлович с улыбкой поглядел вслед дочери, которая под руку с Барятинским медленно прошла к жардиньеркам, декорированным под восточный сад. Сюда со всего дворца снесли пальмы, получился подлинный оазис.
– Наша Мэри как взрослая, – усмехнулся он.
– А Олли совсем спит, устала, – сказала Александра Федоровна, глядя, как жмурится дочь. На расстоянии было незаметно, что она еле сдерживает слезы.
– Девочкам давно пора спать, довольно они сегодня поиграли в больших, – сказал ее муж. – Где там наши воспитательницы?
– Сейчас я пошлю за ними, – улыбнулась Александра Федоровна, делая знак Трубецкому, который, как всегда, был неподалеку.
Тем временем Мэри под прикрытием пальмы повернулась к Барятинскому и сунула руку в карман шаровар.
– Вы курите, князь?
– Конечно, ваше высочество, – улыбнулся он, по-прежнему глядя в ее переносицу. Оттого улыбка вышла напряженной, но Мэри этого не заметила.
– Курите трубку или сигары? Или пахитоски?
– Сигары и трубку, – осторожно ответил Барятинский.
– Я хочу сделать вам подарок, – сказала Мэри и вынула что-то из кармана. – Это трубка. Когда будете курить ее, вспоминайте меня, хорошо? Возьмите же.
Барятинский безотчетно протянул руку – да и замер. На ладони Мэри лежала самая необыкновенная и непристойная трубка, которую он только видел в жизни. Чашка у нее была самая обычная, а мундштук был сделан в форме… ну, в форме того, что у него вдруг шевельнулось в лосинах, оживая.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































