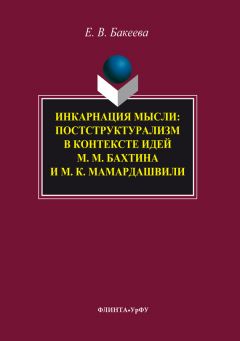Читать книгу "Инкарнация мысли. Постструктурализм в контексте идей М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили"
Е. В. Бакеева
Инкарнация мысли: постструктурализм в контексте идей М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили
ВВЕДЕНИЕ
Постструктурализм, представленный прежде всего такими мыслителями последних десятилетий ХХ – начала ХХI в., как М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж. Деррида, нередко рассматривают как философскую манифестацию постмодернизма. Последний же – как многомерный культурный феномен – сегодня, в середине второго десятилетия нового века, постепенно перемещается на периферию внимания философов, культурологов, искусствоведов, социологов и других представителей социально-гуманитарного знания. С одной стороны, для многих поборников порядка (как бы он ни трактовался – как метафизический, социальный или природный) постмодернизм по-прежнему остается исключительно негативным феноменом, несущим разрушение и хаос, однако, к счастью, постепенно выходящим из моды, а значит, и не заслуживающим серьезного внимания. С другой стороны, заметно утихает и энтузиазм тех приверженцев тотальной свободы, которые связывали с утверждением идей и ценностей постмодернизма надежду на появление некоего нового «порядка», который не исключал, но, напротив, предполагал бы бесконечную вариативность выбора способов существования. В очередной раз неограниченные ожидания поверяются и корректируются самой жизнью, и всевозможные нормы и правила, многократно разоблаченные и деконструированные, продолжают как ни в чем не бывало определять мышление и поведение большинства людей.
Однако даже если рассматривать постмодернизм как переходный феномен, примету рубежа тысячелетий, постепенно исчезающую с горизонта современной культуры (тезис, с которым тоже согласятся далеко не все), то вопрос о смысле этого феномена все же остается актуальным. Эта актуальность еще более очевидна в том случае, если речь идет о постструктурализме как одном из наиболее ярких и последовательных выражений постмодернизма в современной философии. Констатация того обстоятельства, что стремление к релятивизации всего и вся, мода на философские разоблачения постепенно уходит наряду с прочими общекультурными проявлениями постмодернистских тенденций, не избавляет свидетелей этого процесса от необходимости ответить на вопрос: «что это было (да, собственно, и продолжает быть)?». Вопреки тем, кто не рекомендует принимать опыты постструктуралистов всерьез (по той простой причине, что они и не были якобы рассчитаны на это, будучи «просто» игрой, или провокацией, или тем и другим одновременно), именно такое «принятие всерьез» и может, как представляется, обезвредить связанные с этим феноменом (мнимые или подлинные) разрушительные тенденции.
Речь идет, таким образом, о попытке понимания этого феномена, если рассматривать «понимание» как онтологическую категорию. В этом случае попытка понимания непременно предполагает вовлечение ведущих представителей постструктуралистской мысли в тот диалог о бытии («тяжбу о бытии», выражаясь словами А. В. Ахутина), который философия ведет на протяжении всей своей истории. Вовлечение, казалось бы, незаконное, учитывая то обстоятельство, что одна из основных интенций постструктурализма как раз и связана с разоблачением самого понятия бытия как ловушки «логоцентризма». Между тем предпринятый представителями данного направления поход против «логоцентризма» в конечном счете обессмысливает любые запреты, в том числе и запрет на то, чтобы трактовать этот поход как парадоксальный способ «оживления» Логоса и, соответственно, как очередную вариацию осмысления бытия. Следует добавить, что по этой же логике не может быть принят всерьез и протест против самого термина постструктурализм, исходящий от тех самых мыслителей, которых принято причислять к этому направлению. На некую иронию судьбы, связанную с иностранной рецепцией идей перечисленных выше (и ряда других) французских мыслителей, указывает, в частности, немецкий исследователь Й. Ангермюллер: «Того, что такие теоретики, как Мишель Фуко, Жак Деррида, Жиль Делез, Жак Лакан, Луи Альтюссер, Юлия Кристева или Ролан Барт, пользовались широким вниманием в поле структуралистских, фрейдистских и марксистских споров 60-х и 70-х гг. XX столетия, ведущихся во Франциии, никто не оспаривает. Но почему, спрашивают во Франции, эти теоретики, которые, помимо того, что их теоретические проекты достигли зенита общественного интереса около 1970 г., имеют друг с другом мало общего, снабжаются интернациональными наблюдателями странной приставкой “пост” и объединяются в движение под предводительством столь различных фигур, как Фуко и Деррида?»11
Angermüller J. Nach dem Strukturalismus: Theoriediskurs und intellektuelles Feld in Frankreich. Bielefeld: transcript/PRO, 2007. S. 9.
[Закрыть]. Ирония судьбы, однако, заключается еще и в том, что именно эти мыслители внесли весьма существенный вклад в дело разоблачения самой фигуры автора или субъекта, которая обладает неоспоримым правом доступа к подлинному смыслу своего творчества. Эта критика «иллюзии субъектности» во многом легитимировала те попытки осмысления концепций этих авторов, которые не только «неправомерно» объединяют их в некое единое направление, но и могут интерпретировать их творчество в онтологическом ключе.
Книга, предлагаемая вниманию читателя, как раз и представляет собой попытку (разумеется, далеко не единственную) подобной интерпретации постструктурализма, точнее, наиболее ярких и глубоких его образцов, представленных в творчестве М. Фуко, Ж. Деррида и Ж. Делеза. Выбор данных фигур определялся не только личными предпочтениями автора, но и тем обстоятельством, что, на наш взгляд, именно в концепциях этих трех мыслителей с наибольшей отчетливостью, силой и убедительностью была сформулирована одна из основных идей постструктурализма – парадоксальное утверждение невозможности мысли (или, если угодно, отрицание ее возможности). Собственно, эта парадоксальная идея и есть то «ядро» постструктуралистского дискурса, по отношению к которому предпринимается наша попытка понимания. И коль скоро последняя предполагает разговор всерьез, мы сочли уместным начать его с формулирования «кантовского» вопроса: «как возможно осмысленное отрицание мысли (как того, что, обладая самодостаточностью и определенностью, так или иначе относится к бытию)?». При этом приметы современности, побуждающие к такому отрицанию, очевидны и вряд ли могут быть оспорены: так же, как и во второй половине прошлого века, ознаменованной призывом к борьбе с «логоцентризмом», и мысль, и связанное с ней слово все заметнее подвергаются девальвации, теряют значимость и вес, выступая ширмой враждебных Логосу сил.
Все обвинения и разоблачения, выдвинутые мыслителями-постструктуралистами в адрес «культуры подавления», основанной на власти «репрессивного разума», сохраняют свою актуальность. Однако парадоксальный жест, предполагающий эти обвинения, требует, в свою очередь (именно в случае «принятия всерьез»), парадоксального ответа: речь идет, по сути дела, об операции, противоположной деконструкции, «остранивающей» ту или иную метафизическую конструкцию с целью обнаружения в последней всевозможных лакун.
Онтологически ориентированная попытка понимания предполагает, напротив, своего рода реконструкцию, демонстрирующую осмысленность, а следовательно, и оправданность определенной концепции, даже тогда, когда речь идет, как в случае с постструктурализмом, о концепции «антиконцептуального» толка. Вместе с тем любой опыт подобного рода неизбежно сталкивается с существенной трудностью: смысловая реконструкция требует для своей реализации некоей «точки несомненности», в которой встречаются (или из которой исходят) и создатель реконструируемого феномена, и его истолкователь. Но как быть в том случае, когда сам феномен, подлежащий реконструкции (здесь – тезис о невозможности мысли как «ядро» постструктурализма) заключает в себе отрицание возможности существования такой точки? Очевидно, что разрешение этого парадокса оказывается тогда частью или аспектом реализации самой задачи осмысления. Иными словами, здесь открывается то обстоятельство, что решение этой задачи может быть только действием, предпринимаемым на свой страх и риск, соответственно – целостным и неделимым. Именно в силу своей целостности эта задача совпадает по своему «охвату» с задачей осмысления себя и мира во всей полноте, иначе говоря – с требованием осмысления-осуществления бытия. Это означает, что сама постановка вопроса о смысле постструктурализма как философского и общекультурного феномена возможна только в том случае, если задающийся этим вопросом (в данном случае – автор предлагаемой читателю книги) уже находится в ситуации «тяжбы о бытии», предполагающей необходимость осмысления всего, что сопутствует этой тяжбе в контексте современности.
Таким образом, речь идет о феноменологическом выявлении и осмыслении самой ситуации, в которой автор себя застает: в ходе рефлексивного движения к истокам вопроса о смысле постструктурализма обнаруживается, что первичным здесь является (собственно, так же, как и везде и всегда) именно вопрос о бытии, имеющий, однако, вполне конкретное наполнение. Именно в рамках данной ситуации, в контексте конкретизированного вопроса о бытии, задающийся этим вопросом и обнаруживает своих (отнюдь не возможных, а действительных) собеседников, тех, кто уже втянут в «онтологическую тяжбу», пусть даже путем отрицания ее осмысленности. В силу этого тот конкретный способ осуществления попытки осмысления центрального тезиса постструктурализма, который реализуется в данной книге, также не может быть обоснован сугубо теоретическим образом. Осмысление этого тезиса в контексте творчества двух замечательных отечественных мыслителей, М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили, есть, таким образом, реализация все той же фундаментальной задачи: как можно более полного прояснения той конкретной вариации вопроса о бытии, в рамках которой встреча этих авторов с мыслителями-постструктуралистами уже состоялась. Местом этой встречи как раз и выступает парадокс самообоснования мысли – во всей его неустранимости и неразрешимости. При том, что имена двух вышеупомянутых отечественных исследователей не так уж часто сегодня связывают друг с другом, представляется возможным выделить по меньшей мере один (исключительно важный) момент, в равной степени отличающий творчество М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили: редкое бесстрашие и последовательность мышления, свободного от каких бы то ни было метафизических догм и иллюзий «логоцентризма», соединенное с решительным утверждением мысли во всей ее полноте и самодостаточности – мысли не как возможной, но как действительной. Именно это обстоятельство позволяет трактовать онтологические концепции языка и мышления, предложенные М. М. Бахтиным и М. К. Мамардашвили, как своего рода «опережающий ответ» на те фундаментальные вопросы и трудности, которые выявляются и осмысляются в философии постструктурализма.
Таким образом, сформулированный выше вопрос («как возможно осмысленное отрицание мысли?») выступает в качестве «фона», на котором мы попытались развернуть виртуальный диалог М. М. Бахтина, М. К. Мамардашвили, М. Фуко, Ж. Деррида и Ж. Делеза. При этом, учитывая все сказанное выше, вопрос о возможности предполагает здесь отнюдь не теоретическое обоснование (понятно, что в таком случае мы можем говорить только о «рационально обоснованном» саморазрушении мысли), но апелляцию к тому, что – до и вне теории как описания и отражения «того, что есть». Именно то, как осуществляется это апеллирование, и различает, на наш взгляд, те вариации «неметафизической онтологии», которые представлены, с одной стороны, в концепциях М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили, а с другой – в творчестве ведущих представителей французского постструктурализма. Центральным моментом этого различия выступает отношение к времени. Отрицание или утверждение мысли не как возможной, но действительной, определяется в конечном счете различной «локализацией» субъекта, выносящего суждение: в одном случае он судит, будучи погруженным в поток времени, в другом же – будучи собранным на границе (или, точнее, в качестве границы) времени и вечности. Однако сам факт этой встречи (который, разумеется, не может быть верифицирован внешним образом, но выступает как аспект переживания все того же события-осмысления бытия) свидетельствует о том, что данное противопоставление не абсолютно. Альфой и омегой здесь оказывается именно сам диалог о бытии (точнее, его конкретная, характеризующая современность, вариация), в контексте которого противоположные позиции («мысль невозможна и не существует» и – «мысль невозможна, но существует») предполагают и проговаривают друг друга. Учитывая же событийный характер этого диалога, невозможность его перевода в плоскость общезначимого, позиция того, кто говорит о диалоге как «тяжбе о бытии», также может быть только позицией участника. Последний, не будучи в состоянии претендовать на экстерриториальность, на занятие некоей метапозиции, должен признавать свою неизбежную ограниченность.
Таким образом, предпринятая в данной книге попытка разыграть или воспроизвести виртуальный диалог о бытии сама, в свою очередь, есть не что иное, как очередная реплика в этом диалоге. Соответственно, обращение к текстам других его участников не предполагает здесь всестороннего анализа их концепций, но также призвано в первую очередь феноменологически прояснить уже случившуюся встречу с ними. Именно поэтому наше обращение к текстам М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делеза, М. М. Бахтина, М. К. Мамардашвили предполагало прежде всего выявление и проговаривание тех моментов, которые имеют значение в контексте сформулированного выше вопроса: «как возможно осмысленное отрицание мысли?». В подобном случае неизбежны определенные огрубления и натяжки, «вольная» интерпретация текстов, рискованные (с точки зрения общепринятых историко-философских взглядов и мнений) суждения. Однако осознание и принятие этого обстоятельства отнюдь не призвано давать отпущение всех возможных теоретических «грехов», но, скорее, также должно служить делу прояснения той онтологической ситуации, в рамках которой вышеупомянутый вопрос оказывается и возможным, и неизбежным.
Характер этого прояснения – в силу всего вышесказанного – также не может быть сугубо теоретическим; само прояснение контекста вопроса о возможности осмысленного отрицания мысли оказывается путем к обретению мысли в ее действительности.
Таким образом, выражение, вынесенное в название книги – «инкарнация мысли» – можно трактовать по меньшей мере трояким образом: во-первых, речь идет о самой интуиции воплощенной мысли, которая, как представляется, в равной степени определяет философствование М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили; во-вторых, тот диалог о бытии, который здесь разыгрывается или воспроизводится, также оказывается способом воплощения мысли: последняя становится инкарнированной (М. Бахтин), только встречаясь с принципиально (событийно) иной мыслью; наконец, в-третьих, само предприятие, «следом» которого является текст данной книги, также можно трактовать как попытку воплощения мысли путем прояснения ее исходного парадокса. О том, насколько эту попытку можно считать удавшейся, судить читателю.
ГЛАВА 1
ОТКРЫТИЕ ПРЕДЕЛА РЕФЛЕКСИИ: ОПОЗДАНИЕ К НАЧАЛУ
1.1. Недостижимый исток
Начать мыслить невозможно уже в силу того, что мысли не от чего от-личить себя, оттолкнуться: одной из важнейших задач философии постструктурализма выступает именно разоблачение самой идеи образца, оригинала, в отношении к которому мысль только и обретает смысл и значение. Под вопросом оказывается исходный пункт мышления как такового, с непревзойденной лаконичностью сформулированный Парменидом:
Постструктуралистская мысль строится как раз на принципиальном отказе от поисков того «сущего, о котором она высказана», или от поисков своих истоков, о чем со всей определенностью говорит М. Фуко, формулируя задачу своей «археологии знания»: «Речь идет о том, чтобы проанализировать историю в такой прерывности, которую не может в дальнейшем разрушить никакая телеология, установить ее в таком рассеивании, которое не может ограничить никакой предварительно заданный горизонт, оставить ей возможность разворачиваться в такой анонимности, которой никакое трансцендентальное установление не может навязать форму субъекта, открыть такую темпоральность, которая не допустит никакого возвращения к истокам. Речь идет о том, чтобы искоренить любой трансцендентальный нарциссизм; необходимо вырвать историю из дурной бесконечности обретения и потери истоков, где она томилась долгое время; показать, что история мысли не может играть роль разоблачителя того трансцендентального момента, которым, несмотря на все попытки обнаружить его, не обладает ни механическая рациональность, – после Канта, ни математическая идеальность, – после Гуссерля, ни обозначения воспринимаемого мира, – после Мерло-Понти»33
Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-центр, 1996. С. 199.
[Закрыть].
Этот решительный отказ от поиска истока отнюдь не свидетельствует, вопреки множеству инвектив в адрес «борцов с метафизикой», ни о капитуляции рацио, ни о злонамеренной попытке разрушения оснований мышления. Речь идет о парадоксальном результате последовательно осуществленной стратегии самого рацио, стратегии, связанной именно с поиском своего истока. Последний по определению есть нечто немыслимое, и, взятый в своей самотождественности, может быть определен только как ничто. Этот, казалось бы, столь очевидный вывод становится возможным именно тогда, когда претензия мысли на то, чтобы включить в себя все существующее, в том числе и собственное начало, достигает максимума.
Нацеливая луч рефлексии непосредственно на себя, на собственное стремление, мысль со всей строгостью констатирует самоуничтожающийся характер этого стремления: об-наружить то, что мыслью не является. Это, в свою очередь, требует следующего непреложного вывода: мыслью не является только само «не…», иными словами, – то, что разрушает всякое тождество. Именно поэтому платонизм, как образец наиболее последовательного утверждения самотождественности бытия, и олицетворяет собой ту метафизику, которая должна быть разоблачена и преодолена самой (теперь уже трезвой, отдающей себе отчет в собственной парадоксальной «природе») мыслью. На эту наивность платонизма указывает, в частности, Ж. Делез в «Различии и повторении»: «…платонизм в целом подчинен идее необходимости различения “самой вещи” и симулякров. Вместо того чтобы мыслить различие в нем самом, он сразу относит его к обоснованию, подчиняет одинаковому и вводит опосредование в мифической форме. Опровергнуть платонизм означает следующее: отвергнуть примат оригинала над копией, образца – над образом. Восславить царство симулякров и отражений»44
Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 90.
[Закрыть].
Таким образом, «отвергнуть примат оригинала над копией» необходимо во имя самой мысли, мыслящей саму себя без отсылок к каким-либо «до-…» или «внемысленным» сущностям, мыслящей себя в своем собственном действии. Симулякр и есть это действие, возвращающее мысль к себе во всей ее (не)самотождественности: «Все стало симулякром. Но под симулякром мы должны иметь в виду не простую имитацию, а, скорее, действие, в силу которого сама идея образца или особой позиции опровергается, отвергается. Симулякр – инстанция, включающая в себя различие как (по меньшей мере) различие двух расходящихся рядов, которыми он играет, устраняя любое подобие, чтобы с этого момента нельзя было указать на существование оригинала или копии»55
Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 93.
[Закрыть].
Это действие, таким образом, обнаруживает и утверждает иллюзорный характер самой идеи образца. Последняя выступает в роли неустранимого (естественными средствами) мифа, который обеспечивает саму работу мышления – как основы рационального отношения к миру. Вся история человеческой культуры в конечном счете оказывается обязанной этому мифу своим существованием, на что и указывает Ж. Деррида: «Как только встает вопрос об истоках фонетического письма, его истории и судьбе, мы замечаем, что этот процесс совпадает с развитием науки, религии, политики, экономики, техники, права, искусства <…> Это сплетение, соучастие всех (перво) – начал можно назвать прото-письмом. В нем растворяется миф о простоте (перво) – начала. Этот миф связан с самим понятием (перво)начала – с повествованием о (перво)начале, с мифом о (перво)начале, а не только с первобытными мифами»66
Деррида Ж. О грамматологии. М.: AdMarginem, 2000. С. 231.
[Закрыть]. Отношение «фонетического письма» (и, соответственно, речи) и прото-письма в «грамматологии» Ж. Деррида – это, собственно, отношение мысли, уже отделившей себя от (несуществующего) истока и – того немыслимого и несуществующего, «что» и называет себя истоком в рамках неизбежного мифа о первоначале.
Это «нечто» или, точнее, «ничто», выступает оборотной стороной одного из основных тезисов постклассической философии: «мысль – то, что всегда уже началось». Как бы далеко мы ни ушли в поисках истока мысли, мы обнаружим там либо уже начавшуюся мысль, либо немыслимый хаос, не поддающийся никакому рациональному освоению.
Первое не оставляет никакой надежды на преодоление вторичности мысли: исходный момент стирается самим движением мысли, предъявляющим только свой собственный промежуточный «результат», никоим образом не отсылающий к тому, «о чем» эта мысль: «Никогда не существовало никакого “восприятия”, а “презентация” – это репрезентация репрезентации, которая стремится к себе, а следовательно, к своему собственному значению или к своей смерти. <…> Конечно, ничто не предшествует этой ситуации. Несомненно, ничто ее не прекратит. Она не охватывается, как бы Гуссерль этого ни хотел, интуициями или презентациями»77
Деррида Ж. Голос и феномен. СПб.: Алетейя, 1999. С. 136.
[Закрыть]. Этот пассаж Ж. Деррида адресован, конечно, не только Гуссерлю. Речь идет о разоблачении любых попыток выйти за рамки содержательного мышления (мышления «о чем-то», где «что-то» как раз и дается посредством презентации) силами самого этого мышления. Единственным выходом из этого круга может быть только признание невозможности этого выхода и последовательный разбор («деконструкция») тех построек мысли, которые ни на чем не держатся. Иными словами – выход к тому немыслимому хаосу, в котором мысль и рождается. Точнее говоря, выход к той границе («хаоса» и «космоса»), на которой и балансирует мысль, трезво осознающая свою безосновность. Если отвлечься от словесных различий, эта идея необходимости разбора конструкций Логоса выступает сквозным мотивом постструктурализма. У М. Фуко – это тезис о необходимости «охватывать, воссоздавать, оживлять в четкой форме это сочленение мысли с тем, что в ней, под ней и вокруг нее не является собственно мыслью, но и не вовсе отрешено от нее предельной и непреодолимой внеположностью. Cogito в этой своей новой форме будет уже не внезапным прозрением, что всякая мысль есть мысль, но постоянно возобновляемым вопрошанием о том, как же мысль может обретаться одновременно вдали и близ себя, как может она быть под видом немыслимого. Современное cogito приводит бытие вещей к мысли, лишь разветвляя бытие мысли вплоть до тех пассивных волоконцев, которые уже не способны мыслить»88
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 345.
[Закрыть]. Парадоксальным образом строгое следование главной интенции мысли – охватить собой все – оказывается связанным с необходимостью насильственного прерывания этого движения охвата, с необходимостью саморазрушения мысли, именно для того, чтобы встретиться с собственным началом. Это начало, таким образом, есть что-то враждебное по отношению к мысли, на что и указывает со всей определенностью Ж. Делез: «В мысли первичны взлом, насилие, враг, ничто не предполагает философию, все идет от мизософии. Для обоснования относительной необходимости мыслимого не будем полагаться на мышление, возможность встречи с тем, что принуждает мыслить, поднимая и выпрямляя абсолютную необходимость акта мышления, страсти к мышлению. Условия подлинной критики и подлинного творчества одинаковы: разрушение образа мышления – как собственного допущения, генезиса акта размышления в самом мышлении.
В мире есть нечто, заставляющее мыслить. Это нечто – объект основополагающей встречи, а не узнавания. <…> в своем первичном качестве, независимо от тональности, оно может быть лишь почувствовано (выделено мной. – Е. Б.). Именно в этом смысле оно противоположно узнаванию»99
Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 175.
[Закрыть]. Иными словами, то, благодаря чему начинается мысль, не может быть узнано самой мыслью, коль скоро все, что она может узнать, есть всегда и неизбежно нечто вторичное, некое представление о том, что «есть». Таким образом, встреча со своим началом (которая продолжает оставаться «на повестке дня», коль скоро интенция охвата «всего» сохраняется) может произойти только на границе мысли и не-мысли, или бессмыслицы, на границе разума и неразумия (точнее, безумия). Именно на этой границе локализует Ж. Деррида позицию М. Фуко, пытающегося создать «Историю безумия»: «Это точка, в которой коренится проект: мыслить тотальность, избегая ее. Избегая, то есть превосходя, что по отношению к сущему возможно лишь при выходе к бесконечному или к ничто: даже если все то, что я мыслю, затронуто безумием или ложью, даже если весь мир в целом не существует, даже если бессмыслица захватила весь этот мир целиком, включая и содержание моей мысли, я мыслю, я существую, пока я мыслю. Даже если на деле у меня и нет доступа к этой тотальности, если я не могу ни понять, ни охватить ее, я формулирую проект, смысл которого определим лишь с точки зрения некоего предпонимания бесконечной и неограниченной тотальности. Вот почему в этом превосхождении возможного, права и смысла реального, фактического и сущего этот проект безумен, он признает безумие как свою свободу и свою возможность»1010
Деррида Ж. Когито и история безумия // Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 89.
[Закрыть].
Это признание безумия как своей (не случайной, но необходимой) возможности требует, в свою очередь, и другого признания: не может начаться не только то, «о чем» мысль, но и тот, «кто» мыслит: определенность субъекта мысли, его от-личие от всего остального также тонут в неразличимости истоков. В этом отношении философия поструктурализма наследует Ф. Ницше с его вопросом: «Кто здесь задает вопросы?» и, соответственно, с разоблачением этого «кто». Там, где я решаюсь на бросок к немыслимому «условию» мысли, осуществляю тот «взлом», о котором пишет Ж. Делез, или «разрыв в тексте», который утверждает (вопреки своему собственному утверждению тотальности текста) Ж. Деррида, я неизбежно открываюсь той стихии, которая растворяет в себе само это «я». Тот, кто мыслит, так же вторичен, как и то, «о чем» мыслят. Этот «кто» – не более чем промежуточный результат случайных и немыслимых обстоятельств, тот, кто должен разоблачить самого себя именно для того, чтобы остаться верным себе – как «современному cogito» (М. Фуко). Именно поэтому утверждение бессубъектного характера мышления, наряду с разоблачением идеи образца или оригинала – ведущий мотив постструктуралистской философии.
Именно строгое и бескомпромиссное следование основной интенции cogito неизбежно приводит к открытию его зависимости от того, что не только им не является, но и не поддается никакой концептуализации, всегда ускользает от света рефлексии. Человек как мыслящий субъект вынужден признать свое «темное» происхождение: «Первоначальное в человеке не способно ни свестись к некой предельной точке тождества, реальной или потенциальной, ни даже указать на нее, неспособно выявить в Тождественном тот момент, когда отщепление Иного еще не произошло. Оно с самого начала сочленяет человека с чем-то отличным от него самого, оно вводит в человеческий опыт возникшие раньше него содержания и формы, над которыми он не властен, оно связывает человека с разнообразными, взаимопересекающимися, порой несводимыми друг к другу временными последовательностями, рассеивает его во времени и вместе с тем водружает в самое средоточие вещей. Как ни парадоксально, первоначальное в человеке не возвещает ни о времени его рождения, ни о древнейшем ядре его опыта – оно связывает человека с тем, что существует в ином времени, нежели он сам, оно пробуждает в нем все то, что ему не современно, оно беспрестанно и каждый раз с новой силой указывает на то, что вещи много старше его, а потому, раз человеческий опыт всецело создан и ограничен вещами, определить его первоначало невозможно»1111
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 352.
[Закрыть].
Таким образом, важнейшей задачей cogito становится разоблачение самой формы «я мыслю» как необходимой, но все же иллюзии, создаваемой работой машины мышления. Эта иллюзия выступает результатом того же самого движения мысли, которое порождает убеждение в существовании самотождественного Образца: последний может быть распознан, скопирован, отражен только тем, кто также обладает самотождественностью. Иными словами, моя устойчивость в качестве субъекта мысли порождается в ходе того движения, истоки которого мне не ясны, не зависят от меня и всегда меня опережают.
Эта «темнота» истоков, в свою очередь, проявляется двояко: во-первых, как невозможность проследить причины и условия конституирования меня как мыслящего и, соответственно, говорящего, и, во-вторых, как невозможность собственной речи – в силу того, что мне всегда уже даны формы, в которых мысль высказывается. В эссе, посвященном творчеству А. Арто, Ж. Деррида осмысляет идею Арто о «похищении слова» именно в контексте тезиса о неустранимой вторичности субъекта: «С момента, с которого я начинаю говорить, слова, которые я нашел, будучи именно словами, мне уже не принадлежат, изначально повторяясь…»1212
Деррида Ж. Вкрадчивое слово // Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 287.
[Закрыть]. Это «изначальное повторение», собственно, и ставит под вопрос мое право на то, чтобы быть субъектом мысли и речи: «Итак, отныне тот, кого называют говорящим субъектом, не будет больше тем, кто говорит или, по крайней мере, тем единственным, кто говорит. Он оказывается чем-то неизбежно вторичным, поскольку начало всегда уже скрадено в том организованном поле слова, в котором он тщетно ищет свое всегда отсутствующее место. Это организованное поле – не просто то, что могли бы описать некоторые теории психического или лингвистического факта. В первую очередь оно оказывается, если отвлечься от дополнительных значений этого выражения, культурным полем, в котором я должен черпать мои слова и мой синтаксис, историческим полем, оказавшись в котором, я должен читать по писаному. Структура кражи уже устанавливает, устанавливая себя, отношение слова к языку»1313
Там же. С. 287–288.
[Закрыть].
«Кража», таким образом, неизбежна здесь и потому, что нечто («культурное» или «историческое» поле) всегда меня опережает (а значит, говорю не «я»), и потому, что украденное невозможно вернуть «владельцу» – за неимением такового. Иными словами, это исходное (для меня) нечто сливается с темнотой ничто. Я застаю себя всегда уже мыслящим и говорящим, но легитимность этого мышления и говорения оказывается под вопросом именно в силу того, что мысль и речь пытаются обратиться к своему истоку без оглядки на связанные с этим обращением опасности. Открытие темноты этого истока – принципиальной, неустранимой, – оказывается одновременно открытием необходимости «самоубийства» того, кто приписывал мысль себе. Разумеется, речь идет о теоретическом самоубийстве, иными словами, об утверждении невозможности помыслить субъект как «мыслящую субстанцию». Последняя десубстанциализируется, обнаруживает свою алогичную «природу» в тот самый момент, когда оказывается своим собственным «объектом». Чем последовательнее осуществляется требование саморефлексии мысли, тем более очевидной оказывается саморазрушительный характер этого настоятельного желания контроля над собственным началом, или, по выражению Ж. Делеза, «бессонницы мысли»: «…неизвестно, только ли сон Разума порождает чудовищ. Делает это и бодрствование, бессонница мысли, поскольку мысль – это тот момент, когда определение обретает единство благодаря односторонней и точной связи с неопределенным. Мысль “проводит” различие, но различие – это чудовище. Не следует удивляться тому, что различие представляется проклятым, что оно – ошибка или грех, образ Зла, требующий искупления. Нет другого греха, кроме извлечения содержания и рассеивания формы»1414
Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 46.
[Закрыть]. Последнее замечание исключительно важно: оно указывает на отношения дополнительности между формой и содержанием мысли как таковой, что, собственно, и уничтожает всякую надежду на возможность содержательного ответа на ницшевский вопрос: «Кто задает вопросы?».