Текст книги "Инкарнация мысли. Постструктурализм в контексте идей М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили"
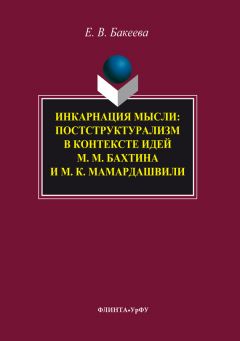
Автор книги: Елена Бакеева
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Первая из этих установок, как мы помним, – убеждение в существовании образца как «бытия самого по себе», образца, который мысль отражает и с которым себя сверяет. Этот «метафизический предрассудок» постоянно и решительно развенчивается в творчестве М. К. Мамардашвили, одной из сквозных тем которого является тема «потерянного рая, которого никогда не было». Эта прустовская метафора указывает у М. К. Мамардашвили прежде всего на многократно упомянутую выше интуицию, свойственную постклассической философии как таковой: я застаю себя всегда уже мыслящим. Соответственно, я всегда уже оставил позади тот образец, на который должен ориентироваться в своей мысли. Однако сосредоточенность на форме утверждения этой интуиции открывает мне не отсутствие образца, а невозможность отказа от стремления к нему, – при ясном понимании его «несуществования» (во всяком случае, до и вне моего стремления к этому образцу). Как нетрудно заметить, речь идет о том же «топосе», «из» которого говорит М. М. Бахтин, отстаивая «единственную единственность события бытия»: я ощущаю как нечто наиболее реальное, очевидное для меня, именно то, что никогда не сможет стать предметом общего знания и доказательства. Само это ощущение, как уже отмечалось, существует (возникает) только на границе общего мира и моей «единственности». Это, собственно, и есть место уплотнения, сгущения «точки интенсивности»: «Представьте себе, что у вас отрешенное ясное сознание, ностальгия по какомуто потерянному раю, которого никогда не было; отрешенность от всякого вашего окружения, от места рождения, от людей, вещей, от всяких обстоятельств вашей жизни. <…> Это страх перед акмэ, страх не сбыться, не осуществиться. Сущность его в ощущении тоски, когда мы чувствуем, что наши эмпирически испытываемые состояния недостаточны, сами не могут служить основанием, что для осуществления себя нет готового налаженного механизма, который срабатывал бы без нашего участия, без того, чтобы я сам прошел какой-то путь. Именно в этот момент, в этой точке, с одной стороны, мы подвешены в пустоте над зияющей пропастью неизвестной нам родины, которая нам ближе, чем реальный, но инородный мир, а с другой, – ощущаем полное отсутствие естественного механизма реализации. И философские проблемы, проблемы мысли возникают именно здесь, в этом зазоре (выделено мной. – Е. Б.)»3434
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. С. 41.
[Закрыть]. Иными словами, сама проблема начала как образца, истока, оригинала возникает только «внутри» моего стремления к этому истоку, который здесь одновременно отрицается – как некое «что», существующее до меня, – и утверждается – как предмет моего стремления.
Вполне отчетливо проговаривается М. К. Мамардашвили и тема ухода в дурную бесконечность поисков начального момента мысли, исходящих из содержания самой мысли: «Смысл – это такое образование, для которого всего мира и всего опыта относительно мира недостаточно, чтобы возник вопрос о смысле. Смысл из содержания самого опыта не производится, не вытекает. Нет в содержании опыта ничего такого, что было бы способно породить вопрос о смысле, также как в механике глаза нет ничего указывающего на то, что это глаз»3535
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. С. 54.
[Закрыть]. Эта «бессмысленность» содержания, лишенного формы, утверждается здесь «из» той точки, в которой одновременно удерживается уже обретенный смысл (как само чистое действие утверждения) и – его содержание, подлежащее объективации. Именно поэтому тезис, на первый взгляд, аналогичный положениям ведущих представителей постструктуралистской философии – «мысль нельзя начать», сопровождается не разоблачением претензий мысли, но утверждением ее немыслимой действительности: «Наша принадлежность к человечеству как к области мышления означает <…> что в строгом смысле слова мы не можем начать мыслить. Ведь когда мы мыслим, мы имеем дело с чем-то, что в принципе не имеет начала, не можем сказать: вот я начинаю мыслить. Мышление нельзя начать, можно только уже мыслить, быть в мышлении. Это таинственно, как соль, которую нельзя посолить»3636
Там же. С. 64.
[Закрыть].
Мысль действительно не может увидеть момент собственного рождения, но возможно признание самого факта мысли, которое парадоксальным образом и делает мысль существующей. В этом же действии принятия-признания факта мысли рождается и ее субъект, – тот, кто может утверждать некое содержание, несмотря на его неполноту (конечность). Иными словами, так же, как и в концепции «участного мышления» М. М. Бахтина, речь здесь идет о выявлении (уже присутствующих) условий осмысленности самой стратегии «преодоления метафизики». Эта стратегия, как уже не раз отмечалось выше, выстраивается в опоре на провокационный ницшевский вопрос, подрывающий убеждение в существовании субъекта мысли, противостоящего тому, «что» мыслится.
Концепция М. К. Мамардашвили дает ответ не только на этот вопрос, но и на другой, который скрывается за первым: «А кто спрашивает о субъекте?», иными словами, – ответ на вопрос о самой возможности того саморазоблачения и, по сути дела, «теоретического самоубийства», которое осуществляется в рамках постструктурализма. Этот ответ можно сформулировать следующим образом: решиться на подобное «теоретическое самоубийство» может только тот, кто уже родился в качестве субъекта свободного поступка, не ограниченного никакой теорией, никаким содержательно определенным знанием. Поступок (как чистое усилие или чистое действие) впервые создает и мир, и меня в мире, но этот акт творения парадоксальным образом может трактоваться и как высвобождение места для меня в (уже существующем) мире: «Итак, истина не установилась, а все время устанавливается. И если я нашел себе место, а это есть место усилия (выделено мной. – Е. Б.) – вот здесь, оно для меня оставлено, потому что, как я уже говорил, мир не только всегда нов, но в нем всегда для меня есть место, – и если я нашел, заполнил это оставленное для меня место, то тогда я могу свободно творить то, что не может быть иначе»3737
Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М.: Прогресс: Культура, 1993. С. 47.
[Закрыть].
Место, создающееся усилием, оказывается, таким образом, местом парадоксального совпадения необходимости и свободы: встраиваясь в мир там, где, по выражению М. М. Бахтина, «бытие не равно себе самому», я тем самым принимаю этот мир во всей его независимости от меня. Но все-таки: кто же этот «я», который одновременно осознает свое «теоретическое ничтожество» и свое право на принятие-признание мира, существующего независимым от меня образом? Это и есть действие соединения (связывания) содержания, которое ухватывается здесь в его «бессмысленности», и формы мысли, каковой и выступает акт «взятия на себя» этого содержания, в котором рождается само это «себя». Это означает, что «я» как субъект мысли – бессодержательно: это, собственно, сам момент переключения того, что потом будет названо мыслью, из режима «бессубъектности» в режим «субъектности»: «Предоставленный самому себе человек – распад и хаос. А для Декарта существует точка интенсивности, когда можно преодолеть хаос. И эта точка интенсивности или переключающая точка есть “я”, т. е. тавтология “я”. Мы не можем отделить предмет суждения от субъекта суждения, и это “я” обнаруживает в себе тавтологию всех тавтологий или точку точек интенсивности. А что является тавтологией всех тавтологий? Бог!»3838
Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М.: Прогресс: Культура, 1993. С. 52.
[Закрыть].
Самое удивительное в приведенном высказывании – то, что это запись самого переключения или «скачка» из теоретического мира в пространство поступка. Именно в теоретическом мире, «внутри» познающего разума человек есть «распад и хаос». Сам этот разум для своего осуществления должен принести жертву: отказаться от любых гарантий в виде существования некоей мыслящей субстанции, которая существует до акта мысли. О необходимости такого отказа, инициированного Ницше, говорит, в частности, Ж. Делез: «Ницше был, кажется, первым, кто увидел, что смерть Бога становится эффективной лишь при разрушении Мыслящего субъекта. Тогда обнаруживается, что бытие приписывает себе различия, не заключающиеся ни в субстанции, ни в субъекте: они подобны подспудным утверждениям. Если вечное возвращение – высшее, то есть самое интенсивное мышление, то потому, что его высшая связность в самой высокой точке исключает связность мыслящего субъекта, мира, мыслимого в качестве Бога-гаранта»3939
Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 81.
[Закрыть]. Различие того, что говорится Ж. Делезом и М. К. Мамардашвили, выступает тем нагляднее, чем более очевидной является их словесная перекличка: «самая высокая точка интенсивного мышления» в одном случае исключает «Бога-гаранта», в другом же – предполагает (точнее, полагает) Бога как «тавтологию тавтологий». Как представляется, различие это обусловлено именно тем, что Делез говорит «изнутри» содержания мысли, Мамардашвили же, переходя от квалификации человека как «распада и хаоса» к Богу как «тавтологии тавтологий», осуществляет «скачок» от содержания к форме мысли. Бог как «тавтология тавтологий» не может мыслиться в качестве некоего «что» или даже «кто», это – «как» мысли, та «динамическая форма», которая только и содержит мысль, точнее, о-формляет мысль в акте своего осуществления. Понятно, что это «как» никогда не сможет стать объектом мысли, и, соответственно, быть описано теоретическим языком.
Говоря о форме мысли, я могу, таким образом, описывать только то онтологическое состояние, которое возникает в момент осуществления этой формы как «события бытия»: «Мы не можем со-знание, то есть вот эту частицу “со-”, превратить в объект. Это и есть то самое дополнительное измерение незнаемого, невидимого, ибо мы не видим сознания. Мы видим содержание сознания, но никогда не видим сознания. И в этом смысле движение в незнаемом есть движение в измерении сознания, которое не наше эмпирическое сознание, а есть нечто, совмещенное с существованием, с бытием. Или, другими словами, то, что есть у нас только в момент, когда. Оно есть только в деятельности, “живьем”»4040
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. С. 116.
[Закрыть].
Это движение или действие в «измерении незнаемого и невидимого» осуществляется, таким образом, «в обе стороны»: я удерживаю содержание сознания (в качестве осмысленного) именно тем, что признаю и принимаю невозможность полного теоретического обоснования этого содержания. Тем самым это признание оказывается не просто констатацией некоей данности, но актом воплощения мысли. Только достигнув предела своих теоретических возможностей, я оказываюсь перед необходимостью осуществления «скачка», в котором и рождается форма мысли или – форма как «произведение»: «…в основе того, что существует вообще такая вещь, как человеческое творчество, или созидание (а когда я говорю “произведение”, я тем самым говорю о некоторых актах творения), лежит фундаментальная незавершенность действительности или даже незавершимость действительности, если брать ее отдельно от участия в ней же произведений (или участия в ней же искусства). Люди, обращающиеся к воображению, одновременно есть агенты жизни. Это смешанные существа. Но противоположность между эмпирической жизнью и жизнью истинной, реальной есть всегда. Она означает, что человек как исполняющее или реализующее себя существо в принципе невоплотим (выделено мной. – Е. Б.) в реальном эмпирическом пространстве и времени»4141
Там же. С. 307.
[Закрыть].
«Эмпирическое пространство и время» здесь, по сути дела, выступают в качестве аналога теоретического мира М. М. Бахтина, – именно в силу того, что речь идет о мире общезначимого, не оставляющем места (и времени) для моего воплощения. Между тем именно воплощение (как исполнение или реализация себя) и выступает тем объектом стремления, который заставляет мысль (в ее содержательном аспекте) искать себе теоретических гарантий. Отказ от этих гарантий при одновременном удерживании самого стремления – воплотиться, «пребыть» или «исполниться», по выражению М. К. Мамардашвили, парадоксальным образом совпадает с самим актом моего воплощения. В качестве «смешанного существа» я не могу отказаться ни от одного из этих «полюсов» моего существования: принятие и признание моей конечности возможно (точнее, действительно) только в контексте моего стремления к Бесконечному, или – акта трансцендирования, лишенного метафизических гарантий.
Именно теоретическая беспомощность открывает мне практическую силу мысли, но только в том случае, если этот теоретический «кенозис» осуществляется реально, т. е. сопровождается действительным выходом на границу мыслимого и немыслимого. Иными словами, мысль конституируется только как конечная, т. е. воплощенная в конкретной ситуации «здесь и сейчас». Главное (и единственное) условие этого воплощения – действие «взятия на себя» тех обязательств и последствий, которые диктуются содержанием мысли, но не могут быть обоснованы теоретическим образом. Попытка избежать этой ответственности, спрятаться за теоретическую всеобщность (пусть даже это будет всеобщность невозможности мысли) есть, согласно М. К. Мамардашвили, проявление нигилизма, аналогичного бахтинскому «теоретизму» или «самозванству», всегда обеспечивающему себе алиби в бытии: «Нигилизм – это твердое убеждение, что не я могу. Говоря на абстрактном языке, это отрицание возможности как таковой, что в конечном человеческом действии может быть выполнено чтото. Что всегда может быть завтра. <…> А христианский принцип европейской культуры как раз противоположный – он гласит в философском его выражении, поскольку философия и религия разные вещи: что бы ни случилось, как бы все ни складывалось, я могу. Это принцип Декарта – мир устроен так, что всегда, несмотря ни на что, есть хоть одно существо, которое может. В том числе может поступать вопреки и в противовес всем природным силам, всем обстоятельствам, всем вынуждениям и т. д. Хотя поступать оно всегда будет конечным образом, несовершенно. Тело Христа – это совершенный образец конечного действия, потому что Христос – человек, а Антихрист есть отрицание возможности автономного ответственного человеческого действия»4242
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. С. 79–80.
[Закрыть]. Этот перевод с религиозного языка на язык философии высвечивает исключительно важный момент: «тело» трактуется как «конечное действие», и это, собственно, главное, что характеризует «практическое философствование» М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили.
Конечное действие или – действие принятия своей конечности, что в данном контексте одно и то же: это принятие осуществляется до и вне того содержания, в котором конечность обнаруживается и выражается. Само это содержание может быть любым, оно действительно случайно, однако лишь акт признания невозможности отказа от этого содержания превращает его случайность в действительность, его гипотетическую мыслимость в инкарнированную мысль. Это означает, что начало мысли – во всех трех затронутых выше аспектах – оказывается здесь вертикальным сечением сугубо «теоретической», т. е. содержательной, горизонтали, всегда лишь потенциальной и, в силу этого, безразличной во всех смыслах этого слова. Только на этой вертикали реабилитируется начало в первом аспекте – как предшествующее мысли «первосущее», тот оригинал, на который ориентируется и с которым сверяется мысль. Парадоксальным образом оригинал утверждается здесь как то, к чему мысль никогда не прорвется, но что, тем не менее, выступает неустранимым условием ее констируирования. Тем самым прерывается и дурная бесконечность поиска истоков, а хаос и темнота, скрывающие момент перехода от бессмыслицы к мысли (смыслу), сворачиваются в «точке интенсивности» (М. К. Мамардашвили) или в «событии бытия» (М. М. Бахтин). Эта точка необратимым образом разделяет то, что «заставляет мыслить» (Ж. Делез) и – саму мысль, которая теперь становится моей. Иными словами, на этой же вертикали рождаюсь и я – как субъект мысли. Именно поэтому о субъекте как «носителе» инкарнированной мысли уместнее говорить от первого лица: «универсальный субъект» действительно растворяется вместе с такими химерами, как абстрактное «Трансцендентальное означаемое» или «мысль вообще». Однако в акте «участного мышления» (М. М. Бахтин) субъект не просто возвращает себе все утраченные права, но и обеспечивает себе неуязвимость в отношении любых попыток теоретического разоблачения: именно потому, что субъект теперь не учреждается теоретическим разумом, он не может быть этим разумом «отменен».
Самое важное, однако, заключается в том, что именно в этом акте воплощения мысли оправдываются не только подлинно сущее, мысль и мыслящий субъект, но и сам теоретический разум во всей его беспощадной саморазрушительности. Как уже говорилось выше, именно признание воплощенности мысли позволяет избежать той ситуации «парадокса лжеца», в которой неизбежно оказывается тот, кто занимает в отношении мысли разоблачительную позицию. Воплощение мысли как «конечное действие» позволяет обнаружить оборотную сторону констатации, являющейся «общим местом» постструктурализма: «мысль всегда уже началась». Это, в свою очередь, означает не только реабилитацию начала, но и новый взгляд на возможность осуществления или полноты мысли.
ГЛАВА 2
НЕПОЛНОТА МЫСЛИ: СКОЛЬЗЯЩАЯ ГРАНИЦА
2.1. Невозможность присутствия
Собственно, сама приставка пост– применительно к постструктурализму связана прежде всего с открытием и утверждением невозможности для мысли не только начаться, но и существовать, т. е. – пребывать в настоящем. Именно поэтому, в частности, невозможно говорить и об открытии, обнаружении и описании тех структур, которые, будучи лишенными в рамках структурализма статуса «подлинной реальности», все же играют роль ее замены. Постструктурализм проблематизирует саму возможность встречи мысли с тем, что мыслится, с тем, к чему она обращена как к своему «объекту». Эта встреча невозможна по тем же самым причинам, которые указывают на невозможность начала мысли: несуществование того, что мысль «отражает», нефиксируемость самого движения мысли как непрекращающейся «игры различий», наконец – отсутствие того, «кто» или «что» мыслит, невозможность выделения мыслящей инстанции на фоне этой игры.
Первый из вышеупомянутых моментов «переоткрывает» простую, очевидную интуицию, составляющую фон любого мышления, но становящуюся заметной лишь в результате доведенного до своего возможного предела рефлексивного движения мысли: интуицию трансцендентности бытия. Добыча, которую обретает мысль в своем предприятии, никогда не есть «само бытие», всегда остающееся немыслимым. Именно эта интуиция требует вновь задаться вопросом об отношении бытия и мышления, как это делает М.Фуко в «Словах и вещах»: «Каково же оно – это бытие, которое словно искрится и мерцает в открытости cogito, но не дано во всем своем величии им самим и в нем самом? Каково соотношение и сложная сопринадлежность бытия и мышления? Каково оно – человеческое бытие, и как же может так случиться, что бытие это, которое так просто было бы определить, сказав “оно обладает мыслью” (быть может, только в нем она содержится), находится в таком глубоком и неустранимом отношении к немыслимому? Так устанавливается некая форма рефлексии, весьма далекая и от картезианства, и от кантовского анализа, и в которой впервые встает вопрос о бытии человека в том измерении, где мысль обращается к немыслимому и сорасчленяется с ним»4343
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 346.
[Закрыть].
Очевидно, что ответ здесь скрывается в самом вопросе: «искрящееся» и «мерцающее» бытие никогда не ухватывается мыслью, следовательно, то измерение, «где мысль обращается к немыслимому», всегда остается недоступным для мышления, точнее – может быть доступно для него лишь косвенным образом, в виде «аналитики конечного человеческого бытия». Все дело, однако, в том, что эта «аналитика» не может быть квалифицирована как «мысль» в классическом или «метафизическом» смысле этого слова, именно по той причине, что анализ здесь никогда не предполагает момента совпадения мысли с тем, что мыслится, с «самим бытием». Этот анализ призван как раз продемонстрировать неосуществимость метафизики, т. е. того предприятия мысли, которое всегда нацелено на такое совпадение. Все попытки построить некую очередную метафизику «…не приводят к успеху, поскольку они опровергаются и даже подрываются изнутри, ведь речь теперь идет лишь о метафизиках, соизмеримых с конечным человеческим бытием: метафизике жизни, ведущей к человеку, даже если она на нем и не останавливается; метафизике труда, освобождающего человека тем, что дает ему возможность самому освободиться от него; метафизике языка, позволяющего человеку вновь присвоить себя в сознании собственной культуры. Таким образом, современное мышление противится собственным метафизическим устремлениям, показывая, что размышления о жизни, труде, языке, выступая в роли аналитики конечного человеческого бытия, обозначают конец метафизики: так, философия жизни ниспровергает метафизику как покров заблуждения, философия труда – как отчужденную мысль, как идеологию, философия языка – как эпизод культуры»4444
Там же. С. 338–339.
[Закрыть].
Это внутреннее сопротивление мышления собственным «метафизическим порывам», выступая закономерным следствием выхода мысли к своему пределу, неизбежно приводит к отрицанию краеугольного камня любой метафизики – самого «есть», или бытия как присутствия. Точнее говоря, последовательное осуществление саморефлексии мысли требует признания невозможности утверждения как такового, всегда предполагающего связку «есть». Это «есть» теперь обнаруживает всю свою необоснованность, коль скоро указывает на «то», что никогда не попадет в силки мысли. Именно поэтому любое «есть» всегда уже является подменой или самоповтором.
В этой ситуации указание на то, что мыслится, можно осуществить только косвенным образом, в опоре на такие концепты, которые не претендуют на прямое означивание того, что есть, но, напротив, свидетельствуют о невозможности такого означивания. Именно такую роль играют концепты «следа» и «прото-письма» в деконструктивизме Ж. Деррида. Любое «есть», любая очевидность, данность, на которую опирается и к которой взывает мысль, оказываются здесь эффектом того, чего никогда не было, коль скоро сама оппозиция (внешнего и внутреннего, бытия и мышления, наличия и отсутствия) возникает только как часть или сторона этого эффекта: «Прото-письмо как первичная возможность речи, а затем и собственно “графии”, как место “узурпации”, обличаемой от Платона и до Соссюра, сам этот след есть открытие изначальной внеположности как таковой, загадочное отношение одного живого существа к другому существу, нутри к наруже, или, иначе, разбивка. Наружа, “пространственная” и “объективная” внеположность, настолько привычная и знакомая, что кажется самим образцом привычности как таковой, никогда не могла бы нам явиться без граммы, без различАния как овременения, без неналичия другого, вписанного в самый смысл наличия, без отношения к смерти как к конкретной структуре живого настоящего (lebendige Gegenwart)»4545
Деррида Ж. О грамматологии. М.: AdMarginem, 2000. С. 199.
[Закрыть]. Смерть здесь выступает символом разрыва, непреодолимой пропасти между тем, что мысли удалось обрести, включить в свои пределы, и тем, что «обеспечивает» или «обосновывает» это обретение.
Единственным способом оправдания всего того, что может рассматриваться как достояние мысли, и прежде всего – оправдания всей предшествующей философии, оказывается тогда «зановопрочтение» философских текстов, но уже под знаком «письма»: «Имеющее свои интересы письмо, позволяющее таким образом прочитывать философемы – и как следствие все тексты, принадлежащие к нашей культуре, – в качестве своеобразных симптомов <…> чего-то такого, что не смогло присутствовать в истории философии, что и нигде не присутствует, поскольку дело во всем этом предприятии идет о постановке под вопрос этого заглавного определения смысла бытия как присутствия, определения, в котором Хайдеггер умел распознать судьбу философии»4646
Деррида Ж. Позиции. М.: Академический проект, 2007. С. 15.
[Закрыть].
«То, что нигде не присутствует», чаще всего выступает в рамках постструктурализма под именем «различия». У Ж. Делеза, в отличие от Ж. Деррида, фокусирующего внимание прежде всего на различии как скрытом пробеле, «дыре» внутри текста как такового, различие обретает позитивный смысл. Последний, однако, опять-таки не может быть выявлен и сформулирован иначе, как посредством отрицания наличия. Мысль, полностью отдающая себе отчет как в характере собственных устремлений, так и в способе своего существования, неизбежно должна признать невозможность встречи со своим «объектом» или, в терминологии Ж. Делеза, «узнавания». Здесь невозможность констатации наличия, отрицание всякого предсуществующего «есть», связаны именно с неустранимой новизной того, что пытается «выражать» или «отражать» мысль. Последняя, таким образом, если с чем-то и встречается, то – всегда с чем-то иным, неизвестным. Отсюда понятно, что именно разрушение обыденного, наивного представления о некой самоочевидной данности, предшествующей мысли, выступает необходимым условием реализации мышления, осознавшего свою парадоксальную «природу». Речь идет о такой философии, «…которая не будет иметь никаких допущений: вместо того, чтобы опираться на нравственный Образ мышления, она будет исходить из радикальной критики имплицируемого Образа и “постулатов”. Она найдет свое различие и настоящее начало не в союзе с “дофилософским” Образом, а в решительной борьбе с Образом, разоблаченным как не-философия. Тем самым она нашла бы аутентичное повторение в мысли без Образа, хотя бы ценой самых больших разрушений, самой сильной деморализации и упрямства философии, у которой в союзниках остался бы только парадокс; она должна была бы отказаться от формы представления как элемента обыденного сознания»4747
Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 166–167.
[Закрыть].
Образ должен быть разрушен не только потому, что он вводит в заблуждение, указывая на нечто «предсуществующее», но и в силу того, что всегда является (в качестве образа) чем-то застывшим, и, следовательно, искажающим эту парадоксальную «природу» мысли. Последняя не может обрести полноту, исчерпать себя в каком-либо «есть»: она динамична и размывает любую определенность – как «вне» себя, так и «внутри». Впрочем, сама эта противоположность внутреннего и внешнего выступает здесь как продукт некоего «исходного» немыслимого движения или действия, которое «само» уже мыслью не ухватывается: «Мысль тотчас приводит в действие все то, чего она касается; пытаясь раскрыть немыслимое или хотя бы устремляясь к нему, она или приближает его к себе, или же отталкивает его прочь; во всяком случае, она тем самым изменяет человеческое бытие, поскольку она развертывается именно в том промежутке между мыслью и немыслимым»4848
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 348.
[Закрыть].
Таким образом, мысль как действие заранее «дискредитирует» свое содержание, коль скоро «областью» ее собственной компетенции оказывается здесь только сам «промежуток между мыслью и немыслимым». Эта «область» уже не может быть объявлена ни существующей, ни несуществующей. Соответствовать своей парадоксальной «природе» мысль может только одним способом: последовательно проблематизируя собственное содержание, выявляя безосновный характер последнего. То, что высказывается в мысли, всегда уже опоздало, упустило высказываемое, поэтому любое «что» должно быть обезврежено с тем, чтобы высвободить промежуток как подлинное «место» мысли. Это высвобождение, таким образом, предполагает отказ от какой бы то ни было определенности, от поисков подлинности как того, что дано просто и непосредственно. Напротив, основной задачей здесь становится демонстрация того, что за любой кажущейся простотой и очевидностью прячется сложность – как та или иная вариация различия: «Речь идет о том, чтобы показать такое рассеяние, которое ни при каких обстоятельствах не может привести к единой системе отличий, или показать такую распыленность, которая не соотносилась бы с абсолютной осью референции. Речь идет о применении такой “децентрации”, которая не оставила бы в привилегированном положении ни одного центра. Задача такого дискурса состоит не в том, чтобы снять пелену забвения, или чтобы на самом дне сказанных и умолкнувших вещей найти момент их рождения (как если бы речь шла об их эмпирическом создании или трансцендентальном акте, явившемся их истоком). Этот дискурс и не пытается быть молитвенным уединением первоначала, или воспоминанием об истине. Напротив, он порождает различия, конституирует их как объекты, анализирует и определяет их»4949
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 201–202.
[Закрыть].
Парадоксальным образом единственное, что подлежит констатации в контексте положения о вторичности всякого содержания мысли – это то, что ничего нет. Но и эта констатация, в силу своей категоричности, не может в полной мере соответствовать этому парадоксу. В свете последнего мысль сопротивляется любому «застыванию» в теории, любой окончательности, на которую так или иначе претендует всякий текст. Поэтому единственное, что еще остается на долю мысли, желающей соответствовать своей парадоксальной «природе» – это постоянно возобновляемая попытка освобождения от какой бы то ни было окончательности, от претензии на то, чтобы что-то сказать. Именно так формулирует Ж. Деррида основную задачу своей деконструкции: «Я пытаюсь писать в пространстве (и пространство), где ставится вопрос говорения и желания-сказать. Я пытаюсь выписать вопрос: что (такое) хотеть-сказать? Получается с необходимостью, что в подобном пространстве, и по путеводной нити такого вопроса письмо буквально не-желает-ничего-сказать. Не то что оно абсурдно той абсурдностью, которая всегда входит в систему с метафизическим желанием-сказать. Просто оно пытается, пытает себя, старается держаться в точке истощения желания-сказать. Рискнуть ничегоне-желать-сказать – значит вступить в игру разнесения (differance), которая делает так, что ни одно слово, никакой концепт, никакой важный тезис не претендуют на подытожение и организацию, исходя из теологического присутствия центра, движения различий и их размещения в центре»5050
Деррида Ж. Позиции. М.: Академический проект, 2007. С. 22–23.
[Закрыть].
Концепт «differance», переводимый В. В. Бибихиным как «разнесение» (в пер. Н. Автономовой – «различАние»), непрямым образом указывает здесь на тот безначальный и бесконечный поток, в котором невозможно выделить говоримое – в противовес чемуто другому. Как только я (впрочем, уже и не «я») решаюсь сказать нечто, я автоматически оказываюсь в этом потоке, заранее поглощающем как все возможные утверждения и отрицания, так и все то, что расположено между этими полюсами. Единственной возможностью «соответствовать» этой ситуации оказывается тогда последовательное и неуклонное сопротивление какому бы то ни было утверждению (как со знаком «плюс», так и со знаком «минус»). Речь идет о том, чтобы не описывать «то», что никогда не может стать объектом мысли, «то», что всегда уже ее опередило (игру differance), но – включиться в эту игру, погрузиться в нее, преодолевая постоянно возникающее (возобновляющееся) желание «поставить точку». Поддаться этому желанию означало бы вновь опереться на некое содержание мысли, которое уже дискредитировано как таковое. В конечном счете сохранить мысль от метафизической смерти оказывается возможным только посредством отрицания «живого присутствия» – парадоксального предприятия мысли, инициированного, наряду с Ф. Ницше, основоположником психоанализа: «То, что присутствие не изначально, но перестроено, что оно не является абсолютной, живой с начала и до конца и конституирующей формой опыта, что нет чистоты живого присутствия – вот тема, ужасная для истории метафизики, которую Фрейд призывает нас мыслить посредством понятийной системы, не отсылающей уже к “самой вещи”. Эта мысль является, вне всякого сомнения, единственной мыслью, которая не исчерпывается в метафизике или науке»5151
Деррида Ж. Фрейд и сцена письма // Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 340–341.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































