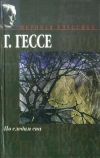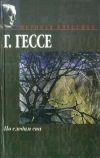Читать книгу "По следам кисти"

Автор книги: Елена Черникова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Последнее советское время – с августа по декабрь 1991 – мы с медлительным пофигистом Коляном проблюзовали, как дети в песочнице, под крышей мутно-синей развалюхи. Мы растянули себе эпоху. Горчайшее пьянство бывшего чемпиона-гонщика сочилось амбре, символами, толкалось локтями, но я еще ничего не понимала. Я энергично провела тайм длиной в четыре месяца, ни секунды не думая, что вот он финиш. За четыре месяца: а) ушла от мужа; б) пережила ГКЧП и танки под окном; в) надышалась ароматом хлорки пустых прилавков и настоялась в очередях за неведомым; г) налюбовалась исключительно картинной золотой осенью ввиду романа с мужчиной, коего прочила себе в будущие; д) освоила сцепление на оледенелом пустом раннезимнем автодроме; е) не поняла распада СССР с отречением Горбачева; е) встретила Новый год во внезапно укороченной России, свободной наследнице Союза, под проповедь сатирика Задорнова. Он потом вспоминал: «Самый большой успех в моей жизни был в ночь с 1991 года на 92. Мне выпала честь поздравить с Новым годом наш народ, в последний раз назвав его советским».
2 января 1992 вышла я в магазин на Баррикадной и увидела колбасу по 8 рублей за килограмм. Три сорта. Вот неделю назад не было никакой, а если была, то «Докторская» по 2 рубля 20 копеек и «Любительская» по 2 рубля 80 копеек килограмм. Их внучатые племянники продаются ныне под ярлыком «Сделано по ГОСТу» с намеком на «добрые времена». 2 января появилось многое, чего захотели граждане, но деньги растаяли быстро, поскольку жить в инфляционной печке никто не умел. Гайдар выполнил обещание, то есть зажег очистительный огонь инфляции. Убитыми, ранеными, сумасшедшими, новыми русскими, грамотными потребителями, просто вдовами, незачатыми, нерожденными – страна потеряла более ста миллионов жизней.
Сдавать на права я уже не пошла. Деньги, запасенные на машину, перешли в актив на жизнь. Первая серия о моей машине на экраны не вышла.
В 1991 вышел закон о печати, цензура пала. Наступил 1992. Особенно 2 января. Потом весна. В марте я писала заметку в газетку, а вышло эссе «Весна. Солнце. Мне грустно»
Весна. Солнце. Мне грустно[9]9
Эссе впервые напечатано в марте 1992 года: «Московский литератор», № 11 (655), стр. 3.
[Закрыть]…
Вчера вечером моя предусмотрительная дочь, собираясь на прогулку после дня, прожитого мирно, в играх и сказках, окинула меня оценивающим взором и попросила надеть платок:
– Зайдем в храм, а ты без платка, – объяснила мне она.
Храм, куда она – человек спокойный, основательный, – меня, суетную, время от времени водит, стоит на нашей улице, у Никитских ворот. От порога нашего дома – восемь минут пешком. Примерно на середине пути находится здание, куда я хожу на работу. Не в каждом медвежьем углу жизнь человека так сосредоточена на одной улице, как моя в центре столицы России. Еще совсем недавно, в прошлом году, этот отрезок города был моей капсулой, вшитой в Москву между Садовым и Бульварным, моим обустроенным вагоном, надежно курсирующим между основными московскими параллелями по старинному меридиану бывшей Малой Никитской. В августе возле нашего подъезда два дня поманеврировали танки, изрядно попортив асфальт, а жильцам дома оставив неизгладимые воспоминания: днем – философские беседы с личным составом, ночью – выглянешь в окно, а у подъезда танк.
После ночного ДТП в тоннеле у американского посольства тот сюжет закончился, в обед 21 августа грозная техника еще раз покоптила наши окна и ушла. Не скрою, мне было легко и приятно посмотреть тем машинам вслед, поскольку припаркованные у подъезда они вызывали во мне ощущение нестабильности жизни, словно в тонкой стенке моей малоникитской капсулы – прободение. И не затягивается.
Наутро следующего дня вышло яркое солнце; на «освобожденную» площадь перед «белым домом» потянулись толпы празднично возбужденного населения, и состоялся митинг победителей, – так в прямом эфире телевидения назывался репортаж 22 августа. В отредактированном варианте этого репортажа, в вечерних новостях, пропал шарм всех чрезвычайный деталей событий. Остались счастливые улыбки, горячие речи, ликующее скандирование. А ушло, например, захватывающе интересное суфлирование, контрапунктом шедшее за спиной некоторых выступающих у микрофона. Так, вышел говорить священник Глеб Якунин, а за плечом ему – шепот: «Про политику не говори, про Бога давай! И отец Глеб послушно закричал – «Да поможет нам…» Смешно было, право. Но не все было смешно.
Один оратор простер длань над Москвой и призвал всех собравшихся тут же идти шествием на другую площадь и попутно, получалось по контексту, выявить всех, кто содействовал организации путча своими сочинениями, статьями, выступлениями. (Вскоре он же, очищая райкомы от коммунистов, пригрозил, что если не уйдут, то им отключат свет и воду…) Этот же оратор теперь учит москвичек, от кого им рожать: от обеспеченных мужей, – а в противном случае знайте, на что идете, у нас на вас денег нет.
Прожив большую часть жизни при правителе с весьма вялым темпераментом, я, помню, вместе со всем советским народом встрепенулась по появлении и развороте в 1985– 86 годах правителя значительно более живого и некукольного. Он так контрастировал с предпредпредыдущим, что в 1987 году демографы отметили взрыв. Впечатлительные у нас женщины: в роддомах даже в коридорах койки стояли, а в нашей десятиместной палате, как сейчас помню, еще и раскладушки подставляли.
А вот неделю назад моя соседка рожала сыночка – при усиленном на редкость внимании к ней всего персонала роддома. Потому что больше некому было в тот день оказывать внимание, одна Оксана рожала. А когда отдыхала, родив успешно, и обменивалась с товарками, по роддомовскому обыкновению, всякими дамскими байками, то узнала, что был в этом в году в это заведении исторический, почти легендарный день: 22 февраля появились тринадцать младенцев!.. И ни одного – 23 февраля. Материя устала.
Московское телевидение, отмечая 29 февраля високосный год, радостно сообщило, что в этот редкий день в столице родилось сто сорок с гаком человек. Сто сорок новорожденных в десятимиллионном городе. Тележурналистика не поленилась найти в Москве и такой роддом, где кривая рождаемости не меняет форму вот уже несколько десятилетий, и сделала праздничный вывод: держимся!
Зряшный обман, думала я, глядя на экран. Непродуктивный. Телезритель, читающий газеты, уже в курсе, что бесплатных роддомов в городе меньше десяти (было – больше тридцати). В платных работают наши же врачи, давно привыкшие зашивать разрывы без наркоза, дескать, у дамы после родов и так в глазах темно. Почему же теперь они в рекламах гордятся, что сделают некие процедуры «с обезболиванием»?
Другая моя соседка, одинокая женщина шестидесяти двух лет, в день выборов президента России отдала свой голос Жириновскому. Знаете почему? Ее нисколько не беспокоили все подробности его платформы. Одним-единственным словом покорил он ее сердце: вредно женщине жить одной, сказал Владимир Вольфович в одном из предвыборных выступлений. За эту мысль моя соседка готова была пойти с ним на край света. Она полюбила его так, будто он лично ей пообещал жениться. Она пошла голосовать за экранного героя, который ее – пожалел.
А теперь, по предварительным итогам и президентства в России, и мэрства в Москве, – все мои соседки, всех возрастов, разного материального и семейного положения, профессий, ну всего, – никто не любит наших лидеров. Одного – за то, что большой и громогласный, но не ощутимый в быту, и слово не держит (это про рельсы…). Другого – за то, что любовь к спорту не спасает его от лишнего веса (однажды он надел костюм с галстуком: все с облегчением вздохнули, увидев на экранах, что у Гавриила Харитоновича есть шея. Как у настоящего мужика, сказала третья моя соседка). Чисто по-бабски мои соседки просто страдают от того, что при всем желании не могут любить этих – никак. А насилие от них вынуждены терпеть – ежедневно: несправедливо получается, и грубо.
Следующий лидер, которого мы уже начинаем ждать, как, простите, девочки принца, должен – по сумме претензий, накопленных к нынешним лидерам, – иметь приятное выражение лица, на лице должны быть видны глаза, из-под пиджака не должен торчать живот, звук «г» он обязан говорить не по-южному, фрикативный, а по-московски, в соответствии с нормативным произношением, – взрывной. Принц должен жалеть женщин, разрешать им рожать когда хотят и от кого хотят, а за детские сады пусть платит всем хоть из своего кармана. Идя к власти, он уже должен быть обеспечен (и его дети, и его внуки), чтобы ему было не слишком больно идти в отставку, и чтобы на посту занимался не только своим, но и нашим благосостоянием (то есть пусть мы так будем думать).
Мой вагон, между Бульварным и Садовым, в том августе получил какое-то неисправимое повреждение: я теперь не могу отделаться от ощущения, что придет проводник проверять уже проверенные билеты, внезапно штрафовать и высаживать из поезда. В метро есть селекторы для экстренной связи с машинистом – для сообщения о задымлении, несчастных случаях, нарушениях общественного порядка и прочих чрезвычайных обстоятельствах. Чаще, правда, пассажиры обращаются к селектору при незапланированной длительной остановке между станциями, когда с обеих сторон – глухие черные стены, а нервные достают из сумок валидол.
А в моем вагоне этого больше нету. Ни экстренной связи с машинистом, ни возможности наладить хоть какую-то с ним связь. И это – подчеркиваю – при том, что до кабинетов обоих «машинистов» от моего дома пешком по нескольку минут в каждую сторону. Нарастает ощущение, что весь состав – из списанных вагонов. В масштабе бывшей державы это, конечно, так и есть, но это ощущение пробралось уже на микроуровень, в клетку. Брошенными и одинокими почувствовали себя даже замужние и вполне упакованные. Женщины не будут рожать только лишь в знак протеста. Вот из солидарности с Горбачевым на первых порах нарожали просто ужас сколько народу. Сейчас же – когда моя молодая соседка пошла в загс за свидетельством о рождении своего младенца, она не только не нашла обычной очереди, она вообще долго не могла найти работницу загса, оказывающую эту услугу. А когда нашла, то работница искренне удивилась, с чем пришла посетительница: надо же, ребенок родился!
Может быть, нашему правительству не нужны дети? Может быть, они решили пропустить несколько поколений, чтобы вымерли те, кто «помнит коммунистическое рабство»? А что, это не моя шутка, это почти цитата: в годы перестройки некоторые интеллигенты очень любили вспомнить с экрана положительный пример Моисея, неизвестно зачем целых сорок лет водившего сынов Израилевых по пустыне. Хотя от Египта там – рукой подать. Нет, он хотели довести до земли Ханаанской только тех, кто не знает рабства, – эту мысль с экрана только я лично слышала раз десять[10]10
Трактовка, данная, например, Б. Окуджавой (ходить долго, чтобы вымерли рабы), не соответствует тексту Книги.
[Закрыть]. Может, библейские аллюзии руководят и нашими «машинистами»?
Мои современники и современницы – в стрессе. Поэтому за ответом мне пришлось обратиться к человеку, прожившему очень долгую жизнь – с 1883 по 1969. Он был немецкий философ, расцвет творчества его пришелся на годы нацизма в Германии, а в 1937 его родина лишила его до 1945 всех прав: женат на еврейке. Множество его работ и посвящено изучению духовности в кризисные времена истории, взаимоотношений человека и власти.
Мне надоело плохо относиться к правительству, господин Ясперс. Хочу относиться хорошо. Диагностируйте, пожалуйста, мое недомогание.
«Когда государство обладало авторитетом легитимированной божеством воли, люди покорялись меньшинству и терпели то, что происходило, видя в этом провидение. Однако, если, как это происходит сегодня, люди сознали, что действия государства, как таковые, уже не являются выражением божественной воли, обязательной для всех, они видят в этом проявление человеческой воли. Человек живет в массовом устройстве между полюсами мирного аппарата обеспечения его существования и в ежеминутно ощущаемой власти, в направленность и содержание которой он хочет проникнуть, так как стремится оказывать влияние».
Не уверена, что я хочу оказывать на них влияние. Гораздо сильнее желание – спокойно не замечать их, не опасаясь, что с очередного первого числа грядущего месяца они опять что-то отчудят. То есть я понимаю, конечно, что человек, отправившийся брать власть, должен быть как минимум честолюбив и требовать к себе внимания, цветочных корзин и праздничных салютов. Но, видите ли, хочется, чтоб наши волеизъявления хоть иногда совпадали.
«Государственная воля – это воля человека обрести свою судьбу, что он никогда не сможет совершить в качестве отдельного индивида, а может только в своей общности посредством смены поколений»
Как жаль! Общность вся дрожит, смена поколений нарушена, отдельный индивид близок к невменяемости… Судьба ли это? Впрочем, в любом случае нынешняя государственная воля получается бесплодной – в том числе и как таковая. Не так ли, господин Ясперс?
«Здесь в необозримом переплетении человеческих действий и желаний человек в его ситуациях отдан во власть исторического процесса, движение которого совершается в действиях политической власти, но обозреть который как целое невозможно. На этой основе слепые желания, страстное возмущение, нетерпеливое стремление к владению теряют свой смысл. Лишь длительное терпение при внутренней решимости к внезапному вмешательству, обширное знание, остающееся сверх обязательного действительного открытым бесконечному пространству возможного, может здесь достигнуть чего-либо – большего, чем просто хаос, уничтожение, покорность логике хода вещей».
…Карл Ясперс идеями книги «Духовная ситуация времени» регулирует мое настроение уже несколько недель, хотя завязалось наше общение весьма случайно. Я никогда не спорю с ним, поскольку он пережил все, но жил по-философски долго. Ему виднее.
Но почему бы для успокоения других подданных Гавриилу Харитоновичу не написать что-нибудь вроде «Духовная ситуация московского времени» с изложением личного плана: как вернуть москвичам все их природные желания. Только это из его уст, из-под его пера – только это продлит его политическую жизнь, по соседкам чую. Не сделает он этого в одном случае: если не заинтересован в указанном продлении или уже приготовился, где еще кроме Москвы можно продлить. Впрочем, его личное дело: кто он мне – в самом-то деле…
Дом на Пресне[11]11
Текст написан для сборника «CHAS REM: Эти „лихие“ 90-е» по приглашению его составителя – Александра Грановского, писателя и врача.
[Закрыть]
Лучше всего был исследован классический Древний мир, затем соприкасающаяся с ним ранняя эпоха Средних веков, затем уже менее тщательно – позднейший период средневековья и, наконец, менее всего Новое время, где богатейшие и многочисленные архивные источники вряд ли разобраны с достаточной систематичностью, да и кроме того часто бывают недоступны из-за соображений, касающихся интересов государства или царствующих домов.
Профессор Герман Шиллер, историк
Мы ясно видим спесивую кандальницу Клио; гуляет со свитком, звеня оковами, тормозит по требованию, вписывает незнамо что. Я знаю ее в лицо, ибо живу в районе Москвы, куда капризная дочь Мнемозины регулярно заходит как к себе домой. Достаточно глянуть в окно – идет.
Сначала мое окно смотрело на Малую Никитскую, тогда Качалова ул., строго в окна ГДРЗ, и потому 19 августа 1991 года я увидела у подъезда танки (дом радио – режимный объект). Стены противостоящих домов, моего и радиокомитетского, слева танк и справа танк, – образовали прямоугольник. Я приглядывала за геометрией Клио с моего третьего этажа все три дня. Маневрируя, танки попортили асфальт. Моя дочь строго указала танкистам, что портить асфальт у нашего подъезда нельзя. В свои четыре года она знала элементарные вещи. Все, что было на Садовом кольце, я тоже видела своими глазами, поскольку наша пресненская Клио всегда щедро суфлирует мне куда пойти сегодня вечером. Ни разу не промахнулась. Уважает прессу.
Дом наш был из доходных 1905 года постройки. Парадный подъезд, черный ход, нежно-молочный кабанчик по фасаду, метлахская плитка на площадках, лестницы широкие, ступеньки низкие – под спокойную человеческую ногу; деревянные перила, витые балясины, лепнина по потолку; дубовый паркет оттенков майского меда, подоконники мраморные. Я любила дом, бесчисленных соседей, работу в газете, Москву безусловно и беспримесно, и жизнь долго-долго была дивно хороша. Ни большая зарплата, ни отдельная квартира – то есть обычные причины семейного разлада – не светили нам, и переживать за целостность и градус домашней любви не приходилось.
Сейчас мало кто помнит, почему до демографического провала 1992 года был взрыв рождаемости – в 1987–1988. Уникальный. Единственный за весь ХХ век. Вовсе не из антиалкогольной кампании (1985), как шутковали пошляки, о нет. Источник – иррациональный бабий восторг. Перестройка и Горбачев пообещали социализм с человеческим лицом. Ну, не смогла перестройка. Не вышла ни лицом, ни социализмом. Однако рожать побежали все кто могли.
Выросшие в мирное брежневское время, когда история, казалось, навсегда упокоилась в учебниках, молодые взрывные мамаши не чаяли, что им выпадет бороться за жизнь. Научились, ибо несметные плоды взрыва хотели есть, а еда в стране кончалась.
Аккурат под распад СССР я научилась виртуозно менять детсадик на детсадик, азартно убегая от галопирующей цены. С кормом везло: как сотрудник писательской газеты, я еженедельно получала комплектик из двух квадратных бумажечек: право на заказ. Дата, круглая печать и адреса магазинов означали, что я все-таки накормлю семью. Заказами выжили многие. Заказать в значении выбрать было невозможно и даже немыслимо, но ведь и не в едоцком глупом своеволии было дело. Главное – прийти в очередь в отведенное время, купить готовый набор и радоваться шелестящему хрусту темно-песочной бумаги, похожей на почтовую.
Наборы неовощные, с именем продуктовые – из колбасы, сгущенки, масла и тому подобного[12]12
Да, повтор. Ничего не поделаешь.
[Закрыть] – нам продавали, например, во дворе «Диеты», что по соседству с бывшими «Подарками» на улице Горького, ныне Тверской. Если повернуть в Георгиевский переулок, где нынешняя Государственная Дума, то сарайчик с очередью за едой – сразу под аркой налево во двор. Был.
К декабрю 1991 года даже в сакральных сарайчиках стало пустовато, с вызовом. 25 декабря отрекся М. С. Горбачев. Клио внесла в свиток: СССР (1922–1991). Ночью 31 декабря с обращением к народу вместо президента выступил сатирик Задорнов М. Н. Логично.
А 2 января 1992 года[13]13
Тема шока, полученного автором и другими гражданами России 2 января 1992 года, не раз встречается в сочинениях автора данной книги.
[Закрыть] в гастрономе на Баррикадной появилось много съедобного товара, в том числе три сорта колбасы. Но по цене, по которой народ еще не едал. И – кончились деньги. Инфляция, как указал и. о. премьер-министра Е. Т. Гайдар, должна выжечь все негодное и устаревшее своим очистительным огнем, а Б. Н. Ельцин публично дал национальную идею: «Обогащайтесь!» Началось.
* * *
Объявили приватизацию жилья. Насельникам коммуналок тоже разрешили, но не поодиночке вразнобой, а только если все съемщики всех комнат квартиры согласно и добровольно пожелают стать частными владельцами каждый своих метров, а все вместе – общей квартиры в соответствующих своим метрам долях. Поскольку коммунальный быт кое-где у нас порой отучил граждан от единодушия, местами завертелись шекспирово-зощенковские сюжеты.
В наш дом, бесспорно лакомый (улица Качалова!) и сплошь коммунальный, повадились плечистые юные негоцианты: уезжайте без базара, ведь мы же вам купим однокомнатные квартиры в превосходных микрорайонах столицы. Или. пауза. Истинно качаловская.
Топонимы земель обетованных ничего не говорили моим соседям, из которых Надя всю жизнь работала на Трехгорке, Татьяна Алексеевна девочкой научилась плавать на Москва-реке еще до революции 1905 года; Саша усердно пил и с удалью суицидничал, но и он, как-то проспавшись, подивился топонимам, поскольку в трезвое время суток был таксист; Антонина Федоровна была еще не замужем и заинтересовалась, но призадумалась, поскольку в ее шестьдесят лет, по ее словам, уже надо понимать. Главное, никто не желал знать дорогу в куда-макар-телят-не-гонял, и все расстроились.
Негоцианты, не встретив восторга, тоже немного удивились; выкупили первый этаж и открыли офис. Они напустили в лексикон нашего подъезда немало новых слов, а мы мотали на ус.
По прошествии месяца к нам зачастили новые пророки, тоже крупные телом. Манеры – оторви да брось. Наконец мы перепугались по-настоящему, поскольку на соседних улицах участились пожары, занимавшиеся обычно с четырех углов: крыши старинных домов исторического центра оказались картонными.
Люди с пожарищ, понятно, поехали по любым топонимам. Мои соседи возопили. Я собрала сход и предложила: мы приватизируем нашу коммуналку, а придут братки – договор им в нос: собственники мы, не поедем в обетованные земли, не имеющие, на наш общий вкус, никакого географического наименования. Энергичная Татьяна Алексеевна, пережившая в этом доме все, включая длительное соседство с Лаврентием Павловичем, особняк которого находился влево наискосок, гордо фыркнула.
Это наивность. Или шапкозакидательство. Больше, чем неминуемого поджога, соседи перепугались дружной приватизации – кто до зеленых чертиков, кто до белой горячки. Но я, упорно склоняя всех к солидарности, пообещала твердо, что однажды к нам придут люди вежливые, безоружные, они скажут волшебное слово «пожалуйста». Я проповедовала терпение в психоисторических условиях, неуклонно приближавшихся к боевым. Риторическая сила моя, незаметная ранее, вдруг пробудилась пред лицом очевидной будущности: запах гари с соседних улиц либо слух об очередной гари прилетали бесперебойно.
Уговорила. Приватизировались. Холодея от ужаса. Некоторые от стыда, что присваивают. О, сколько нам открытий.
И пришла-таки Зина. Интеллигентная женщина с простеньким бумажным блокнотом вместо пистолета. И действительно спросила: чего вы все изволите?
Мы все изволили. Мы, два подъезда, четырнадцать густо-не-то-слово-населенных квартир, мы так изволили, как уже вряд ли когда-нибудь, хотя кто его знает. Весь дом изволил. Никто не сробел. Я опять возглавила и своими руками начертала нашу судьбу в виде сводной таблицы: обязательные условия, желательные, безразличные. Каждый вписал в реестр, что смог вообразить, включая метраж и количество комнат в роскошных изолированных квартирах у свежесфантазированных станций метро. Многие потребовали плюс красивый ремонт, бережный переезд и даже земельные участки в придачу. И чтоб никаких топонимов!
Складывая мечты в реестр, мы – батальон уникально взвинченных людей всех возрастов – чувствовали себя шаманами, заклинающими тучу. Наискосок от нашего дома все дремал, будто покуривая в своем историческом углу, особнячок североафриканского посольства. Бывший дом Берии. Было в нашем футуристическом творчестве нечто потустороннее, острое, резкое, сумасшедшее, было, было.
Как ни удивительно, авторы фантастического списка все выжили и получили именно то, что сумели вообразить, – все. Мы подарили очаровательной Зине наши антикварные комнаты, а Зина в ответ подарила нам отдельные квартиры в соответствии с индивидуальным метражом, общим куражом и личным ражем. До сих пор перезваниваемся и кокетничаем: были же времена! и чего разъехались! хорошо жили!
Лишь мне не надо было напрягать фантазию. У меня случился звездный час в журналистской карьере. Аккредитованная пресс-центром Верховного Совета как парламентский корреспондент, я ходила в Белый дом, а когда съезды – в Кремль, дабы доложить читателям своей газеты, как идут реформы. Мой путь и тактику определили именно эти магические слова, ранее для меня, беспартийной, нереальные: парламентский корреспондент. Клио подарила мне контрамарку в закрытый театр, где первые непрофессиональные политики, они же последние, сочиняли новую Россию. И Кремль, считай, всегда под рукой. До редакции вообще сорок секунд ходу. Мой любимый старый дом – точка сборки мира. Кайф уникальный. Я не могла расстаться с удачей.
И вписала я в свою графу двухкомнатную квартиру обязательно на Пресне, телефон, балкон и тихий дворик под окном. Мне хотелось по-прежнему ходить на ту же работу тем же пешком, не теряя ни секунды драгоценного созерцания. Азартна я вельми. Как увижу голубой мизер, вся белею, и мурашки по затылку. Больше не играю, кстати.
* * *
В декабре 1992 двухкомнатная квартира на Пресне стала законно моей. Оставалось собраться и переехать.
В том же декабре 1992 решилась и судьба Гайдара. Из и. о. премьера в настоящие премьеры он не попал. Я присутствовала, как положено, на заседаниях Съезда народных депутатов.
Пожалуйста, сосредоточьтесь.
Большой Кремлевский дворец. Перед голосованием, со словом о Гайдаре, уговаривая Съезд продлить его политическую власть, мощно выступали весомые да знаковые, но знаменитый историк-генерал, известный бровями и разоблачениями, рванул на редкость. Сокращенно цитирую генерала: «Дорогие друзья! Я сейчас хочу только одного: чтобы Всевышний нас всех одарил мудростью и спокойствием… Я думаю, что лет через десять-пятнадцать люди, отдалившись от сиюминутной суетности и успокоившись, скажут о нашем времени как о переломном, историческом. Скажут доброе слово о тех, кто не дрогнул, кто был архитектором этого нового курса. Я прошу не смеяться – в истории смеется тот, кто смеется последним. Мы все должны понять, что у нас есть один общий враг – кризис. Понимаете?.. Поодиночке никто не выберется. И сегодня, по существу, кандидатура Гайдара является символом компромисса – исторического, если хотите, компромисса: необходимости сохранения реформ и коррекции этих реформ. В этих условиях фигура Гайдара является консолидирующей. Сегодня имя Гайдара – это символ: или мы пойдем вперед, к новой России, или мы повернем вспять. По существу, выбор очень судьбоносный…» Стенограмма у меня сохранилась.
Объявили перерыв, и кто не депутаты, пошли гулять и гадать о будущем. В зале тепло, но меня знобит. Холеные лестницы Дворца наэлектризованы; обезумевшие работники прессы ежедневной сбивают с ног работников прессы еженедельной. Ковровые дорожки краснеют. Гуляю. Хочется куда-нибудь пойти. Георгиевский зал. Гуляю. Вкусно пахнет из буфета. Гуляю. Сверкают ларьки с эксклюзивными елочными игрушками. Надо бы, думаю, заморских лампочек купить, но гуляю в гардероб, одеваюсь, выхожу во двор и вижу Архангельский собор. Мой любимый собор. Не гуляю. Небо серое, ветер гоняет по брусчатке белую, чистую кремлевскую поземку. Куда я? Что-то подталкивает в спину, но куда? Никогда ничего не надеваю на голову. В любую погоду. Почему я принесла сегодня пуховый белый платок? Шаг, второй, Архангельский собор все ближе, ближе; я снимаю платок с шеи и надеваю на голову. Расправляю, поднимаюсь на крылечко собора. Кланяюсь. Дверь легко поддается. Вхожу. Внутри – никого. Вдруг слышу:
– Здравствуйте. Вы к нам?
«Не может быть», – думаю я.
– Вы со съезда? – и ко мне, вежливо наклонив голову, идет седой мужчина в мешковатом коричневом костюме.
– Да, – говорю, – добрый день. Можно?
– Вам – можно, – отвечает он. – Проходите, я вам все покажу.
И ведет меня вдоль усыпальниц. Тихим голосом поясняет, где кто покоится. По-домашнему так, по-свойски. Князь… Царь… Князь… Будто по семейному склепу – личного гостя выгуливает. У нас тут и Грозный есть. Иван Васильевич, с сыновьями. В алтаре.
Я притормаживаю метров за пять до запретной дверцы. Я хоть и в платке, но по-нашему в алтарь женщинам нельзя. Я где угодно могу пропустить любое нельзя мимо ушей, но спорить с алтарем и запретом, особливо ввиду Грозного, не готова.
Мой внезапный гид необъяснимо радушен. Останавливается возле дверцы. У входа в усыпальницу Грозного, с сыновьями.
Достает из кармана ключ и вставляет в замочную скважину. Поворачивает ключ. Скрип. Оборачивается ко мне, зовет рукой. Я ни с места. Я действительно боюсь. Вдруг стены рухнут. Земля разверзнется. Туда же нельзя вообще никому. Не только женщинам.
– Мы сюда однажды самого Горбачева с супругой и с иностранцами не пустили, – шепотом говорит мой гид. – Нельзя сюда никому. Идите сюда…
Околдовал он меня, что ли. Делаю шаг. Другой. Третий. Обнаруживаю себя в дверном проеме. Вергилий мой включает свет, пропускает меня в усыпальницу, а сам выпрыгивает за порог и шепчет:
– Идите туда быстрее. Вам сегодня можно.
Справа три саркофага в темно-бордовых бархатных обивках, с серебряными крестами. Грозный и сыновья. В глубине комнаты – узкий постамент, бронзовый бюст.
– Это сам Иван Васильевич, – шепчет испуганно мой гид из-за порога, – его лицо Герасимов восстановил. Посмотрите в глаза.
Я осмелела и близко подошла. Руку протянешь – бороды коснешься. И посмотрела ему в глаза. А Грозный посмотрел в мои глаза. Насквозь. Живыми глазами.
Вергилий замер и притих. Я вспомнила о нем, повернула голову: стоит, смотрит на меня через порог и молчит. Чувствую, обмер. Сделал невесть что, сам не понял почему, а теперь страшно. Я кивнула, что иду. Посмотрела еще раз на Ивана Васильевича и медленно потопала к выходу, боясь споткнуться на ступеньках. Там идти-то три шага, но будто века. Вергилий выключил свет, закрыл дверцу:
– Ну, спасибо, что зашли. Вы напротив пойдите. Там вас пустят сегодня. На яшмовом полу постойте, все пройдет…
Оказавшись на морозе, я подумала секунду и пошла в храм напротив. Сюжет повторился. Бабуля, недипломированная дежурная, поднялась навстречу и повела за собой.
– А вот тут, видите, специальное место отвели, чтоб Грозный молился. Грешен был. Жены отдельно. Вы смотрите, смотрите, у нас сейчас все закрыто, не работаем, никого нет, а вы смотрите.
Я смотрю. Пестрый пол, отшлифованный, уютный.
– Это яшма, – говорит бабуля. – Она лечит и успокаивает. Наши девочки как придут с утра на работу, ну, кто с мужем поругался, знаете, ведь все на пенсии уже, нервы там разные, здоровье, словом, снимают туфли и бегают босиком в чулках перед иконостасом по яшмовому полу. И все проходит. Как рукой. Попробуйте там постоять.
И ушла куда-то, оставив меня на яшмовом полу пред царскими иконами.
Постояла я на яшмовом полу. И пошла в Большой Кремлевский Дворец.
Бровастый генерал в холле скользнул по мне хмурым тревожным взглядом. Почему-то по мне. Я снимала свой ажурный платок, вспоминала храмы, принявшие меня не по чину, и подумала: а где провел этот, судьбоносный, перерыв между заседаниями, когда Россия должна была, по его жаркому призыву, сделать исторический выбор с помощью депутатских бюллетеней, где он-то провел перерыв, генерал-то? Собственно голосовать недолго, минут пять, бросил бюллетень и пошел; а еще два часа где был? В храме – чтобы Всевышний нас всех одарил мудростью – точно не был. Я же видела.
Перерыв к концу идет, голосование состоялось. Начинают.