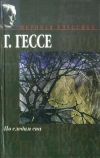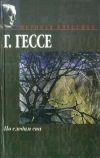Текст книги "По следам кисти"

Автор книги: Елена Черникова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вопросы по ходу, поправки к документам, микрофоны, гул, ожидание. Ожидание. Два журналиста на пресс-балконе открыли тотализатор: ставки сделаны. Большинство уверено, что кандидатуру утвердят. Двое-трое поставили на неутверждение. На них посматривают с соболезнованием. Я вслушиваюсь в свой внутренний голос, не на шутку разговорившийся сегодня, и слышу правильный ответ. Через пять минут этот ответ слышит весь мир. На трибуну выходит представитель счетной комиссии:
– …в бюллетени для голосования была внесена кандидатура Гайдара Егора Тимуровича… председателя совета министров… правительства… депутатам роздано девятьсот семьдесят шесть бюллетеней… при вскрытии обнаружено девятьсот семьдесят пять… признаны действительными девятьсот пятьдесят три. недействительных двадцать два… голоса распределились… за – четыреста шестьдесят семь… против – четыреста восемьдесят шесть. таким образом, кандидатура… не набрала требуемого для утверждения числа голосов… председатель счетной комиссии… секретарь…
Вот и все. Вот и нету великана, подумала я. В зале как вымерли. Потом чуть ожили. С балкона Большого Кремлевского Дворца было хорошо видно и отлично слышно все, включая лицо свергнутого и. о. Пресса онемела, потом разразилась: съезд тянет страну назад! Я была одинока в тихой радости своей, что автор стратегии выжигания людей не утвержден на роль председателя правительства моей родины.
Я шла домой чуть пританцовывая. По улице Герцена, которая еще не знала, что опять будет Большой Никитской, почти бежала я, складывала слова, чтобы рассказать дома, что пережила сегодня. А потом написать в своей любимой газете, позволявшей мне все – правду.
Тот, кто ждал меня дома, очень любил мои рассказы про политиков, Белый Дом и Кремль. Ему нравилось играть в угадайку: я раскладывала перед ним числа – за и против – на завтрашние голосования. Вот такие будут пункты повестки на съезде – а вот такие будут результаты. Не до последнего знака, разумеется, а в принципе. Я угадывала всегда: чувствовала точно, как бывает на вдохновении.
…Клио – графоманка с причудами: публикуется за свой счет, но за строчку платит бессмертием.
– Это всего лишь седьмой съезд, – говорил друг, – а что ты будешь делать ближе к десятому? Посылать факсы с полной картиной всех голосований на весь съезд вперед с дублирующей отсылкой в мировые средства массовой информации?
Ему казалось, что шутки все это, шутки.
– Нет, – говорю, – к десятому съезду им надо будет сухарей подсушить.
– Да не может быть такого, глупая ты женщина!
– А увидишь, – безропотно отвечала я, потому что неприятно спорить, когда знаешь наперед точно.
Мы спорили до утра.
А под утро мне приснился Грозный. Его лицо работы Михаила Герасимова сбросило бронзу, вылетело из алтаря Архангельского собора, сделало семь кругов над Москвой, ринулось вниз, на Пресню, к Малой Никитской 29, и, отшвырнув задремавшую на моем подоконнике Клио, заглянуло в мое окно. Царь повелел обратить внимание на то, что будет – и число мне назвал.
…Декабрь 1992, с Кремлем, Гайдаром, митингами по жилью, – закончился. Под новый год соседи мои поехали по вожделенным квартирам, бегают все, счастье, свадьбы, крестины, сверхъестественные диспуты о кафеле, шторах под цвет чего-то.
Я тоже могла бы прыгать и петь. И ходить на охоту в Белый Дом привычным пешком, разве что другой стороной, по Предтеченскому переулку, мимо храма и парка. Оставалось лишь переехать всего-навсего через Садовое кольцо. Две остановки на троллейбусе. Меня уже торопили. Кругом валялся богатый реквизит для русского неореализма в трактовке Венгерова, но сто лет спустя. В раскуроченные квартиры бесстыдно вели навек распахнутые двери. По пружинным диванам скалились онемевшие старые фарфоровые куклы, эти отставные воспитательницы хороших девочек, а двуногие брошенные табуретки на сквозняке попискивали мама. Бедные игрушки века, уходившего на потеху Клио в геенну прошлого: под обоями открылись газеты 1937 года плюс-минус. С антресолей повыглядывали забытые иконы. Сбежавший в лучезарное будущее дом оставил свою расконвоированную изнанку, драное исподнее, несбывшиеся мечты, хлам иллюзий, надежд и прочие колодки.
Одна я упорно жила в своей комнате. Иногда брала отвертку и отвинчивала латунные ручки с дверей. Иногда поглядывала на дубовый паркет: не разобрать ли? Вытирала слезы. Смотрела в окно. Положила на мраморный подоконник яблоко и следила неделями, как оно вялится, но не портится, ибо мрамор – природный антисептик.
Вовсю галопировал детективный 1993 год. Январь. Февраль. Март. Я – ни с места. Хожу себе и хожу в Белый Дом из моего старого дома, беседую с бесподобными персонажами: оппозиция. По всей прессе ее кляли на чем свет, поскольку оппозиция была против инфляции. Либерализацию всего и сразу не все пережили, многие умерли, особенно когда все потеряли. Но прессу заклинило, она хвалила новую идеологию, ее архитекторов, лобызала младореформаторов. Я же, ввиду характера задиристого и самоуправного, писала портрет: кто говорил мне, что он оппозиционер, я его тут же описывала. Как правило, в интервью. Диктофон был плохонький, часто приходилось запоминать наизусть километрами; но у меня природная память. И зачем-то я, как пылесос, собирала все бумажки: листовки, стенограммы, проекты конституции, манифесты, партийные программы, отчеты, пресс-дайджесты. Партитура кантаты для сводного хора с оркестром имени Клио. Мне кажется, я любила этих, скажем так, первых романтиков второго неореализма: с улицы, вчерашние аспирантики, но вдруг с депутатскими значками, – они в 1989 свои выборные материалы на ватмане рисовали, сами по заборам клеили, а речи импровизировали – от души. К 1993, конечно, заматерели, но с нынешними не сравнить. То были чисто дети. Нынешние никогда уже не будут как дети. А те остались у меня в шкафу. Я успела унести архив до установки оцепления. Колючка была со склада, не надеванная, помню, блестела на солнышке. Почти до самого расстрела.
Помогая мне страдать и медлить, в моем качаловском доме работало электро– и водоснабжение. Дом пустой, я одна, но все работает. Представьте. Намедни провернувшая блистательный аттракцион с расселением большого коммунального дома в историческом центре Москвы, я, лидер всеобщего счастья, наступившего реально и в сжатые сроки, – вечерами смотрела в свои древние стекла, неровные, тонко плывущие, будто заливное. За стеклами плыли два лица, как две греческие маски, а я глядела в их совершенно одинаковые глаза и думала о стерляжьей ухе с шампанским по-царски; боже мой, почему! а какое дружное домоводство и понимание бросаем мы тут, а ночные ливни; а воскрешенный Храм Большое Вознесение! и недавнее мое крещение в православие, нитями да струнами связанное с благозвучным и благодатным миром именно здесь; меня же крестили вместе с дочерью – дома. В этой комнате. Я ладонью гладила стены моей, то есть уже не моей, обожаемой красавицы, полной векового воздуха, двадцатисемиметровой, о двух высоких окнах, с потолками выше четырех метров, – прислушиваясь к фантасмагорической тишине и внезапной моей, уже моей, лютой тоске. Жаль моих заливных стекол.
В итоге переезжала я с Малой Никитской на Пресню, считай, девять месяцев: с декабря 1992 по август 1993. Перевозила по одной книжечке, по две чашечки. Если бы мой рояль можно было перевезти по одной клавише, видимо, так и ехал бы он мелкими порциями.
В своей газете я написала вдруг, что чувствую себя пассажиром метро, а в вагон со всех дверей внезапно вошли контролеры и проверяют билеты, и ругаются на нас, поскольку ни у кого билетов нет, поскольку билеты не предусмотрены и не продаются. Но контролеры упорно требуют билетов.
Дочери оставался год до школы. Устроила ее сказочно: в замечательную и бесплатно, рядом с новой квартирой; осталось еще год поводить ее в детский сад, а мне еще немного поклеить обои, а я все ехала и ехала на троллейбусе через две остановки, перемещая то кастрюльку, то бирюльку. К сентябрю на подъезде старого дома новые хозяева, умаявшись со мной, решительно поставили решетки, мою мебель упаковали, доставили, все. Все. Накануне бунтовщицко-мужицкого Указа № 1400, это который о поэтапной конституционно реформе в России, я доклеила обои. Выте– рев слезы, расставив мебель и смирившись, вышла я 20 сентября 1993 года на балкон своей новой квартиры – и увидела на горизонте кремлевскую звезду. Мне понравилось, что хотя бы одну звезду видно.
Один мой знакомый интеллигент, из потомственных, понятно, дворян, до сих пор уверен, что 4 октября по Белому Дому стреляли холостыми. Пропасть между мной и интеллигенцией непреодолима: я никогда не смогу рассказать интеллигенту, что мне посоветовал Грозный. Помните, как я попала в алтарь Архангельского собора Кремля? Прости Господи меня грешную.
Грозный сказал, что вечером 4 октября 1993 года мне надо будет прятать ребенка, потому что полетят красные пчелы, смертельно красивые.
Когда к вечеру затрещало в нашем дворе, выгнулись красные дуги-трассы на фоне темно-синего неба, ребенок побежал к балкону, потому что красиво. Я успела перехватить ребенка и спрятала в глубине нашей новой квартиры.
В декабре 1993 новый состав парламента, который уже Дума, а не расстрелянный наивный Верховый Совет, принял новую Конституцию России. Помню, ходила типа шутка: а что вы делали в ночь с 21 сентября на 4 октября? От ответа зависел карьерный рост. Теперь, по прошествии двадцати лет, это называется социальный лифт. Что бы сказал Иван Васильевич.
Ликвидация писателя[14]14
Милое и наивное эссе «Ликвидация писателя» было написано в начале XXI века по заказу одного литературного журнала, но целиком там не поместилось и фрагментами было опубликовано в ряде других. Эссе имеет автобиографическую ценность как раздумье о свободе слова в рыночных условиях.
[Закрыть]
Часть первая
Мой наставник в Литинституте говорил: если вы после нашего института попадете в газету, найдите в себе силы уйти оттуда не позднее чем через два года, иначе все, пиши пропало, руки отшибет.
Бывает, хобби нечаянно как превратится в профессию, а вы даже глазом моргнуть не успеете, только посетуете на времена, вынуждающие вас, великого художника словесности, заниматься грубой конвейерной работой. Вопрос всегда остается открытым: что дозволено писателю (метафизически), какая параллельная деятельность, чтобы не отшибло руки?
…Поведение и еще раз поведение. Надо знать правила. А они что делают!
Получив на руки свое счастье, пахнущее типографией, литератор прыгает, радостно плачет, обнимает прохожих и так далее, сами знаете. Затем демонстрирует новорожденного неограниченному числу лиц, без разбора и суеверий, точь-в-точь глупая городская мамаша после роддома. Очень по-русски это называется презентацией новой книги.
Законно всплывает желание зарегистрировать возлюбленного младенца, чтобы социализировать: вручить литературному критику, пусть выскажется прилюдно, и все узнают и выдвинут на премию, поставят родителю памятник.
Регистрация возможна не только через критика, но и через особ, обитающих в клановых и тусовочных резервациях, но мамаша-папаша обычно так невменяема после первых родов, что не замечает, как надежно огорожены все эти места. Подъемный мост, конечно, может опуститься на миг и пропустить новобранца, но не раньше чем из-за стены, от главшпана, прозвучит кодовый сим-сим, ты там типа открой товарищу.
Дарением друг другу свежих экземпляров литераторы занимаются дружно, безотчетно-заполошно-изнурительно, вкладывая в акцию свои надежды на бессмертие, любовь и признание; вот прочитает он/она – и мир перевернется, и все узнают, как я гениален и везуч, как стоит иметь со мной дело, и, в конце концов, как прекрасен мой текст.
Учитывая, что авторских экземпляров всегда мало (я говорю о книгах, изданных по старинке, за гонорар от издателя), дарение еще и накладно, но для устройства личной жизни наших новорожденных нам ничего не жаль. Отдаем, как котят, в добрые руки, воображая лучезарную картину: вот придем мы однажды (случайно) в дом, куда подселили наших возлюбленных младенцев, а они там в наилучшем месте живут, а по праздникам их показывают гостям. С полки снимают и отчеркнутые места зачитывают вместо аперитива.
…Одна моя знакомая, литератор со стажем, справляется с подаренными ей книгами следующим образом: выдирает страницы с автографами, остальное выносит на лестницу, а соседи разбирают – по интересам.
Другая просто не вносит подаренные книги в дом, а сразу складывает в гараже. Накрывает полиэтиленовой скатертью, получается теплица.
Третий подпирает книгами старый диван, чтобы не покупать новый. Диван укреплен надежно, поскольку этот человек – литературный критик, получающий свежие приношения регулярно.
Четвертый сначала все-таки читает, но никогда не рассказывает о полученных впечатлениях никому в Москве: бережет свежие мысли для заграничных лекций, что по-человечески, то есть по-писательски, вполне понятно: здесь за его мысли могут и в морду дать, а за рубежом он – великий знаток современного российского литературного процесса.
Есть нервные люди, которые вздрагивают, услышав от товарища бодрое «Ой, привет, я тебе сейчас подарю свою новую книжку!», и у них начинается сердечный приступ. Иногда запой, депрессия, конвульсии.
Есть стоики, способные не дрогнув сказать: «Поздравляю! Спасибо».
Есть очень известный литературовед, корифей, который честно говорит: «Я читаю подаренные мне книги только за деньги».
Есть изуверы, тут же задающие вопрос жизни и смерти «Почем?», подразумевая, что книжка вышла, конечно, за счет средств автора или за спонсорские, ведь понятно, что обычным путем, с гонораром и профессионально поставленным распространением, у тебя (бездари, поэта, нетусовщика, прочее) ничего бы никогда не вышло.
Есть, разумеется, несколько человек, способных спокойно принять подарок, внимательно прочитать, позвонить трепещущему автору и высказаться по существу. Ради таких людей автор согласен жить дальше, но – гораздо чаще попадаются владельцы диванов и гаражей.
Причины всем известны: скорбь, что книга вышла у тебя, а не у меня; ужас, что придется ее читать; досада, что придется тащить такую тяжесть; тоска, что придется отвечать на вопрос «Ну как?..»; превентивная печаль на тот вопиющий случай, если книжка вдруг хорошая. Успех одаряет многим, только не друзьями (Вовенарг). Трюизм.
Однако все хотят успеха: видимо, готовы пожертвовать друзьями. И встает солнце, и в типографиях опять грохочут станки, а Сивка-бурка вновь готовится взлететь под Литературино окошко с очередным Иванушкой на шее. У поэтов опять вдохновение, у прозаиков наконец уехала теща, и можно крепко, по-писательски проработать несколько черновых кусков, понимаешь, так сказать, вот, ну, да.
Затянувшееся предисловие, писанное ярко-черными красками, вы мне скоро, надеюсь, простите, когда я перейду к саморазоблачению, а потом, возможно, к описанию содержимого своих сундуков.
Но до сундуков надо обговорить несколько травматичных вопросов.
Начнем с автора этих строк. Кропать меня потянуло года в три. Случайно была разоблачена. В семнадцатилетнем возрасте поступила в Литературный институт, закончила дневное отделение (1982) в семинаре критики и литературоведения у Всеволода Алексеевича Сурганова. Получив элитарное образование, одиннадцать лет проработала в газете (ничего страшного), стараясь не забыть, зачем все-таки родилась на свет. Газете – слава! Она была единственная на всю страну, где лицеистка могла обрести вторую, журналистскую, профессию, не свихнувшись от подчеркнул, отметил, заявил, поскольку то был «Московский литератор» периода расцвета.
Тем не менее В. А. Сурганов оказался прав. Приводить руки в порядок пришлось еще несколько лет после ухода из газеты; подчеркиваю, замечательной газеты, но – способы текстопорождения у писателя и журналиста решительно разные, и понимаешь это не сразу.
Все-таки написав роман («Золотая ослица», 1997) и вступив в Союз писателей, я почувствовала себя воздушно, приобщенно и дарила книгу всем, не следя за реакциями. Издательство (тогда «Присцельс») было ко мне чрезвычайно благосклонно. Оно выплатило максимальный гонорар, и тираж был (особливо для 1997) огромным – 15 тысяч экземпляров, и оно давало мне мои книжки, чтобы я могла их дарить. Эти сказочно доброжелательные люди, почему-то любившие текст романа «Золотая ослица», своей любовью сделали мне анестезию, дали социальный наркоз, отчего я все-таки пожила счастливой жизнью придурка, не понимающего, что происходит вокруг.
Теперь зайдем в тему внутрицехового дарения книг с другого крыльца. Одновременно с сочинительством прозы я почти всегда работала на радио. Это моя любовь, мой театр и моя пуховая люлька. Пришли однажды времена, когда мне стали дарить книги ежедневно, и дарение продолжалось пятнадцать лет. В некотором смысле это конфузная ситуация: люди дарили книги радиожурналисту, не подозревая, что он на самом деле писатель, поэтому не боялись подвоха, зависти, не предполагали ни гаража, ни дивана. Дарители справедливо полагали, что ведущий авторской радиопрограммы может то, чего не могут критики, PR-службы издательств и природа: просто сказать теплым человеческим голосом, что у имярека вышла книга и поздравить автора прилюдно. Поскольку я выбирала для эфира то, что мне искренне нравилось или представлялось полезным для слушателя, то я прочитала подаренное. Правда.
Есть причина, почему я пока не подпираю книгами мебель, а читаю их все: доморощенная метафизика, знаки судьбы. Именно подаренную книгу я воспринимаю как напутствие из невидимого мира. Читаю внимательно, даже если это стихи начинающих, жестокий аллерген. Я тяжело воспринимаю стихи, при мне запрещено чтение по кругу, но поэтов в моих программах перебывало видимо-невидимо. Отчасти потому, что публика в нашей стране обожает слушать стихи по радио, отчасти потому, что я точно знаю, когда кончится эфир. И еще потому, что случайно можно открыть нечто бесподобное.
…Когда книги заняли весь мой дом и задали мне жилищный вопрос, я поняла, что наличное богатство обязывает к чему-то еще. Из-под обложек и переплетов донеслись стоны узников, не увидевших света, хотя и выпущенных в свет. Они вопили. Суть вкратце: почему ты, плюшкин гобсекович, не расскажешь о нас людям?! Ну что ты скопидомничаешь?
Действительно, почему? Как жаловался мне очень известный критик П., переезжать на новую квартиру очень трудно, поскольку в старой квартире открывается гораздо больше книг, чем ты подозревал. Они страшно лезут отовсюду, напоминая о невыполненных обещаниях. Я не хочу оказаться в его положении, особенно когда судьба даст мне новую квартиру, с большим количеством комнат, где я устрою библиотеку и буду сниматься на фоне книжных полок, как делают великие мужи, кому Бог дал и полки, и жену, чтобы тихо протирала их от пыли.
Я включила яркий свет и пошла по своей маленькой, со смежными комнатами, двушке. Открыла все шкафы, ящики, забралась на все полки, заглянула в кладовку: «Идите все сюда! Будем выступать перед публикой!»
Среди моих бумажных сообитателей много вполне себе удачников, о которых нормально, вовремя и по делу писала пресса; имеются те, кого пресса в упор не увидела, есть безнадежные. Все вместе они выступают как своеобразное зеркало моей жизни, но не в том интерес, что моей лично, а в том, что я, годами играя в журналистику, регулярно оказывалась в нужное время в нужном историческом месте. Мне перепало слушать, слышать и видеть, как восходят российские «ньюсмейкеры политики, эстрады, финансов, литературы», «звезды нравственности», «столпы духовности», беседовать с ними прилюдно и очень часто получать на память полиграфические сувениры от листовки с «призывом выйти на» до громадных фолиантов энциклопедического толка. Конечно, с интересным общением в последние двадцать лет повезло многим российским журналистам, их романы об этом уже написаны. Мой же случай особый. В мои, скажем так, микрофонные объятия сами, добровольно попали книги сотен человек, создавших свои произведения (и научные, и художественные) в годы особых волнений о России, о Земле, о Боге. У меня были программы обо всем – в самом прямом смысле слова, от культуризма до космоса и обратно, от проблем резьбы по кости мамонта до медицины всех народов. Знаковые люди рассказывали и дарили все свежайшее: от мягкообложечных астрологических опусов начала 90-х до увесистых, суровых богословских фолиантов наших дней. Это собрание особых примет времени, которого нет у других, потому что другие были на других местах, но это не просто один из возможных взглядов на действительность, а опыт писателя, и только это интересно нам в данном контексте.
Дареные книги как зеркало современности, изготовленное самой судьбой для профессионального прозаика, развлекаюшегося радиожурналистикой в прямом эфире в эпоху перестроек и реформ. Так вопрос никогда не ставился, его некому поставить, я редкий случай. В России нет других успешных прозаиков, которые оттрубили бы шесть тысяч часов прямого радиоэфира в беседах на все возможные темы со всеми, кто к темам причастен. И нет других радиожурналистов, которые за это время выпустили бы столько книг прозы про нашу жизнь, сколько я, не отрываясь от микрофона.
Кроме книжной, у меня сложилась коллекция первых номеров бумажных СМИ, вылетевших в свет сразу после повеления свыше быть изданиям не токмо государственными, а и частными. Издательский бум начала 90-х отражен в моей библиотеке пилотными выпусками, о которых история уже забыла, но их идеи выжили и частенько в лицах. Например, газеты типа «Задница» перед почти мгновенной после рождения кончиной дали обильные всходы, коими поныне торгуют их идейные наследники. Весь глянец, который, как нам кажется, пришел с Запада, имел и отечественных предшественников, и эту особую тему (как мы получили ту журналистику, какую сейчас имеем), я сейчас развиваю в специальной книге. (Я еще и пяти учебников, руководств и пособий автор.)
Вообще народ наш за двадцать лет[15]15
«Двадцать» говорит о времени написания эссе. Сегодня надо писать «более тридцати лет».
[Закрыть] прочитал в прессе и в книгах такое, чего никогда раньше ни читал – ни по объему, ни по содержанию. В моем случае касается это и автографов на книгах, но тут чтение сугубо личное, и я не буду цитировать дарственные надписи, адресованные мне, за одним исключением. В нем определенно соединились некий журнализм с очень условным писательством, но эффект потрясающий, с шедеврального автографа этого бойца надо начинать лекции по истории. Он был дан мне еще в годы мои газетные. Бывший политрук, написавший к 40-летию Победы небольшую брошюру мемуаров, подарил мне ее с надписью: «Уважаемой Елене Вячеславовне Черниковой на добрую память о днях Великой Отечественной войны!» Крупными буквами. Четко и разборчиво. Я опешила. Вчитывалась и все искала какой-нибудь намек, шифр и ключ, но там больше ничего не было! Только «добрая память». О днях войны. От политрука. Я еще была, видимо, слишком молода, чтобы понять его. Ближе к 60-летию Победы я лучше узнала отечественную историю, и мне стали более или менее понятны загадочные чувства пожилого политрука: он жизни-то порадовался всего четыре года, а потом влачил существование и все вспоминал добрые дни, когда подбаривал бойцов к атаке. Наверное, нелегко и очень ответственно подбадривать к смерти. Чувствуешь себя героем и, главное, ветераном войны. Настоящим!
Не то что адресаты его воздействия, не сумевшие оставить мемуаров. А он смог и был доволен. По понятным причинам имя его я оставляю неназванным.
Есть ли имена, наличие которых в моей библиотеке я считаю счастливым недоразумением или несчастным случаем, отклонением от стиля? Нет. Нельзя пенять на зеркало. Работая в прямом эфире разговорных станций, я сама выбирала себе темы и гостей, никто их мне не режиссировал, и в ответе за все знакомства я сама. Более того: никто не мог оказаться в моих программах без моей инициативы, а главные редакторы не спускали мне неких нужных персонажей. Все, что пришло, мое.
Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня есть свой клуб в книжном доме «Библио-глобус» на Мясницкой, в Москве. Дарить мне книги я запретила, но запрет не работает.
…Старое побаливает; сколько раз мне намекали: что же ты за писатель, если вынуждена работать журналистом. Значит, ты писатель-неудачник. Книги-то небось за свой счет публикуешь? Когда выясняется, что я за свой – никогда, а всегда по старинке, с гонораром, и что общий тираж меня уже подошел к полумиллиону, собеседник перестает и понимать, и верить. Не буду же я каждому объяснять, что я просто люблю людей и разговоры. Любовью. Особенно мощно струилось недоверие к писателю, когда я работала диджеем на музыкальном радио, где ни одна редакционная душа не смогла представить, что женщина сорока четырех лет от роду пошла учиться на диджея, чтобы получить еще одно удовольствие от радио, а потом рассказать о новых умениях своим студентам. Четыре года я была диджеем, и это не зря потраченное время. Хорошо было! На разговорном радио, где я одновременно вела три авторские программы, на это смотрели косо, но терпели. Потом выгнали с треском, но не за совмещение с музыкальным, а за роман «Золотая ослица» (спустя двенадцать лет после ее написания), якобы по просьбам православных слушателей. Кино! Слияние профессий вредоносно для души, служебные драмы неизбежны.
Сейчас уж позабыты все щелчки, все раны затянулись, но вопрос остается, и даже не о будущем бумажной книги, которую действительно уже некуда девать, и не о дигитализации чтения, а об острой – для меня – боли: гибель писательства как профессии.
Профессия – это когда за труд деньги платят. Если вы счастливо самореализуетесь, но денег не получаете, это называется хобби. Умные люди уже все поняли, в результате разделительная полоса между писательством и журнализмом заросла цветочками. Они называются целевыми аудиториями. И это совсем не то, что вы думаете. Это – проклятие. Я, согласно своей третьей профессии (преподаватель), сего ангела-демона и преподаю как метод[16]16
По состоянию на март 2021 уже не преподаю. О причинах – эссе «Сундук в семнадцатом году».
[Закрыть]…
Рассказать – или хотите спать спокойно?
Часть вторая
Сочиняя книгу «Грамматика журналистского мастерства», я провела исследование: какие СМИ из рожденных издательским бумом начала 90-х выжили и почему. Результат: выжили те, редакторы которых на стадии формирования концепции четко выбрали целевую нишу, в том числе придуманную и в социуме еще не представленную. То есть первым делом убили песню «надо писать для широких масс». Как ни странно, даже сейчас, по прошествии двадцати лет рынка, радикальное различие между широкими читательскими массами и узкой, как змея, целевой аудиторией входит в сознание творческого субъекта, как правило, лишь при приеме в редакцию СМИ. Начальник-работодатель кричит новобранцу ты понимаешь, что такое формат? И если молодой хочет выжить, он тут и начинает соображать, что такое узкие информационные потребности целевого адресата.
Характерно, что в статьях об информации сегодня даже исследователи медиапродукции нередко сбиваются со стиля научного изложения на публицистический. Откуда нервозность? Думаю, и аналитики медиа наконец-то поняли, что время правильной правды ушло вместе с газетами общего интереса, но будучи советскими или даже постсоветскими людьми, смириться с утратой не могут. Быть в претензии к содержанию журналистских материалов считается хорошим тоном. Недовольство плюс сакраментальная формула где же свобода слова?
В свою очередь и писатели, здесь в значении не журналисты, и не ученые часто говорят об издателях, особенно об успешных, как о врагах культуры, пособниках попсы и прочая. Писатель, в иерархии российских словесников бывшая наибелейшая кость, переживает интеллектуальный и эмоциональный шок, в отличие от опытных журналистов, которые не пострадали. Индивидуальные жалобы не в счет.
Дело о свободе слова можно закрыть, если понять культурную роль целевых аудиторий, этой трагикомедии рыночного века, и заглянуть в ее будущее[17]17
Один из законов рынка – ограничение по качеству, поэтому создание чего-либо наилучшего смертельно опасно для того, кто это создал. Иногда это наилучшее называют «закрывающей технологией».
[Закрыть].
Целевая аудитория СМИ есть ограниченный сегмент массовой аудитории с определенными информационными потребностями. Казалось бы – что тут такого страшного?
Нормальный писатель обыкновенно не знает, чем отличается ласковое понятие моя читательская аудитория от жесткой целевой. Нормальный писатель хоть и помнит, что в Россию пришли частная собственность на СМИ, конкуренция, реклама, но не знает, что главное оружие, принесенное пришельцами, целевая аудитория. Не читатель-зритель-слушатель вообще, а целевой, то есть крайне узкий минимум по десяти параметрам, под которого надо подстраивать свои выразительные средства, а там и душу. Ироничные критики считают трюизмом, что читательская и писательская литературы навсегда разошлись по противоположным берегам бездны.
Цитата из статьи Фридриха фон Хайека, Нобелевского лауреата, одного из главных идеологов рынка и открытого общества:
«Пожалуй, нет более горького чувства, чем ощущение того, насколько полезным мог бы стать человек для других людей, и что его таланты пропадают зря. Одним из серьезнейших упреков в адрес свободного общества и источником горькой обиды является то, что в свободном обществе никто не несет на себе функцию обеспечения оптимального приложения талантов человека, никто не претендует на возможность использовать его специальные дарования, и что они, скорее всего, останутся невостребованными, если он сам не найдет возможность это сделать. Осознание наличия потенциальных способностей естественным образом ведет к ожиданию, что кто-то обязан использовать их».
Раньше я считала Фридриха фон Хайека зловредным утопистом, не учитывающим ни человеческую природу, ни тем более Бога, но пока все идет, как он предрек, теперь добавляю: писательству в классическом русском золотого века понимании в свободном обществе места нет. Журнализму как профессии – есть место, журналистам как наемным работникам – есть.
Собственно писателю место есть как рефлектирующему одиночке, но не писательству. Не случайно союз писателей распался, скажем так, с особым цинизмом – на мелкие смешные осколки. На мой взгляд, он и затевался как собрание целевых публицистов, поскольку образ целевого адресата образца 1934 года был принудительно четким. Союз писателей изначально, по сути был союзом журналистов с огромными литераторскими амбициями. Технически невозможно выйти с вопросами толстовской силы к агрессивным и самонадеянным подросткам, то есть к пролетариату и его социально близким. Как только мастера словесности приспособили русский язык к целевому адресату образца 1934 года, все и кончилось вместе с адресатом.
С 2005 по 2012 я высказалась о целевых аудиториях СМИ в пяти учебных книгах, по которым теперь учатся студенты, и уже хочу завершить свои отношения с этой философски изнурительной темой.
Целевая аудитория СМИ есть воображаемая группа людей с определенными информационными потребностями. В условиях даже мало-мальской конкуренции жизнь любого издания зависит от точности обращения к фоновым знаниям целевого адресата, у которого предельно строго и узко выбраны параметры: пол, возраст, место жительства, образование, семейное положение, доход, взгляды, лексика, музыка, игры, транспорт и все остальное – включая количество пуговиц на рукаве пиджака. Успешная (в значении прибыльная) журналистика работает через оптический прицел замочной скважины: демассификация.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?