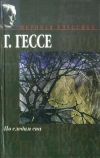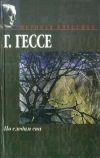Читать книгу "По следам кисти"

Автор книги: Елена Черникова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Елена Черникова
По следам кисти
© Елена Черникова, 2021
© Дмитрий Горяченков, дизайн обложки, 2021
* * *
Предуведомление
Издревле я повелась как писатель-подстольщик и отшельничаю с утра, чтоб узнать, о чем думаю. Поролоновые в красном жаккарде твердые подушки квадратные, взятые у родительского дивана, – три стены кабинета. Столешница – крыша. Лицом к открытой четвертой стене сидел на полу подстольный писатель трех лет от роду, счастлив уединением. В читальнях Российской государственной библиотеки ножки стульев обуты в суконные тапочки. Блаженство многолюдной тишины зала № 3 напоминает мне первый мой кабинет. В библиотеке я пишу спокойно, как под столом. Штиль и старый добрый физический вакуум.
В дежурное меню ребенка входили сказки откровенного содержания «Спящая красавица», «Красная Шапочка» и «Золушка». Схрумкаешь порцию сонных принцесс, опасных девчонок с пирожком и бездарно спесивых сестриц – приходится переписывать мировую эротическую прозу. Полюбила я мужчину как дар свыше. Принцы с их конями не котировались ввиду заведомой просватанности; я любила земных, с четвертого этажа. Свежая, первоначальная любовь к соседу Мише прохватывала насквозь от затылка до пят, от суставов до Луны. Карандаш, тетрадь, любовь – и звенит космос у тебя весь под столом, и сгущается солнечная пыль, обтягивая растущие органы писателя золотыми фасциями. Кожа ребенка тонкая, дырявится, аз и веди вытекают через проколы сути, пока на коленях сидишь под столом в молитвенном восторге, выгодно влюбившись в очкарика Вовочку из средней группы: есть о чем жить дома – забраться под полированный стол, обнести каморку диванным поролоном в жаккарде и перелицовывать Вовочку до Мишеньки; полюбила – и дрожат в корпускулярно-волновом полете семь тел человека, и душа становится телом, а тело душой. Красота мира в красоте письма. Малолетка Изида подстольная.
Дом рос ввиду любви, получая первый смысл, и до второго было далеко. А за поролоновыми стенами шипели страсти, бились об пол зеркала. Их страшный звон стискивал мое сердце страхом. Их, борцов, пораженных оттепелью, не обнять было, не унять. Бросалась я между ними, выбежав из-под стола, призывала не ссориться. Но замужние девушки поющего в платьях поколения не ведали, что делать с мужчиной по замирании струны. Родители мои остались молодыми, не совладав со взрослой любовью.
Второй рабочий подстол писателя ждал меня в доме моих опекунов по сиротству. Дедушка из эссе «Харон Советского Союза» есть мой кровный дедушка: отец покойной матери. События воссозданы без типизации, летопис– но: я не пользуюсь фантазией и не помню, есть ли она у меня. Повар я. Свободный человек с чудо-рыбой. Уха из стерляди с шампанским по-царски начинается с курицу целиком отварить. В рецептах смущенно молчат о поваре. А закадровый гигант свободен от цензуры. О чем он думает, залихватски намывая бока метровой стерляди, о чем грезит, пока режет и сушит небеленым полотенцем ее бесценные куски, пока в сусальный куриный бульон запрыгивает ватага свежевыловленных ершей? Повар чует сердцем: иерархия, Гермес, иерархия: позолоченную курицу выловили, снесли в людскую. Процедили бульон, Трисмегист. Ершей – котам, и чешуйчатая партитура солнечных всплесков на ладонях композитора. Россини плакал над печеной уткой, упавшей в реку: гениальный textus утонул.
Опыт, уходящий под воду. Эссе родилось на Древнем Востоке – китайский художник провел словом «по следам кисти».
Мы с Плутархом знаем: любая честная биография – роман, в котором абсолютно врут все до единого. У нас было время подумать; мы сделали выводы; у меня прошло полвека с первого подстолья; река моя вылетела на всех парах в бирюзовое море, полное прозрачных акул, и писатель разохотился: мастерство, нас не догонишь, летопись легла на холст эвфонической прозой, моя стерляжья царская проварилась в очищенном кураже бытия – тут и пришел год 2020. И все. Мировая война 2020[2]2
Здесь и далее автор намеренно избегает унификаций, связанных со словом «год» и его производными, избегает обозначений и сокращений, связанных так или иначе с датами (прим. ред.).
[Закрыть] вернула опыту невесомость. Забудем, Плутарх. История не учитель, а теперь и некого, и незачем: алхимики-таки выродили гомункулуса. Белковый textus летит в пучину. Шар золотистого бульона, осветленного черной зернистой, сошел с оси земной вместе с тремястами граммами прокипяченного шампанского навсегда. Шелковая кисть выпала из пальцев, и все мы – единый больной Монтень, пишущий последние строки каких-то еще опытов; история is restarted. Пока локдаун утюжил Землю, я написала роман о пандОмии – вседомаш– ности – на документах московского правительства по цифровизации.
Дом как фантомный орел летал за мной с первого подстолья, рвал печень вечно влюбленного Прометея, коим я себя мнила – всегда – ввиду любви к людям; дом не вытаскивал когтей. На заборе напиши мне слово дом – и я заплачу. Сейчас написала на бумаге – и хлынули слезы. Непоправимая форма любви.
ПандОмия – это мой неологизм, навеянный боевыми действиями года 2020: древнегреческий бог пастушества Πάν прорвался в посюсторонность и выпасает дом за домом. Античность вернулась, стуча копытами курчавого Пана. Свирель преобразилась в монитор и навела на стадо панику.
Дом принял и паникеров, и храбрых, и храбрых паникеров – всех построил под свое копыто Πάν, Пан из Аркадии, рая земного. Дикость – для справки – пребывание в естественной среде. Пандемия иронична: дом – естественная среда обитания современного дикаря – горожанина. Сказали сиди дома – Пан застучал и рогами. Пан – все. Пан – все-все-все: παν, παν, παν. Посвистывает лесная тварь бородатенькая из чащи древнегреческого словаря, убегая по древнеримской мостовой: παν-domus. Πάν – бог, он стучит и пасет; domus – место, где, по-римски, не раб, но известная семья со своими святынями и прислугой находится у себя дома. Семейство. Фамилия. Family. Род. Свобода начиналась дома. Если у тебя есть дом, род, фамилия – ты не раб.
Ты кичливый вагабунд? Значит, ты не свободный. У тебя нет колчана. Твои стрелы не полетят. Дом – у господина. Мы у себя дома – значит, мы господа. Господин ставит на кон жизнь рода. Хитрый раб не ставит жизнь, а мелко тырит побрякушки, счастлив обмануть. Устоишь в доме – ты господин. Или бери перо отписывайся по командировке: «Давно, усталый раб, замыслил я побег…» Устал? Раб? Бежать – куда?
Смотрю с печалью: над полем жаворонок сорокапятиграммовый поет двенадцать минут без антракта; передохнет и опять поет; и ты вставай, взлетай, дыши на небо, чтобы протереть очки Богу; небо жидким перламутром смоет ночь, и увидишь: тушь высохла, кисть потрескалась, а каллиграфия осталась. Поверить жаворонку?
Сейчас я поняла, что нам напомнили закон совместного музицирования в раю как заповедь. Нам прислали метку из Аркадии: voyioq означает общий закон человека, космоса, музыки, гармонии. В случае очередного непонимания, что такое vopoq, нас заменят искусственным интеллектом. Вероятно, Земля как космическое тело нужна Вселенной в гораздо большей степени, чем облепившая Землю гордая говорящая пыль. Это если вкратце о доме и про любовь.
Из того, что встарь, в ХХ веке, надумала я о русской женщине в городе, из опытов счастья, горя, книг, мужчин и детей – после 2020 послание не складывается. Чувство миссии осталось еще то, подстольное, но с контентом проблема: кому адресоваться, если сегодня шестьдесят процентов мирового трафика Сети создает ИИ. Доля белковых людей естественного происхождения составляет сорок процентов трафика. Доля человека в сотворении собственной биографии жмется в углу шагреневого кошелька. Герои прозорливого доктора Чехова часто восклицали в его пьесах, оценивая действительность: «…не то, не то!»
Все сложенные в книгу тексты, кроме «Пространства состояний» и постраничных примечаний автора, написаны до вируса. Virus – на латыни – яд. Все написанное происходило с автором в предыдущем измерении мира. Все на глазах становится притчей, как роман «Планета людей», от которого избалованные живой жизнью люди запомнили «роскошь человеческого общения» – и все.
Тексты «По следам кисти» – музыкально-скульптурный оттиск тактильной, до 2020, теплой жизни с ее профанными бедами, изумительно нелепыми озарениями, бодрыми попытками осмысления, тонкими парабазисами, волнующими эпилогами, модной осознанностью. Сейчас этот мусор сознания валяется, сверкая небом в алмазах, под баннером «И что?»
Все здесь описанное – музей довоенных эмоций, порождавших вольные мысли. Расположен в музее моей головы. Голова принадлежит музею женщины. Женщина живет в будущем музее человечества, ныне сохраняющем привычное название Земля. Незримым коридором в абсолютной тьме неведомо куда идем по следам кисти.
Харон Советского Союза[3]3
Эссе написано в 2017 году, многократно опубликовано по-русски, переведено на английский, португальский, итальянский. Основано на реальных событиях прошлого века. Герой повествования Александр Григорьевич Овчинников (1906–1999), отец моей матери (здесь и далее прим. автора).
[Закрыть]
Рынок-то разросся, и на каждом шагу предлагают памятники, венки, цветы бумажные ядовито-колоритные, ограды витые, мраморные, золотые, плиты гранитные, да хоть ониксовые, – а в шестидесятые-семидесятые хорошее ритуальное все было в дефиците. Трудно сказать, почему именно в нашей стране, где народ весь ХХ век был со смертью накоротке, вышел сей казусный недобор. Культура умирания и захоронения не развивалась ни духовно, ни эстетически, а на кладбищах воровали все, кроме разве что покойников. Дедушку моего попросили навести порядок в похоронном бюро Старого кладбища Воронежа: «Ты коммунист!»
Дедушка принял хозяйство и остался хароном лет на двадцать пять. И парторгом был, и заведующим, и диспетчером по транспорту, но навлона не брал ни в один обол, ни в миллион. Он даже копачам мешал брать сверху. Он обеспечивал законность. Он проводил партсобрания, выписывал центральные газеты, читал с подчеркиванием, делал вырезки и складывал в картонные папки, чтобы хорошо провести на кладбище политинформацию по актуальным проблемам жизни. Утром он давал мне узорный ключик и просил сходить в ящик за газетами. Каждый вечер, приходя со службы, он рассказывал любимой жене, то есть моей бабушке, как прошел рабочий день и что нового в системе планового упокоения мирных воронежцев.
Квартира их была двухкомнатная смежная, хрущоба с аркой, и я прекрасно слышала его деловые отчеты. Дедушка ел с удовольствием, любил котлеты, пельмени, все посыпал сахарком, а бабушка подавала-принимала. Дверь в кухню всегда была распахнута. Будь я детективщик крови, надо было бы сидеть под кухонным столом и ежевечерне записывать. Матерьял! Например, некий оттепельный муж, удачно сходив налево, решил покончить с опостылевшей законной супругой ради новой страсти. Мужчине, всем известно, все можно. Замыслив преступное деяние, упомянутый муж, он же свежий-любовник-с-налево, решил вопрос по-умному, с иезуитским шармом. Жена его законная привыкла к приуготовительным ласкам в виде легкой щекотки в районе ребер, подмышек и пяток, и коварный завернул ее в простынку и защекотал до смерти. Как уж следователи разгадали его технику – не ведаю. Но мужика посадили мгновенно, а жену похоронили с сочувствием. Подобных love stories я выслушала сотни. К чести дедушки, он не отступал от телеграфного стиля. Репортажи с кладбища были строги, без модальностей. Мне кажется, он, глубоко советский человек, однажды просто привык к любым выходкам инферно.
По словам дедушки, кладбище пропускало примерно сорок клиентов в сутки. Количеством захоронений управляла не только жизнь, но план. Иногда план не выполнялся, и мы дома ломали голову: как выполнить социалистические обязательства? А еще ведь и встречные планы, неизбежные в рамках системы. А пятилетку в четыре года! Дедушка партиец: попробуй допустить отставание. Саботаж пришьют как нечего делать. Помню, сидим вечером думаем над квартальным планом по покойникам, а по телеку идет очень смешной «Зигзаг удачи» с бесподобным Евстигнеевым: фотоателье не успевает выполнить месячный план, и смекалистые сотрудники начинают фотографировать друг друга. Мы весело переглянулись.
Взрослые – способные существа, с выдумкой. Я изучала взрослых не по одним убийцам, но и по ворам. Выдранные прямо из свежих могил металлические венки да цветы, продаваемые по три раза на дню, по кругу, да махинации со скорбным инвентарем, да украденные плиты, памятники. А дедушка был непримирим, не укради чтил как основную, и однажды копач, у которого лопнуло терпение, бросился с топором на моего избыточно праведного дедушку – аккурат в кабинете главного бухгалтера, прямо в конторе похоронного бюро. Добрая женщина-бухгалтер, в блузке нейлоновой (мода шестидесятых и тоже дефицит), вскочила и заслонила дедушку от топора разъяренного могильщика. Удар пришелся по сливочно-белому плечу, а нейлон выдержал, и блузка уцелела. Черный синяк на плече бухгалтера потом рассосался, а дедушка ничуть не изменил своего отношения к копачам: бери зарплату, а с родственников свежепреставленного клиента – ни-ни. Копачи, разумеется, все равно брали, грех не взять, но дедушка продолжал бороться с мздоимством до победного, до пенсии, на которую и ему однажды пришлось выйти. Не на ту военную по молодой стенокардии, на которой он уже давно пребывал формально, а по глубокой старости.
Впрочем, старость была не про него. Сапожник без сапог – вот это про него. Когда в 1972 году хоронили его дочь, то первый же венок, из красивых металлических, был украден с ее могилы мгновенно. Второй венок дедушка приварил к стальному стержню, а под землей – к длинному кронштейну, чтобы не оторвали. Конструкцию ночью расшатали, но вытащить не смогли. А вскоре часть могильной площади оттяпали случайные соседи по кварталу, захоронившие свою родственницу с определенным шиком и размахом. Дедушка вдруг поник. К дедушке годами весь Воронеж ходил – прямо к нам домой – с просьбами. Я уже как слышала звонок в нашу дверь, значит, кто-то умер, и родня покойного пришла к дедушке за содействием в нормальной организации процессии. Но в роковую минуту постеснялся он пойти стукнуть кулаком, чтобы на могиле его собственной дочери кто-нибудь навел закон и порядок, а кто! Кто? За порядок-то он привык отвечать перед партийной совестью своей, а это святое, выше нет ничего. И никогда не смог поверить он, что нет на Земле одной на всех правды.
Дедушка стал моим опекуном. Он горячо полюбил родительские собрания, важно получал грамоты «За образцовое воспитание внучки», восторженно внимал похвалам. Мы с дедушкой смотрели по телевизору хоккей, орали шайбу, а если в школе намечалось политпросвещение, а я комсорг, то к моим услугам аккуратные дедушкины папки с вырезками из «Правды». Кстати, мне с кладбища перепадали дефицитнейшие подписки на толстые журналы. Я с детства читала все то, за чем охотилась читающая страна, а у меня – дедушка! У них для похоронной парторганизации была квота даже на журнал «Америка». И уж на– шу-то «Иностранную литературу» я знала всю. С бабушкой мы смотрели бокс, ей нравилось.
Дедушку никогда не волновали мои амуры. Его волновало прилежание и поведение, чтобы ему дали еще грамот. К моему первому замужеству дедушка отнесся с той же добросовестностью, с коей выполнял социалистические обязательства по захоронениям. Если другие родственники все– таки выступили – что же нас-то не предупредила! – то дедушка и бровью не повел. Вышла и вышла. Пусть привозит. И вот я привезла в Воронеж московского мужа. Брак наш был полушутливый, ради прописки мне и квартиры ему, но что-то живое в нем все-таки было, хоть и недолго. Короче, явились. Лето. Птички. Все зеленеет – Центральное Черноземье благоуханно, пейзажно, диво дивное.
Дедушка сказал, что для знакомства с окрестностями Воронежа он пришлет молодым москвичам служебную машину. О ту пору дедушка был в должности кладбищенского диспетчера по транспорту. Просыпаемся мы с моим новобрачным мужем, выходим на улицу – да, транспорт ждет. Белый ритуальный автобус с широкой черной полосой. Водитель транспорта, получивший указание от дедушки все им показать, весело приглашает нас в салон, мы восходим: там, понятно, лавки по стенкам, а в середине блестящий постамент. Цинковый, возможно. Выдвижной. Ну, вы понимаете. Едем.
Окрестности Воронежа – русская природа в самом аутентичном ее варианте: простор необъятный, горизонта нет, леса дремучие, небо высоченное, а сосны могучие как струны красные – и звенят. Извините за банальность. Царь Петр весной 1696 года на реке Воронеж построил первый регулярный военно-морской флот России. Азов брать. Взял. В описываемом первобрачном году сосны, конечно, были уже не те корабельные, но мощь осталась, гений места, уверенность и сила, все царственно, все берет за душу. Я-то в настоящей России выросла, а мужу внове, он москвичок таганский, смотрит по сторонам, вертит шейкой. А дороги раздолбанные, и нас с новобрачным кидает от одной стенки транспорта к другой, и мы летаем над металлическим прямоугольником туда-сюда, стараясь не сделаться клиентами дедушкиной конторы тут же. Свадебное путешествие в ритуальном автобусе надолго запомнилось всем участникам события. Развелись через пять лет, само собой, но это уж по умолчанию.
Когда ушла бабушка, дедушка похудел, загоревал: тяжко вдовствовать после пятидесяти шести лет сыр-в-масле-катания. Бабушка была идеальная жена и мать. Их дети любили своего отца, то есть моего дедушку, как бога. Плакал дедушка и говорил тихонько, будто в сторону, что не сможет жить без Шурочки. По-прежнему внимательно следил за общественно-политической прессой, веря в печатное слово и в партию. Коммунист, уже уволившийся со своей хлопотной работы, он продолжал платить партийные взносы, для чего раз в месяц ездил на кладбище, в свою родную партийную ячейку. Однажды взносы на кладбище не приняли. Даже дверь не открыли. Дедушка – кавалер двух Орденов Ленина, абсолютный солдат и неистовый патриот, не понял. Кладбище кладбищем, но Ленин-то всегда живой. С ним осталась их младшая дочь Зоя, и вернувшись домой, неслыханно озадаченный дедушка нашел силы спросить у нее, не знает ли она. Зоя сказала, что СССР и КПСС больше нет. И тут он пришел в первозданную ярость: «Что ты несешь! Взрослая женщина, а такую чушь городишь! Как это нет?!»
Дочь пыталась объяснить, но не смогла. Многие до сих пор не могут. Дедушка страшно сник, не поверил, стал названивать в партком кладбища, а там гробовая тишина. Вскоре дедушка заболел по-крупному. У него нашли все возможное, включая неизбежное. Тетке посоветовали оповестить родственников и готовиться. Тетка оповестила меня, квартиру приватизировала, накупила устройств по уходу за лежачим старым мужчиной, маленьким, но тучным, и начала бояться, поскольку она своего отца любила. Она преподавала в музыкальной школе, на работу ходила ежедневно и беспокоилась за неподвижного старика, оставляемого дома. Дедушке пытались сделать операцию, но поджелудочная с канцеродиагнозом оказалась неоперабельной, зашили разрез, а Зое сказали правду. У деда и так всю жизнь то одно то другое, но тут Зоя все поняла и затосковала. Никого нет: сама в разводе, сын ее отбыл музицировать в другую страну навсегда, одна с больным отцом, теперь она трусила малейшего шороха, прислушивалась, и даже затейливый храп его, раздражавший прежде, стал казаться музыкой сфер.
Май, сирень; сидит Зоя на работе, преподает детишкам фортепьяно. Ее зовут в учительскую. С вылетевшим в горло сердцем бредет она к телефону и слышит: «Зоя Александровна, заберите, пожалуйста, вашего папу, ему что-то нехорошо!»
– Откуда забрать? – ошеломленно шепчет Зоя.
– Да он тут у нас в салоне.
– В каком салоне?!
– На вокзале.
Оказывается, умирающий дедушка лежал-лежал один дома и вспомнил, что давненько не стригся у своего мастера, красивой женщины с формами. Офицер, он привык стричься коротко. А тут весна. И он встал. И пошел на вокзал в салон красоты. И дошел. И подарил мастерице шоколадку, как всегда поступал при виде женщины. И сел в кресло – стричься.
Я с детства помню, что искать конфеты всегда следовало в дедушкиных карманах. Он говорил: «Во рту должно быть сладко».
Он отверг умирание и пришел стричься, потому что офицеру надо коротко. Принес шоколадку, потому что его парикмахер – женщина. Noblesse oblige.
После визита в парикмахерскую он выбросил из обихода все роковые болезни, включая последнюю стадию, и начал мечтать о любви. Кончину КПСС и СССР он забыл. Бабушку, покойную супругу, забыл. Нас, троих внуков, забыл. Увидев свою правнучку, то есть мою дочь, не разобрался. Остался в приятном чувстве от хорошего знакомства.
К нему планово приходила роскошная дама, участковый врач с блестящим фонендоскопом на белой шее, с многообещающим тонометром в белых рученьках, а он просил ее не мерить давление, а показать – что там у нее под белым халатиком. Зоя, неизменно присутствовавшая при сценах эроса между девяностолетним стариком и прекрасной медичкой, хохотала до слез и всплескивала руками, а он обижался и говорил, что вот, взрослая женщина, родная дочь, а не понимает.
Он забыл смерть, он наконец вышел на полный отдых, оставив свое кладбище вместе с неверной партийной ячейкой и потерявшейся страной – в прошлом. И смерть забыла его.