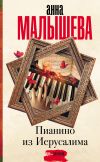Текст книги "Ключ от пианино"

Автор книги: Елена Девос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
12
Верману всегда везло с жильем, даже когда он еще, по большому счету, его не имел. Многие из пестрой когорты его приятелей, несмотря на железный и прочие занавесы, играючи путешествовали по миру, и один из них уехал работать в Африку «на пару лет, а дальше посмотрим». Тогда он и предложил Верману на этот неопределенный срок замечательную квартиру в Замоскворечье. Верман согласился и ни разу не пожалел: до работы было рукой подать, сын играл в песочнице неподалеку от синеглавой маленькой церкви, звенели на улице трамваи, и медленно, сонно текла мимо тяжелая река, когда он выгуливал вдоль набережной собак.
И зачем, ну зачем он пригласил меня в гости в этот ноябрьский звонкий выходной, как у него хватило… И зачем я приняла приглашение?
Вопрос риторический и ответа не заслуживает, но все-таки… Настали осенние каникулы, директор Гусев пожелал всем полноценного отдыха, то есть с книгами в зубах, уточнил он без тени улыбки. Накануне Верман помог мне оформить московскую прописку, точнее, не то чтобы помог, но театрально позвонил кувшинорылой чиновнице, которая матери в приеме отказала, и сказал, что ему, как и всем радиослушателям, было бы интересно чуть подробнее «узнать о порядке рассмотрения документов у населения». В результате товарищ Сидоренко согласилась принять меня в понедельник. Обворожительный Верман!
Отъезд мой из Москвы в родные края был отсрочен до вторника – так, может, увидимся, душа моя, сказал Верман. И так хотелось увидеться… Вот и все.
– А ты приходи в гости ко мне в субботу, часам к шести, я… – предложил он совершенно запросто и зевнул в трубку, – я, ыымммм… как раз высплюсь после эфира. Езжай на трамвае, радость моя, остановка… м-м-м… остановка «Рот Фронт» называется.
* * *
Первой в прихожей меня встретила собака, седая афганская борзая, похожая на писателя Тургенева в старости. Затем, струясь и влажно улыбаясь черногубой пастью, появилась вторая – длинная каштановая такса.
– Такса Метакса, – представил Верман. – Любимица!.. А это афган Тамерлан, подлый аристократ. Я все имена и не упомню.
За собаками выбежал ребенок в одной распашонке – и остановился неуверенно, чуть качаясь на пухлых белых ножках.
– Гри-иша, – прозвучало за дверью спальни, тепло и медленно, словно пели колыбельную.
Ребенок мотнул головой и остался в прихожей смотреть на меня. Колечки русых волос блестели над его крутым – вермановским – лбом.
Голос чуть помолчал и завел снова:
– Гри-иша… Иди сюда, давай штанишки наденем. Глаза у ребенка были темные и лукавые – материнские, подумала я, когда увидела ее секундой позже.
Как я хотела ее увидеть! Маленького роста, в красных стоптанных тапочках, с тугой косичкой черных вьющихся волос, она взглянула на меня, очи черные, поцеловала Вермана, очи страстные, и, сверкнув сережками, метнулась на кухню, куда побежал, радостно гикнув, бесштанный Гриша.
С кухни пахло печеными яблоками и едкой сахарной гарью.
– У меня шарлотка сгорела, Володька, – сказала она грустно, возвращаясь из кухни с младенцем на руках.
Загорелые, гладкие девичьи руки со сбитыми, темно – розовыми, как персиковая косточка, локтями и маленькими запястьями. Светлое тяжелое кольцо на безымянном пальце левой руки. Почему левой, подумала я лихорадочно и взглянула на ладонь Вермана, которой он ласкал пушистого пса. Он тоже носил кольцо на левой руке, но спросить его об этом прямо сейчас я не нашла в себе душевных сил.
Меня усадили на диван, вручив альбом с фотографиями, и я покорно сидела и листала его. Верман накрывал на стол и возился с радужными дисками – он гордо показал мне их издалека, последний писк музыкальных технологий. Аня с младенцем на руках ушла на кухню, аристократ Тамерлан и такса Метакса последовали за ней в качестве хвостатой свиты – в общем, я сидела с альбомом одна, и никто не смог дать мне, как это водится, комментариев к иллюстрациям семейного счастья, так что снимки эти были абсолютно безголосыми – просто застывшие мгновения, и все.
Альбом головокружительно уходил от настоящего к прошлому.
Поэтому сначала я увидела Гришу на разных стадиях развития, а потом Вермана с атласным кулем в бантах, очевидно, около роддома: падает снег, на черном пальто Вермана крупные белые мухи, он белозуб и небрит, ленты красного цвета.
Листаем дальше.
Аэропорт с ничего не говорящим мне словом Mallorca, самая что ни на есть открыточная морская даль, полотенце сохнет на шезлонге, мокрая Аня в черном мокром купальнике, расшитом то там то сям бисером пляжного песка, скалит зубы, наверное, на мужа, какая красавица, оборачиваются на нее два голландца, эти русские целуются день-деньской, должно быть, медовый месяц. Идеально правильный квадрат ярко-синей воды в гостиничном бассейне, идеальное голое тело жены Вермана, которая падает в синеву на спину, – муж нажал на кнопочку за долю секунды до того, как вода облепила ее совершенно, в бассейне ни души, вот она и разделась, живот уже совсем карамельный и нос облупился. Бледное, раннее утро, задолго до круассанов, и кофе, и горячего шоколада, и сока из красных апельсинов, бледное лицо от бессонницы и всего, что не повторится, пить хочешь, да, и пить, и есть, и особенно тебя, хочу тебя, te quiero.
Опять она, закутанная в хитроумное золотое платье, без фаты, спина голая, а шлейф сияет по полу, и хрупкая, драгоценная туфелька, работы скорее ювелира, чем сапожника, сейчас споткнется о ковровую дорожку загса.
И опять она, в глухой коричневой школьной форме со стрекозьими крылышками эфемерного капронового фартука. Туфли на пуговках, нахмуренные брови, а глаза смеются, сейчас раздадут почетные грамоты и медали отличникам, а потом все будут танцевать, выпускной вечер, а в общем, ерунда все это, все равно она через три месяца за Вермана выходит.
* * *
Как только я толкнула подъездную дверь наружу, пошел дождь.
Скользнула щеколда английского замка, упал занавес, осталась по ту его сторону живая картина, и мне было и больно, и легко, и жалко, и совестно, и грустно. Я вдруг поняла, что молодая мать – это звучит гордо, что семья – это красиво, и какое-то непонятное восхищение детьми, вопреки их слабостям и недостаткам, независимо от их поступков и проступков, захлестнуло меня в одночасье.
Никакого логического объяснения этому странному чувству не было.
Так впервые в жизни я испытала умиление к ребенку.
Это совершенно перевернуло мой небольшой пятнадцатилетний мир. До этого дня я не могла понять, что можно вообще найти в таком занятии, как няньканье с детьми. Соседка Люда, моя ровесница, проводила дни напролет, прицепившись к какой-нибудь молодой усталой мамаше, чтобы повозиться с ее кривоногим чадом, – и я изумлялась: зачем? Зачем добровольно, без принуждения человек может проводить время с хнычущим, непонятно чего требующим, неуклюжим, толстым и откровенно глупым существом? Снизойти до уровня развития двухлетнего ребенка было выше моих сил. И вот сейчас, увидев и подержав на руках чужого сына, я вдруг поняла зачем.
Пелена, скрывающая красоту младенческих лет, спала с моих глаз, и я вдруг узнала с ясностью пророческого сна или видения Сивиллы, как легко и сладко засыпает он у матери на плече, пока Верман курит на балконе и ждет, когда Аня выйдет из Гришкиной комнаты. Ясно стало также, что после моего ухода им будет хорошо вдвоем. Что вообще, должно быть, хорошо жить в таком доме. В доме, где друг с другом разговаривали на «вы», чуть насмешливо, но очень вежливо, и когда муж в конце вечера обронил что-то вроде: «Ань, ты не помнишь, где у меня…», то она сказала: «Так вы, Владимир Валерьевич, в коробочке вон на той полке посмотрите…» – словно нельзя было разменивать «ты» на пустяки, при чужих, всуе.
Это был дом, где со вкусом шутили и ели, где жена отлично готовила, где дна было не разглядеть, но на поверхности мой жадный взгляд ласкали не страсть этой пары и уж, само собой, не верность, но какое-то такое сплочение, какое-то спокойное и уверенное «вместе», унисон мнений, прозрачная крепость, которую наполняли и создавали дети.
Так видение эфемерное, но упрямое, вылезло из кокона, расправило крылья и стало мечтой. Но за что мечте было уцепиться, куда деться? В доме Вермана на вид все было дивно хорошо. Жизнь, особенно семейная, представлялась мне длинной и запланированной на много лет, как учебный план, и я с отчаянием думала, что все у них идет согласно плану, и будни, и праздники, и радости на супружеском ложе – все это согласно плану, в котором и его приезд, и его слова ко мне были как комета среди расчисленных светил: и в никуда, и ни для чего.
Часть вторая
1
Вдруг оказалось, что учиться – это интересно и легко.
Расписание в дневнике взмахнуло бумажными крыльями, опустилось ко мне на ладони и сказало голосом птицы Сирин: «Мировая история, история философии, история религии, история России, история искусства, история цивилизаций, история, история, история».
Когда-то давно, в занесенных колючим февральским снегом Косогорах, мать, по просьбе нашей классной руководительницы «провести с ребятами беседу об истории искусства», пришла в школу. Что-то такое было вокруг вовлечения родителей в школьную жизнь, и работа моей матери в отделе заводской архитектуры означала для классной как раз, что эту фифу можно пристегнуть к уроку истории.
Мать принесла свой собственный маленький путеводитель по Эрмитажу: цветные репродукции, глазурь суперобложки. В самой сердцевине, на особой бумаге – мелованной, цветку лотоса подобной на ощупь, – обитал лютнист Караваджо.
Лютнист пустился в плавание по классу, класс знакомился с Эрмитажем, хихикал и скрипел стульями. Через полчаса, после унизительного путешествия по неровным рядам парт, книжка вернулась – с изодранной Психеей (за то, что была голая) и смятым списком репродукций на последней странице.
Здесь все было по-другому.
В школьную жизнь вовлекались не родители, а невероятные, на обычных учителей не похожие люди, которые первую половину дня преподавали в институтах, приходили к нам после семинаров, тащили в класс не то что путеводители, а журналы, атласы и словари, где их предмет иллюстрировался досконально, букварно, сотней маленьких картинок, в том числе и обнаженной натурой, но над этим никто не смеялся – не смели, просто покорно записывали за шаманом, пританцовывающим у черной доски: жертвенные обряды, Фрейзер, Фрейд, инквизиция, инициация…
Тема инициации была очень кстати – именно в это состояние мы и впали в ту осень все поголовно.
Половина учеников так же, как и я, пилили каждое утро полтора часа из своих Медведкова, Люблина и Химок, залетая в класс вместе с третьим звонком, дабы приникнуть к источнику знаний и «напитаться словарями», как мечтательно говорил наш словесник. Была и другая половина – бравые хоккеисты, пловцы-молодцы и плоскогрудые, гуттаперчевые гимнастки – короче, спортсмены, наследие тех времен, когда школа была еще соответствующего профиля. Они перешли в следующий класс в основном по инерции, чтобы закончить десятилетку там, где начали, и вид во время уроков у них был, надо сказать, несколько изумленный. Оно и понятно: даже если ты решил не заниматься больше спортом для Олимпийских игр, а просто закончить нормальную школу с историческим уклоном, все-таки сложно заранее угадать глубину собственного погружения в мир гуманитарных наук.
Когда закончился суматошный ветреный сентябрь и все более-менее перезнакомились, когда около трамвайной остановки мороз засеребрил увянувшее поле, одна из новеньких, пышноволосая и розовоперстая, точно первая строфа Илиады, присела как-то утром на подоконник, где я разложила тетрадки по алгебре.
Сковырнув изюм с подгоревшей «калорийной» булочки и болтая в ритме марша ногой, обутой в американский ботинок, она сказала, что если я как бы хочу писать и печататься, так ее мама издает как бы журнал для подростков – о проблемах молодежи, уточнила Лариса, протягивая мне кусок «калорийки». Так что поэзия как раз пойдет, а еще лучше – заметка на тему «вот есть такая клевая книжка стихов, если знаете, молодцы, а если нет, то почитайте обязательно, потому что…».
– Да ты приходи в редакцию, – щедро добавила она и спорхнула с подоконника, захлестнув школьный рюкзак на плечо. – Приходи, и сама все увидишь.
* * *
Проблемы молодежи вполне соответствовали в ту пору моим собственным, так что я с большим волнением собралась в редакцию журнала «Прямо сейчас» (или «Just now», выходит на двух языках, распространяется в 15 странах, имеет 200 корреспондентов – ну, не будут же они проверять, – и если поднажмем на ЮНЕСКО, сказала Ларисина мама, то скоро выйдем на тираж в 5 тысяч экземпляров!..).
Я надела красный свитер, выбеленные временем джинсы и, собрав по сусекам три десятка своих стихов на бумаге разного цвета и калибра, предстала перед взрослым и подрослым коллективом редакции. Впрочем, никто меня никому официально не представлял. Узкая подъездная дверь вела на каменную лестницу, где Лариса тотчас же остановилась покурить в кругу соратников, а потом мы уже впятером заваривали и пили чай на облупленной, но очень милой кухне под зеленым лопухастым абажуром.
Да, была там кухня, и ванная, и, в рифму, диванная тоже была, и библиотека, и большое бюро, где ютились по углам письменные столы для редакторов и критиков. Двести корреспондентов, понятное дело, паслись в редакции без прописки, но чудесным образом всегда находили пристанище себе по вкусу, ведь к их услугам были: стулья, кресла, подоконники, кухонный стол и лестничная площадка, а в летний день – небольшая веранда, окруженная с трех сторон коваными перилами, которую все почему-то гордо именовали террасой.
Редакция располагалась в дивном московском дворе на Малой Бронной, в особняке, на «минус первом этаже», а проще – в полуподвале.
Полуподвал смотрел во двор через крохотные, украшенные подсвечниками и пепельницами оконца, точь-в-точь как то, в которое стучала туфелькой с черным бархатным бантом Маргарита.
Отделом эссеистики заведовал Алексей Васильевич Щербаков.
* * *
– Ну, так что же, – добродушно произнес Алексей Васильевич, – чем думаете заняться после школы?
Я поддалась обаянию Щербакова и сказала доверительно:
– Да, наверное, на журфак поступлю.
– Да вы что! – В ужасе попытался воздеть к небу свои коротенькие ручки Алексей Васильевич. – Во-первых, ни в коем случае. Во-вторых, почему, позвольте спросить, и что вам делать в журналистике?
– А за что вы так на нее? – растерялась я.
Алексей Васильевич вздохнул и откинулся на спинку кресла:
– Аня, опомнитесь. Во-первых, вы, конечно, не журналист. Вы придете туда, лопаясь от гордости, и через четыре месяца поймете то, что я вам сейчас говорю сжатым текстом. Во-вторых, ведь там же ничему не учат. В-третьих, в газете они станут переделывать вас, а вы не сможете, и будет трагедия. Трагедия!
– Ну, вы же не переделываете, – заметила я, подошла к его столу и ткнула пальцем в «Just now». – Вот журнал, в котором меня не переделывают. Вот!
– Да, журнал уникален, – тряхнул львиной головой Алексей Васильевич, – но поэтому он долго и не протянет. И потом, он детский. Вы скоро вырастете.
«Бедный грустный старик, – подумала я, – все это полнейшая стариковская ерунда».
И спросила небрежно:
– И что бы вы сделали на моем месте?
– Я на вашем месте каждый свободный час заходил бы в библиотеку и читал бы хорошие, вечные книжки, – серьезно сказал Щербаков. – Например, Пушкина и Достоевского, которых вы плохо знаете.
– Достоевский слабо пишет, – не очень уверенно повторила я чьи-то слова.
– Да вы что! – опять взмахнул руками Алексей Васильевич так, что его узорчатый свитер собрался в гармошку на животе. – Вы сами-то когда-нибудь читали Достоевского? – Он выбрался из своего рваного креслица и подошел к шкафу. – Вот, хотя бы… Во-первых, прочтите его речь на открытии памятника Пушкину. А во-вторых… да все у него прочитайте. Прочитайте все у Толстого, Гоголя, Лескова, Островского, перечитайте «Недоросль» Фонвизина и, конечно, «Горе от ума», поэзию Державина и Ломоносова читать и перечитывать раз в год, обязательно! Потом можете браться за Чехова, Булгакова, Блока, Мандельштама, Ходасевича, Арсения Тарковского. Прочитайте все у Тынянова и Бахтина, и потом, раз в два года, перечитывайте. А в-третьих, Аня, будь моя воля, я запирал бы вас каждый день часов на шесть в читальном зале и давал бы вам с собой только чистые тетради и чернила, чтобы вы читали и выписывали незнакомые слова. И все.
2
Как ни странно, Верман сделал гораздо больше, чем все мои прекрасные наставники, чтобы я начала выписывать незнакомые слова или, по крайней мере, писать знакомые. Но, разумеется, это был побочный, так сказать, нечаянный результат нашей с ним встречи.
Вернее, не только с ним. Вообще-то, это была встреча с Федей.
Федя работал на другой станции, почти враждебной «Новому радио» и преданной только джазу, ежечасным котировкам валют и прогнозу погоды в столицах мира… Там Федя трудился, к слову сказать, музыкальным редактором, а в свободное время… «Ну, кто он? – задумался Верман, и стал загибать пальцы. – Ну, во-первых, известный в узких кругах аранжировщик, потом пианист, гитарист, недурной джазовый композитор, а если выпьет, – тут счет прекратился, ладонь Вермана скользнула вниз, и на финишной прямой его указательный и большой пальцы соединились в восхищенное колечко, – эфир будет вести лучше чем я, и споет на бис. Обалденный музыкант!»
Обалденный Федя играл по четвергам в клубе «Пятый глаз», что находился тогда недалеко от Страстного бульвара, в маленьком особнячке, наверняка знавшем еще Пушкина, на втором этаже, украшенном полумесяцем лепного балкона.
«Пятый глаз» начался с истории, к музыке мало имеющей отношение. Сначала на первом этаже особняка появился магазин «Четыре глаза» и стал бойко торговать телескопами, микроскопами и биноклями. Но владелец магазина смотрел на свою жизнь не только в микроскоп – господин Кучеренко был страстный поклонник джаза и чуть погодя этажом выше открыл бар, в котором ждали гостей обшарпанное пианино, стойка с веселым барменом и мяукающие напевы Билли Холидей. Музыкантов кормили бесплатно, если они при этом что-нибудь играли. И они заиграли – так, что потом «Четыре глаза» закрылись, а пятый остался, начал жить своей жизнью, закипели концерты, стали тусоваться у входа в клуб любители и профи, а бывший владелец телескопов сидел вечером за барной стойкой, точно Богарт в «Касабланке», и тянул «Кровавую Мэри», зажмурившись от удовольствия.
Мы условились, что я приду туда около десяти вечера и узнаю, стоит ли мне вообще иметь дело с музыкой или нет.
Для тех, кому неинтересны детали, паузы, отступления, танцы с покрывалом, заплаканное миндальное дерево, вино между двух морей, могут удовольствоваться исчерпывающим «или нет» – следующая глава все равно интереснее.
Для любителей щемящих звуков вот он, автопортрет в уголке общего коллективного табло, колибри в клетке, крошечные, вышитые златошвейкой инициалы на обратной стороне гобелена – вот как оно было.
* * *
Утром ветер отворил окно настежь, разогнал облака, подсинил холодным ясным небом реку. Птица взлетела вдоль стены, почти вертикально, по линеечке, точно ее подтянули туда на нитке, вытянутая шейка и биение крыльев было так, прихоть художника, знак, что очень сложна и дорога хрупкая марионетка.
Холмы успокаивали глаз, согласно удаленной перспективе – темно-синие, голубые и совсем мотыльковая лазурь.
И солнце показалось в облаках и потекло из них правильно, по диагонали… вот на тебе, пожалуйста, открывай и рисуй. А я не могу рисовать. Я перевожу, подстрочно. Свою жизнь в твою, твою в нашу, нашу – в третью. Сегодня в первый раз во сне говорила по-французски, словно другого языка и нет на свете. А смогла бы я тебе по-французски написать? Расслаивается иногда земля, освещенная двойными лучами. Как странно я вижу. Надо обязательно сказать врачу.
* * *
– Ну, давай! – Крутанувшись на плюшевой табуретке, Федя перестал играть и уступил мне место: встал, потянулся, завел локти за голову. Федя был из тех, что седеют рано и красиво, отпускают кудри и ходят себе потом, точно в напудренном парике, на голову выше бритой эпохи.
И я села на кособокую, думая скорее о своем положении в пространстве, чем о том, что под пальцами, и сыграла, и он поправил меня, как вот Моцарт, помните, поправляет императора Иосифа, который презентует ему хвалебную пьеску Сальери, – и это было ужасно и смешно одновременно. И он улыбнулся, и сыграл еще, и еще, и Холидей, и Гульда, и Мусоргского, и Котрана, и даже что-то для только левой руки, но это было так, как если бы я играла и левой, и правой. Я боялась притронуться к инструменту после его волшебных мохнатых кистей.
– В общем, поняла, да? – вдохновенно провел он указательным пальцем глиссандо по нисходящей и выпрямился, оперевшись на крыло рояля: неумолимый, прекрасный, с пронзительным взором Петра в «Полтаве», вот-вот разобьет неприятельские полки. – Вот так, да? Бери и греби, пригоршнями. Уже давно все придумано, не трать время, зачем повторять… И чего у тебя левая рука такая слабая? Ведь ты же левша… А вот голос интересный. Вот голос можно попробовать… Приходи в студию! Посмотрим, послушаем.
Как странно, подумала я, про голос мне никто никогда ничего не говорил. Даже Верман. Последний вообще устранился на момент открытия истины в бар и, дирижируя соломинкой для коктейля, объяснял что-то бармену, и бармен выбивал ему ритм шейкером, как большим серебряным маракасом, а потом кивнул на зоосад за своей спиной, где дремали на полках разные коварные звери. Верман покачал головой, бармен тоже покачал головой, отворил особую холодную клетку и вытянул светло-зеленую бутыль за прелестную тонкую шею, и голос твой произнес мечтательно: Entre deux mers… – где я только поняла, что тебе легко и весело, и лишь годы спустя подхватила истинное значение шероховатых слов.
Ты покрутил тот незабвенный бокал на хрупкой ножке так, что вино заплакало и запахло дачей, смородиной и совсем тоненько – сенокосом.
– Напишешь про это?
– Ну, не спою же.
Он тронул меня за подбородок и понял все, что творилось со мною, и уж не стал ничего говорить – мазнул мне по носу легким пальцем, и повел между двух морей, и стал рассказывать сам: про волейбольные часы на журфаке, про то, как прогуливал и терял зачетки, про лыжные кроссы, которые бегал за слабоногих красоток, и как их с Федей отчитывали за торговлю буржуазной музыкой из рук в руки на первом курсе, и про вечеринки и дринки, и про разные языки.
– …Мы все учились понемногу… – почесал незримую бакенбарду Верман. – Все это ерунда. Все равно ты пианино уже не закроешь. Главное, поступай на вечерний, тогда они не отберут у тебя золотое время – утро! И читай поменьше! А пиши побольше.
Но я все-таки поступила по-своему.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?