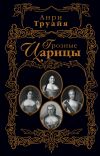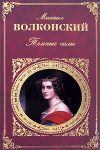Текст книги "Золото и сталь"

Автор книги: Елена Ермолович
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Бюрен следил, как цирик раскладывает на столе его вещи, отнятые при аресте – шпагу, перевязь, опустошенный кошель. Цу Пудлиц раскрыл папку с делом, что-то прочёл в ней, усмехнулся, поднял на Бюрена нежные прозрачные глаза:
– Постарайся вывести вшей до утра, Эрнест Бюрен. Поверь, в кёнигсбергском магистрате не любят вшей. Дело твоё кончено, король прощает тебя. Завтра оформишь помилование, и ты снова чист. Как эти наши католики – после исповеди, и до следующего раза. Хотел бы и я иметь таких друзей, Эрнест Бюрен, как у тебя…
– Кто? – только и выдохнул Бюрен.
– Русская царица Екатерина Алексеевна. Штраф твой внесён из русской казны, и сия высочайшая особа лично просила за тебя – нашу высочайшую особу. И, как ты видишь, вполне успешно. Как и следовало ожидать. Ты счастливчик, Эрнест Бюрен.
Бюрен молчал – он не понимал и совсем растерялся. Он был представлен Екатерине, но вряд ли оказался настолько неотразим, чтобы она… Нет, не то…
– Кто передал деньги? – спросил он быстро. – Там было письмо? Ваше благородие…
– Деньги передал барон Кайзерлинг, – медленно и размеренно прочёл из папки цу Пудлиц, – с распиской от частного лица, графа Лёвенвольде. А я еще полагал, что рыцари тебя не любят. Любят, и ещё как. Этот Лёвенвольде – он же следующий после Монца у неё, да… Графский титул заработал безупречной службой – и себе, и братишкам. А братишка-то – ландрат в Лифляндии, сосед вашей Анны, – цу Пудлиц смерил Бюрена небесным взглядом, что-то припомнил, прикинул в уме, – неисповедимы пути… Нет, письма от него никакого нет, не гляди на меня – только расписка, к деньгам, к выкупу. Иди уже, счастливчик Эрнест Бюрен, или, как пишет твое имя твой благодетель, Бирон. Ступай, выводи вшей, бог даст – более не свидимся. – Цу Пудлиц захлопнул папку и вдруг улыбнулся лукаво – но улыбка отчего-то сразу сделала его правильное лицо жалким и неприятным, – и прибавил по-французски: – Bonne chasse!
Это была присказка русского большого двора, «счастливой охоты». Счастливой охоты желали и юнкеру, бегущему на свидание, и шпиону, встающему на дежурство за шпалеру, и сомнительному счастливцу, вписанному в знаменитый «галантный реестр» их величеств. Странно, что эту присказку знал и цу Пудлиц.
Бюрен застегнул перевязь и вложил в ножны шпагу. Шляпа его при аресте пропала, и он поклонился цу Пудлицу так, без шляпы – красивому человеку, знавшему русские придворные присказки. Человеку, украсившему его спину пятью рубцами от ударов кнута, вдобавок к тем пяти, что остались с прошлого визита, с предыдущего ареста.
И вышел вон.
Рене, его последний… Невероятный его благодетель. «Глупо просить человека, у которого все цацки в закладе и никогда нет наличных денег…» Бюрен написал ему – но он всем писал, у всех просил. Впрочем, Рене теперь богат, наверное богат, он «следующий после Монца», что ему стоило… Он наследовал казнённому кавалеру, он теперь на его месте, и может всё, и даже немножечко больше – ведь русский царь умер, Екатерина на троне, а с нею и Рене… Что ему стоило бросить подачку ничтожному узнику? Безделка, нечаянная милость, небрежный жест. «Я люблю тебя – но я всех люблю, не бери в голову, Эрик…»
Забавно, что на языке арестантов выражение «дома-дома» означает вовсе обратное – оказаться в тюрьме. «Тюрьма – мой дом», как с веселой патетикой говорил хамелеон Август.
Когда Бюрен вернулся домой, ребёнок спал и кормилица спала. Бинна сидела в кресле и на пяльцах вышивала какие-то очередные гривуазные розы.
– Не подходите! – Она выставила ладонь, словно отталкивая его.
– Не бойтесь, я уже чистый. – Бюрен приблизился, и сел на пол у ног её, и обнял её колени. – Я никогда не пришел бы к вам – сразу оттуда.
Он зарылся носом, как ребёнок, в ее синее-синее платье, синее – к серым глазам… Аромат земляничной пудры и слабых медовых духов… Бинна отложила пяльцы, провела ладонью по его волосам, то ли с лаской, то ли проверяла, нет ли в них вшей. И потом – другой рукой глубоко и злобно уколола его в плечо длинной вышивальной иголкой.
– За что?!
– За Рейнгольда Лёвенвольде, – тихо и старательно выговорила Бинна это красивое имя.
– Я сделал всё, как вы меня учили. – Бюрен поднял голову и посмотрел в кошачьи злые глаза, в бликах синего платья – цвета аквамарин. – Готов поклясться, будь вы со мною – вы бы сами просили меня не упускать такого шанса. Я хороший ученик, правда?
– Лучший. – Бинна улыбнулась. Она улыбалась, оказывается, как цу Пудлиц – улыбка делала её холодное стройное личико вдруг неправильным и жалким. – Не думайте, что я вас не ревную. Но вы один можете извлечь нас из ничтожества – так поймите и меня, и простите меня, мой бедный Яган. И знаете что – вы выиграли в свою игру, ту, что с хозяйкой. Она металась, как львица, когда стражники вас увели. Всем написала, у всех просила для вас денег. Видит бог, она так вас любит теперь… В Митаве новый жид, банкир, он обещал ей помочь, правда, под зверские проценты – слава богу, что этот ваш Рейнгольд дал вам денег. Иначе она влипла бы в жидовские проценты, как муха в мёд, а она и так нищая.
– Что за жид? – спросил Бюрен, почти зная ответ.
– Некто Липман. То ли еврей, то ли католик, тёмный человек. Но он единственный ссужает ей. – Бинна склонилась, взяла его за плечи и посмотрела внимательно в красивое хищное лицо, словно оценивая – сколько же он нынче стоит? – Идите к хозяйке, Яган. На ваше новое место. О, мой победитель…
Хозяйка ударила его наотмашь, один раз, другой – лапища у нее была медвежья, тяжёлая. А потом обняла и прижалась – совсем как Рене, на той далёкой, невозможной, давно позабытой крыше.
– Больше уж не отдам тебя, – прошептала глухо, почти беззвучно, и Бюрен увидел, что она плачет, – всегда со мною будешь.
Она говорила по-русски, но Бюрен по-русски понимал почти всё.
Никогда прежде ему не было хозяйку жаль, она ему даже не особенно нравилась – или нравилась не больше, чем вся его остальная служба. И то, что она его любит – это было не более чем награда за работу, проделанную с огоньком и неплохо. Сам он никогда и не говорил, что любит её – он никому такого не говорил, кроме собственной жены.
А сейчас герцогиня плакала, и она готова была разориться, пойти в кабалу к жиду, но всё-таки заплатить его выкуп…
– Я скучал без вас, – сказал Бюрен ласково, по-немецки, и прибавил потом на её языке, по-русски: – Я люблю вас. – Он давно выучил эти слова, от русских девочек в кёнигсбергских борделях.
– Катерина за тебя платила – у вас что, с нею было? – ревниво спросила хозяйка. Она не поняла, что платил-то – Рене, да она и не знала ничего про Рене.
– Кто бы мне дал, – усмехнулся Бюрен, – там двое дежурили, два её любимца, смотрели за нами во все глаза. Нет, мы с Екатериной Алексеевной беседовали о выездке, и о собаках, она любит охоту, как и я – вот, наверное, оттого она сейчас и пожалела меня.
Вот у хозяйки глаза были – голубые, тёмные, почти синие. Бюрен целовал ее, вспоминая другие глаза, цвета аквамарин. Хитрая торговка Бинна, как рада она сейчас – его победе. Тебя продали, а ты – всё-таки у всех у них выиграл.
– Никому не отдам тебя. – Хозяйка гладила его волосы и уже начала расстёгивать на рубашке первые пуговицы. Пальцы её рвали пуговицы из петель – с мясом, раздирая ткань…
Бюрен задул свечи – он всё-таки не мог с нею при свете. Его пламя горело лишь в темноте, ведь оно питалось – фантазиями. Чтобы хорошо сыграть, он вынужден был думать о ком-то другом. А хозяйка-то, дура, может, и поверила, что этот её вермфлаше тоже её любит – чего не бывает, ведь и Виллим Монц, говорят, любил-таки свою Катерину. До смерти любил…
– Хорошо, что ты снова со мною, дома…
«Дома-дома» на языке арестантов не значит дома, значит – снова в тюрьме, на своём месте. Она так крепко его обнимала, и странно было касаться щекой этих бархатных рукавов, этих насмерть оплетающих рук… И жаркий шёпот, и чужой, не всегда понятный язык – непонятный, когда на нем – детские нежности, глупые прозвища. Тёмные волосы, длинные серьги, прохладными змеями ползущие по обнажённой горячей коже – всё это было уже с ним когда-то, в точно такой темноте… Легко перепутать, если толком и не помнишь, если не хочешь – помнить. Его добыча, влюблённая в него наконец-то всерьёз и насмерть, да вот только – не та, не та…
Он прижимал к себе женщину, понимая, что теперь уж точно отдан ей и продан, и назад пути нет, он уже не сможет, как милочка Корф, пожать плечами и откланяться – его, Бюрена, попросту не отпустят. С мясом вырвут у мира, как пуговицы те из петель, но не отпустят… Он отныне в руках у неё, в огненном круге, дома-дома.
«Мой дом – тюрьма», как говаривал патетически хамелеон Август.
Анисим Семёныч Маслов прислал Бюрену очередную главу немецкого перевода Аль-Мукаддимы. Наивный человек, он надеялся, что немецкий шталмейстер, писавший на родном языке с обиднейшими орфографическими ошибками, сумеет оценить тонкости и блистающие грани сочинений арабского мудреца. Увы, русский Маслов писал по-немецки куда как лучше, чем немец Бюрен… Но Бюрену льстило такое доверие, и он разбирал потихонечку, строку за строкой, премудрую книгу.
Две идеи, две мысли были главными в Аль-Мукаддиме. Первая – всё предопределено, и ничего ни с чем не поделаешь, всё в руке всевышнего. Кысмет – судьба, или же, наоборот, не-судьба, ан-фортуна. Ты можешь биться в сетях или не биться в сетях – все будет так, как наверху решено, и никак иначе. Выбор – иллюзия. Или же Бюрен неправильно понял – он не был философ, и подобные вещи давались ему с трудом.
Зато вторую идею он понял, кажется. О государстве как хищнике, пожирающем и обирающем своих подданных, но и встающем на их защиту – когда это необходимо. Государство как судия и усмиритель, «таковой усмиритель оказывается одним из них, неодолимой дланью владычествуя и властвуя над ними, дабы ни один из них не смог донять своей агрессивностью другого». «Нравы людей таковы, что меж ними царит несправедливость и вражда: кому приглянулось имущество брата, тот уж тянет к нему руки, если только не сдержит его какой-нибудь усмиритель».
Бюрен прежде, во времена кёнигсбергского ученичества, прочел одну утопию. «Город Солнца» сочинения Кампанеллы. Читал он её ради астрологии – в «Городе Солнца» содержались весьма забавные астрологические выкладки, говорилось о подборе идеальных гороскопических элекций для случки домашнего скота и зачатия младенцев. Подбор элективных генитур к яйценоскости куриц… Всё это казалось даже начинающему астрологу Бюрену смешным, а уж экономические изыскания синьора Кампанеллы – и подавно. Отсутствие собственности, общие женщины… Бред, глупость, нелепая поэзия, особенно для выросшего в деревне человека.
Аль-Мукаддима, с ее возвышенным слогом и поэтическими оборотами (или то Маслов столь красиво перевёл?), не показалась смешной приказчику имения Вюрцау. Бюрен понял, что же привлекло его друга в сей мусульманской книге – признание греховным банковского процента, наживы ради наживы. В тюрьме вот так же презирали ростовщиков, барыг – как презирал их араб, сочинитель Аль-Мукаддимы. Да, ростовщичество, обогащение на чужом несчастье – грех несомненный, правы тут и воры, и арабский писатель. Но как без этого? Ведь и у османлисов есть ростовщики, Бюрен знал. Несбыточное, поэзия – жизнь без банковского процента, «безбарыжная» экономика, красиво, благородно, но – нет. Маслов – поэт и мечтатель, если всерьёз поверил.
А кое-что из этой книги можно было и взять, и попробовать применить. Например, распределение ресурсов. Вот эта защита, исходящая от усмирителя-хищника – какова она будет, в исполнении приказчика имения Вюрцау? Не бросать крестьян умирать в голодный год, а раздать им зерно из хозяйских запасов, и на следующий год они не перемрут и не разбегутся, а будут на месте. И неплохо, конечно, освободить холопов от барщины, заменив ее оброком – но это уже не Аль-Мукаддима, это греки, и римляне. «Раб не работает и портит сложные орудия, ибо не заинтересован в плодах своего труда».
И всё же Бюрен был обычный человек, простак и жадина, и невероятная арабская книга читалась им – ну, как стихи. Разве только он понял, что за человек его друг, Анисим Маслов, ведь книга была словно списком с его души. Справедливая экономика, обустройство земледельцев… Бюрен, вороватый и жадный курляндский приказчик, завидовал другу своему, честному, умному и, наверное, смелому, но сам он так жить не хотел, не умел, да и не мог.
1758. Сен-Дени
Возле самого княжеского (герцогского) дома стояла русская церковка, окнами глядя во французские надменные окна ссыльного семейства. Русский пастырь, отец Епафродит, сидел на лавочке перед церковными вратами и длинной веткой обмахивал себя от комарья. По соседству пристроился и лютеранский пастор Фриц, с такой же длинной веткой. Эти представители разных конфессий не ругались, жили мирно – ну, почти что всегда. Фриц был сама доброта, само смирение – с ним так же невозможно было поссориться, как уколоться о шар. И Епафродитка был малый почти не вредный, он с любознательным вниманием наблюдал за созданиями иной породы и религии, волей случая доставшимися ему в соседи.
Когда немецкие ссыльные только приехали в Ярославль, отец Епафродит не на шутку вдохновился и бросился было сломя голову обращать лютеран в истинную веру. Но дело не задалось, господа глядели сквозь пастыря, не видя, или по-над, на что-то за его спиною, и отмахивались от божьего слова, словно от назойливых мух. А дворня у них была – нехристи, и пьяницы, и дебоширы, такого добра, неувещеваемого и бестолкового, хватало и в самом Ярославле, и в подворотнях, и на больших дорогах.
Пастор Фриц смиренно и печально разъяснил незадавшемуся проповеднику: господа в бога не больно-то веруют, кроме старой хозяйки, но та, прости господи, католичка. А католики – это такое добро, что лучше не связываться. Старый хозяин исповедуется, когда его припирает поныть и повспоминать былые приключения, раскаиваться он при этом не желает и грехов за собой не признаёт. А молодежь – они, по новой моде, агностики.
Епафродит спросил тогда, что за звери такие – агностики, и добрый Фриц всё с тем же смиренным терпением и рассказал, и книжку принес – Рене Картезиуса. И перевёл на русский особенно замечательные сентенции сего труда – отец Епафродит принялся сгоряча опровергать и доказывать примат веры над разумом, и Фриц в доброте своей подсказал собеседнику несколько отличных, веских аргументов. Так они и подружились…
Сейчас, на лавочке, два приятеля-попа под сенью зелёных опахал говорили об Иоанне д’Арк, и о святых, вдохновлявших в своё время на подвиги Орлеанскую деву, о Михаиле, Екатерине и Маргарите. Вернее, говорил больше Фриц, отец Епафродит его внимательно слушал. Епафродит всегда охотнее слушал, чем говорил, реплики его отличались простотой и краткостью, но, как у дознавателя на допросе, били без промаха в цель. И да, многое из услышанного пересказывал потом Епафродит, ёмко и экстрактно, воеводе Бобрищеву – такова была часть его службы.
Фриц же токовал, как тетерев. Он был еще и учитель, этот пастор, в собственной гимназии, и сейчас говорил – как читал лекцию, певуче, полузакрыв глаза, уносимый течением повествования:
– И тогда девица д’Арк направилась к капитану города Вокулёр – по-нашему, к воеводе, – Роберу де Бодрикуру, и рассказала ему о своей миссии, о спасении Франции, о том, что говорили с нею архангел Михаил и святые Екатерина и Маргарета. Капитан посмеялся над нею и отослал домой.
– Добряк, – вставил Епафродит, – наш бы Бобрищев в Коровники отправил или в бедлам в Заречье.
Коровники – то был каторжный острог.
– Иоанна была дворянка, – пояснил Фриц, – а с дворянами, сам знаешь…
– Уж знаю, – кивнул Епафродит на соседний княжеский дом, насупленный, хмуро-белый, и сейчас, в солнечный день, всё равно как будто в тени. – Знаю, как дворяне сидят. Кому самое место в Коровниках – а помещаются в доме, как принцы…
– Иоанна вернулась домой, но и весь последующий год и архангел Михаил, и святые Екатерина и Маргарета являлись ей и возвещали, что избрана она спасти Францию, и промедление губительно, и следует действовать, – продолжил монотонно Фриц, – и на следующий год Иоанна явилась опять, пред очи Робера де Бодрикура…
– Михаил есть у нас, у православных, и Екатерина есть, а Маргареты нет, – перебил вдруг Епафродитка, – немецкая, что ли, ваша святая?
– Маргарета есть ваша Марина, – подсказал Фриц, – помнишь, наверное – Марина Антиохийская и дракон? Дева перекрестила дракону лоб, и тот изволил сдохнуть.
– Нашему бы так, – Епафродит опять мечтательно кивнул в сторону дома, овевая себя ветвью. – Рискни, а, Фриц? Перекрести ему лоб, дракону немецкому – авось околеет.
– Господь велел любить и прощать, – напомнил, потупясь, пастор. – К слову, я прочел недавно, что житие непорочной девы Екатерины почти дословно повторяет житие несчастной Гипатии Александрийской. И, возможно, святая сия есть некое отражение знаменитой Гипатии, бледный отблеск жизни её, упавший нечаянно на церковные книги…
– Молчи, поэт! – веткой хлестнул собеседника Епафродит, по губам не попав, но по носу – да. – Ведаешь же про меня, что я доложить обязан. Не говори со мною о таких вещах, если сам в Коровники не хочешь. Как друга прошу…
Пастор будто очнулся. Выпрямился на лавке, поджал губы, вздохнул. Словно огонёк погас в нём – но сразу же вновь затеплился.
– Я позже расскажу тебе про Иоанну, – пообещал он, складывая в траву свое зелёное опахало.
– Не серчай, я ж как друга предупредил тебя, – взмолился Епафродит, – ты ж знал, каков я.
– Знал, – согласился пастор, – и я люблю тебя и таким. Но мне следует направить сейчас стопы к собственному, как ты назвал его, дракону. Иначе князь отбудет на охоту и снова не исповедуется.
– А он исповедуется? – удивился Епафродит. – Дорого бы я дал, чтоб хоть раз послушать – но он не ходит ко мне, нехристь, немец.
– Он, скорее, хвастается, – вздохнул Фриц, – но я и тем доволен. За откровением когда-нибудь последует и раскаяние.
Епафродит скептически усмехнулся, он-то знал, что нет. Так же исповедался ему и Бобрищев – хвастал интригами, но ни о чем не жалел.
Фриц поднялся со скамьи, отряхнул зад и лёгкой походкой направился к белеющему княжескому дому.
Да, дом этот был всегда как будто насуплен, всегда как будто в тени – даже в самую солнечную погоду. Как будто настроение обитателей дымкой окутывало и само жилище…
На крыльце сидел с ружьём Сумасвод – в дом ему ходу не было, заходить туда смел только главный цербер, поручик Булгаков. Сумасвод раскуривал вонючую глиняную трубочку и вид имел нетипично добродушный.
– Дома ли хозяин? – спросил его Фриц.
– Заходи да гляди. Должон быть дома – коли не сбежал, – отозвался Сумасвод.
Пастор ему нравился – оттого, что говорил по-русски хорошо и внятно, а не как некоторые, только – «золдат» да «золдат»…
Князь разговаривал с кем-то, далеко высунувшись, почти свесившись из окна – Фриц увидел, войдя, только зад его, в бархатных кафтанных фалдах. Ветер играл и фалдами, и шторой и вздувал на стене гобелен – северные охотники как будто меняли позы, шевелились, как живые. Пастор кашлянул, и князь тут же выпрямился и со звоном захлопнул окно.
– Кошки… – посетовал он, поворачиваясь. – Весна прошла, а у них всё любовь. Пришлось бросить в них… – Князь пошевелил в воздухе пальцами, припоминая, чем он там бросил. – Калямом, но, конечно же, я в них не попал, я же не Амур…
Пастор не сразу сообразил, что такое калям, потом понял – перо всего лишь.
– Ваша светлость пообещали сегодня исповедаться, прежде чем отбудете «в поле с собаки», – напомнил он скромно, – сын мой.
– Да, садись, – князь указал Фрицу на козетку, а сам уселся на стул, по привычке, верхом. – Вот, кстати, отец мой – как всё-таки твое имя? А то я тебе всё – Фриц, Фриц, уже двадцать лет, а имени-то не знаю. Могу помереть, да так и не узнать.
– Мое имя Дэнис, ваша светлость. – Пастор чуть склонил голову. – И я уже представлялся вам этим именем, в тридцать девятом году, во втором Летнем дворце.
– Значит, запамятовал, старый осёл, – вздохнул князь. – Знаешь такую песенку – про осла?
Князь не пропел свою песенку, проговорил речитативом, как стихи.
– Один мой приятель так забавно ее напевал, – произнёс он печально, – у меня-то ни голоса, ни слуха. А он… у него был голос – хоть для оперы, только ведь графы не поют в опере, даже если вконец разорятся.
Догадливый Фриц тут же продолжил:
– Я слыхал от господина Ливена, что вы, сын мой, только что потеряли давнего друга…
– Вам с Ливеном добрый совет – почаще мойте уши, – перебил князь, – и тогда научитесь слышать, что покойник Лёвенвольд ни дня не был мне другом. Хоть и жаль его, старую перечницу… Послушай, отец мой, ты же знаешь, что у тебя за тезка был, Сен-Дени?
– Дионисий Парижский, – тут же со скромным удовольствием ответствовал образованный Фриц, – сей святой поплатился головой за то, что не стал разглашать тайну исповеди. Изображается с собственной головою в руках…
– А ты, ярославский Сен-Дени, тоже окажешься с головою в руках, но только если примешься болтать, – мрачно предсказал князь, внимательно глядя в небесные, выцветшие глазки пастора своими аспидными глазами. Глазищи у князя были пронзительные, драконьи, с чёрными, будто разлитыми на всю радужку зрачками. От взгляда старого дьявола у караульных гвардейцев из рук порой упадали ружья. – Кто растрепал своей черномазой жёнушке весь мой галантный мартиролог? У меня теперь в этом городе репутация, как у лорда Вильерса. Это мне льстит, и бабы делают авансы, и я должен сказать тебе спасибо – за славу галанта двух императриц, – но как исповедник ты, отец мой, говно.
Пастор потупился и зарделся.
– Клянусь, я был нем, как могила. Должно быть, супруга услышала, как я шептал во сне…
– Много же ты шепчешь во сне, – усмехнулся князь, – будешь продолжать в том же духе – и я пойду на исповедь к Епафродитке.
– И напрасно, – ревниво отвечал Фриц, – у ортодоксов отменена тайна исповеди, ещё царь Пётр её отменил в двадцать втором году. Епафродит тем же днём передаст слова вашей светлости воеводе Бобрищеву.
– Так и ты не особо блюдёшь тайны, – проворчал князь, – с такими исповедниками остаётся разве что лопнуть от невысказанных грехопадений.
Пастор слушал, чуть склонив голову к плечу – он уже понял, что исповедь всё-таки будет. Нет, не исповедь – ведь князь не каялся, он просто рассказывал. То, чем хотелось ему поделиться, то, что жгло его изнутри.
– Прошу, Фриц, не болтай об этом, – попросил князь с нежданной человеческой интонацией, – мне нужно хоть кому-то сказать, но неохота, чтобы потом твоя Софья с бабами обо мне судачила…
– Я не стану, – тихо пообещал пастор.
Князь смотрел на него, положив подбородок на сплетённые на спинке стула пальцы, лицо его, хищное и всё еще красивое, приобрело отсутствующее, сновидческое выражение.
– Было два года назад… Приехал мальчишка, с письмом, и на письме – его прежний графский герб, я сперва глазам не поверил. «Tibi et igni» латинское на конверте, «прочти и сожги». А в самом письме… такие жалобы, такие слёзы… Он даже просил у меня прощения – бог мой, за что? За то, что после ареста за компанию с другими тащил из моих покоев, как у мёртвого? Так тогда все тащили, и больше всех – Лисавет, такова традиция, цесаревна, говорят, даже попёрла из моей спальни кровать, видать, на память. И после крепости, плахи, Сибири – припоминать былые обиды? Да к чёрту! Я всех простил, а уж его-то, дурака… Он в жизни вот так, такими словами со мной не говорил, он никогда не ныл и не жаловался. А тут – целый лист нытья. Пойми, Фриц, этот человек никогда, ни за что не жаловался, помнится, в тридцать четвёртом, в польскую кампанию, была ночь – послы, фейерверки, теноры пели, так он всю ночь простоял, церемониймейстер, с дурацким своим жезлом, и объявлял – номера, танцы, послов… А под утро я застал его, в его комнатке, завёрнутого в шубу и мокрого, как мышь – оказалось, этот болван ещё утром принял противоядие, и всю ночь проторчал посреди залы, цепляясь только за собственные упрямство и вредность. Противоядие, Фриц, – это когда тебя отравили, а тебе ещё не хочется к праотцам… Противоядия порою оказываются тяжелее ядов…
– Я знаю…
– Он никогда не ныл и не плакал, я слышал, что он и на эшафоте – улыбался, и хотел бы я это видеть. А тут целый лист нытья, и ещё забрызганный чем-то, не дай бог, слезами. Я, конечно, ответил ему – написал, что плакать не о чем, раз наши головы ещё на плечах.
Князь замолчал, в чёрных глазах его словно сменялись чередою картины, и пастору казалось, что он тоже эти картины – видит. Ветер приоткрыл оконную створку и волной гнал по стене гобелен, оживляя на нём охотников и охотниц.
– Один парнишка был мне должен, и в счёт долга он передал мой ответ этому старому плаксе…
– Ваш псарь? – догадался пастор. – Вы, помнится, как раз выкупили его из острога. Он был принц воров…
– Ты смышлён, – сердито похвалил князь, – и догадлив. Учти, если примется твоя Сонька об этом болтать, ты тоже понесёшь голову в руках, три мили, и до самого волжского обрыва.
– Не станет.
– Смотри. Впрочем, ему-то хуже не будет, тому моему адресату. Да и мне – что терять?
– Надеюсь, вы разорвали те письма…
– Более того – я их сжёг. «Tibi et igni», как он и велел. Но помню, конечно же, каждую строчку – такая уж у меня память. Имена забываю, а всю чушь держу в голове и сохраню, наверное, до могилы. Это его нытье… «Нам никогда уже не увидеться, и это прекрасно, ведь ты не узнаешь, во что я здесь превратился». А я всё бы отдал, только бы увидеть его с бородой и в этом его малахае. – Князь вздохнул и продолжил, явно цитируя: – «Ты отвечаешь мне, ты пишешь мне – так странно… Я гляжу на твоё письмо, и веря, и не веря, так смотрит семинарист на первый свой табель с первой оценкой «отлично»… Прежде я бесконечно, до неба, до смерти хотел умереть или считал, что уже умер. Теперь не хочу». Ему никогда не давались сложные обороты…
Пастор нахмурился – внезапная догадка забрезжила, озаряя ленивую память: эта мечтательная интонация, и спящий наяву взор, и пальцы, переплетённые на спинке стула, – всё это было, но очень давно, в той ещё жизни, где дворцы, и балы, и вся жизнь…
– «Пудрэ д’орэ», золотая пудра, – пастор, осенённый догадкой, пропустил, прослушал, о чем еще говорил князь, и очнулся уже на его словах – о золотой пудре, – я злился, когда эта его пыльца летела на меня, её невозможно было стряхнуть – с кружев, с губ, с пальцев. А сейчас – всё бы отдал… Я отвечал ему тогда – помню дословно: «Неуместно тебе сейчас каяться в прошлых грехах и обвинять себя, мы оба знали всегда, что один из нас откажется от другого прежде, чем трижды прокричит петух.
Всё закончилось так, как закончилось, и в любом случае наш удел завидней, чем судьба прежнего твоего сердечного приятеля де Ла Кроа. Мы живы, и нашлись люди, столь преданные нам, что разделили нашу участь и добровольно последовали за нами – значит, мы еще не худшие злодеи в этом мире, хотя моим именем и пугают в наших краях непослушных детей. Твой подарок уцелел и разделил мою судьбу, он и сейчас со мной, и бывают минуты, когда твой покорный слуга хватается за эти отравленные чётки, как утопающий за соломинку.
Ты говоришь со мной о прощении – и напрасно. Тебе не нужно моё прощение, ведь если б возможно было отыграть прошлое, как партию в карты, я попросил бы у русского чёрного бога одну лишь золотую пыльцу с крыльев моего ядовитого мотылька, золотую пудру, столь недолго пачкавшую мои пальцы».
И пастор – вспомнил.
– Ваша светлость, – перебил он внятно и твёрдо, – вы не исповедуетесь сейчас, вы – грешите. Заново – грешите. Этот урок мы уже проходили, но вы отчего-то не изволили его выучить. Одержимость – это дурно и грех, а одержимость подобная, подобным… предметом – грех вдвойне. Вы клялись мне когда-то, что прекратите. Много дорог ведет в преисподнюю, но эта – самая верная и прямая. Остановитесь… Он умер – и вам пора одуматься и забыть.
– Дурак, – рассмеялся князь, – это же постмортем, поминальная речь. Захотелось поговорить о нём хоть с кем, проститься, что ли. Успокойся – нет уже ни-че-го, было и прошло. Рьен, рьен… Иди, Фриц, отец мой – ты свободен, надеюсь, ты не станешь болтать и не загубишь мою здешнюю репутацию совершенного галанта. Помни – Сен-Дени…
– Вы не исповедуетесь, – укоризненно констатировал пастор, – вы хвастаетесь. И упиваетесь собственными рассказами.
Князь ему не ответил – только усмехнулся и пожал плечами.
Пастор выкатился из комнаты, и князь встал со стула, подошёл к высокому ажурному пюпитру, укрепил лист бумаги и принялся что-то на нём писать. Он хмурил брови, грыз перо и даже забрызгал себя чернилами – такое летело к нему вдохновение.
– Вы можете исследовать мое сердце и увидите, сколь искренни мои чувства, – нежный женский голос прочёл написанное из-за его плеча. Княгиня-герцогиня Бинна, привстав на цыпочки, с любопытством вчитывалась в письмо, и с самым лукавым лицом – кошачьи глаза её насмешливо жмурились. – Вам не кажется, что это плагиат, с одной немецкой баллады? «Вставь зеркало мне в сердце – чтобы увидеть, как сильна… или как чиста? моя любовь». Setze Du mir einen Spiegel Ins Herze hinein… – промурлыкала она с ехиднейшей нежностью.
– Возможно… – задумчиво согласился её муж. – Но Лизхен не знает немецких баллад. Для неё пойдёт и так – тем более, что я не питаю особой надежды. На месте Лизхен я бы оставил нас в Сибири, да еще и запихнул бы куда подальше. Она и так с нами хороша.
Эта Лизхен была – Лизхен, её величество, несбывшаяся его невеста…
– Хороша, – согласилась княгиня. Сейчас, когда они стояли друг напротив друга – она едва доставала мужу до плеча, такая была маленькая. И хрупкая – словно песочные часики, с тончайшей утянутой талией.
Князь взял со стола графин с водой и кончиками пальцев окропил своё письмо – оно сделалось как будто заплаканным.
– Я хороший ученик, принцесса? – спросил он с иронией.
– Лучший, – серьёзно отвечала Бинна.
– Простите, что провалил нашу миссию. – Князь склонился к её руке и с улыбкой прижался губами к тончайшим сухим пальчикам.
– Простите и вы бездарную либреттистку, сочинившую для вашей оперы столь жестокое либретто…
Они взглянули друг другу в глаза и одновременно рассмеялись – союзники и подельщики, в давнем заговоре, вдвоём против целого света. Два провалившихся интригана, соединённые общим провалом, совместным падением – крепче, нежели любовью и браком.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?