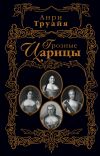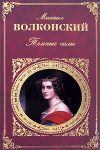Текст книги "Золото и сталь"

Автор книги: Елена Ермолович
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
1758. Перм
Хайнрих Ливен прислан был в Ярославль Елизаветой, для ловли разбойников. Плохо знала царица своих полицмейстеров… Ливен ловить никого не стал, обложил разбойников данью, сдружился с атаманшей и дождливые дни проводил в её борделе, ясные дни – в поле с собаками, а ночи, все без остатка – за карточным столом.
Сам немец, Ливен оберегал и лелеял соотечественника-ссыльного, тем более что прежде, в Петербурге, герцог-князь приходился Ливену премилостивым патроном, премилостивым – без обмана, на многие безобразия любезно закрывал глаза. А лучшего товарища для ярославских охот не стоило и желать – князь был меткий стрелок, превосходный наездник и знаток многозарядных ружей, только жаль, что болел последний год. Вот и сегодня – лежал, наверное, дома с компрессом, старое чучело, а бедняга Ливен – отдувайся один, за катраном, с приезжими господами. Обычно-то они играли в паре, ссыльный князь умел читать колоду сквозь рубашку (старый острожный навык), а у старины Ливена ещё с Петербурга прилипла кличка – «Пять тузов», чётким контуром обрисовавшая его таланты.
Сегодня холостяцкое гнёздышко Ливена, облагороженное Венерою без рук и чучелом камышового кота, посетили два новых для Ярославля господина, обер-офицер Инжеватов и писарь Гапон, проездом из Соликамска в Петербург. Навстречу Инжеватову стрелой прилетел в дом Ливена и юный поручик Булгаков, главный цербер старого князя.
Булгаков ещё с прошлого раза остался должен Ливену червонец – юноша меры в игре не знал и берегов не видел. И сейчас Ливен смотрел на троих перед собою, за исчерченным мелом катраном – как свинарь на своих питомцев перед Рождеством. Ливеновская прислуга, кокетливая старуха в немецком платье с низким вырезом и с грудью столь морщинистой, что издали та казалась волосатой, сновала вокруг стола с подносом, заставленным чашами дымящегося пунша.
– Жаль, подопечный мой сегодня болен, лежит дома с грелкой. – Юный Булгаков принял с подноса огненную чашу и продолжил речь – он хвастался своим ссыльным, словно аристократ фамильным сокровищем: – Антик, гипербореец – нужно это видеть! Презирает – всех. Унижает – всех, не глядя на чин, язык раздвоен, словно у змея, и сочится ядом. Воеводу нашего от его светлости аж колотьём колотит. Когда старый гриб выезжает с моционом – улицы пустеют, будто едут чумные дроги. Право, жаль, что он болен, обычно он через ночь играет здесь с нами.
– И каждый раз в плюсах, – в сторону, как актер в пьесе, тихонько прибавил Ливен.
– Если ваш подопечный – тот самый бывший Бирон, что был регентом, то он ничуть не переменился со времен своего краткого царствования, – проговорил Инжеватов. – Позволите ли обменять карты, у меня мусор? Я слыхал, и в Петербурге все дрожали, пока он был у власти, и страшный был грубиян и крикун.
– Я и не знал, что он здесь в ссылке, – удивился писарь Гапон. – Ярославлю не позавидуешь. Каков был тиран…
– С чего вы взяли, что герцог был тиран? – спокойно и язвительно поинтересовался Ливен, во время предполагаемой тирании неплохо знавший герцога лично. – Единственный на моей памяти, кто гадости делал без удовольствия.
– А как же история бедняги Волынского? – тотчас же взвился писарь. – Разве не герцог погубил бестрепетно сего вельможу?
– Если вы желаете убить меня, не обессудьте, что я убью вас, – с философской интонацией процитировал Ливен иезуитскую присказку.
Гапон надулся, но вступил Инжеватов:
– Каким бы ни было их соперничество, именно герцог потребовал казни министра. Он инициировал процесс, он стоял на коленях перед государыней и говорил: «Или он – или я». И потом он ввёл в процесс своего ангажированного судью…
– Остерман, – быстро вставил Ливен.
– Что – Остерман?
– Остерман ввёл в процесс своего судью, не герцог. Много вы знаете…
– Может, и так, но именно герцог довел процесс до эшафота. Он мог прекратить его в любой миг, но не стал. Он желал, чтобы все увидели – отныне он может не только брать всё, что пожелает, но ещё и убивать. Я слышал даже, что сей тиран потребовал после казни подать ему голову Волынского на блюде…
– Еще скажи – съел. – Князь, непривычно весёлый, стоял на пороге комнаты и отряхивал от дождя пушистую шляпу. В прихожей усаживался и брякал прикладом Сумасвод. – А во всём прочем, кроме блюда – да, вы правы, друг мой. Ливен, велите подать моему стражу горячий напиток – он вымок под дождем, как бы не поймал инфлюэнцы…
Ливен кивнул прислуге – мол, неси – и представил князю своих гостей. Хотел представить гостям и его, но ссыльный Ливена опередил:
– Боюсь, я не нуждаюсь в рекомендациях. В Ярославле всего две достопримечательности, первая – лужа, в которой по праздникам тонут подвыпившие обыватели. И вторая – ваш покорный слуга. – И он отвесил весьма грациозный полупоклон, словно в память о собственном придворном прошлом.
Инжеватов и Гапон глядели на вторую ярославскую знаменитость с осторожным любопытством, а юный цербер Булгаков, как ни странно – с надеждой.
– А вы, Булгаков, как всегда, уже в хороших плюсах? – Князь поймал загадочный взор поручика и приблизился к катрану, вложив шляпу под мышку – но приблизился ровно так, чтобы не глядеть никому в карты.
– Ах, кабы так… – томно вздохнул Булгаков.
Он уже скользил по тонкому льду незадавшейся партии, навстречу неизбежной финансовой полынье. Но князь, любивший карты до страсти, до болезни, ведь карты были для него шансом хоть как-то, хоть что-то в жизни выиграть, – князь мог бы стать для Булгакова спасительной соломинкой. Главное было – правильно ему отвечать.
– Фортуна вас не любит, Булгаков, – брюзгливо резюмировал князь, – всё оттого, что любят женщины. Эти две вещи не рифмуются.
Ливен усмехнулся, про себя, почти не поднимая углы губ – сей спектакль он наблюдал у цербера со ссыльным едва не каждую неделю. Булгаков проигрывал, принимался показательно ныть, и князь, опоздавший к началу партии – не нарочно ли? – садился за стол за него, и через четыре-пять кругов минус чудесным образом превращался в плюс.
Князя в городе считали шулером, но Ливен, знавший о шулерской науке всё, от альфы до омеги, знал, в чём тут фокус. Когда-то в молодости, сидя в тюрьме, князь выучился читать стос, понимать, как стос заточен, как ложатся карты в колоде, в каком порядке – а на третьем-четвертом круге это делалось уже видно. А дальше – отличная память, математический склад ума – и вуаля! – вы в плюсах. Князь как-то пытался объяснить свой метод и самому Ливену, но полицмейстер с юности выучен был другим трюкам и не стал забивать себе голову.
– Булгаков, позвольте, пусть его светлость наконец-то сядет вместо вас, – предложил Ливен, не в силах вынести их ритуальных расшаркиваний, ему давно и нестерпимо наскучивших, – и давайте продолжим.
Булгаков встал из-за стола и переместился на козетку. Князь сел на его место и взял его карты. Поручик закинул ногу на ногу, с прищуром оглядел Инжеватова, как самому ему казалось, незаметно. Шевельнул бровями – как же смешно пошиты гетры и какой презабавный стеклянный парик…
– Хороша ли погода нынче в Соликамске? – спросил поручик у гостя тоном светского льва.
– Жарынь, – кратко отвечал Инжеватов, он увлеченно понтировал.
Тему развил общительный писарь Гапон:
– Это у вас хорошо, дождичек, свежесть, ароматы. А у нас, верно его благородие говорит – третий месяц жарынь, полынь, песок в глаза – хоть ложись и помирай. Вот ссыльный Лёвенвольд и не выдержал, и помер. – Гапон скосил глаза на князя – тоже ссыльный, тоже дед, вдруг обидится – но князь увлечён был игрой и, кажется, вовсе не слушал.
– Я знал Лёвенвольда, – задумчиво проговорил Ливен, и тоже мгновенно глянул на князя. – А отчего он помер?
– Жарко, – пояснил добродушно Гапон, – старухи от жары мёрли, козы дохли, и вот он… С запрошлого года сердчишком всё страдал – вот и отмучился…
– Жаль, – кажется, искренне пожалел Ливен, – он обладал достоинством и юмором, а это редкость, особенно когда они в паре. Я помню, как Лёвенвольд рассмеялся на эшафоте, и ведь рассмеялся – до оглашения помилования, а не после. Право, жаль бедолагу, надеюсь, брат его догадался забрать тело…
– Жарко, – покачал головой Гапон, – какой брат, когда жара такая. Мы с Григорьичем, – кивнул он на понтирующего Инжеватова, – в Усолье застряли, как приехали – уж неделя прошла. Там и лица-то уж не было, всё сильфиды объели, а запах… Святых выноси. Акт мы составили, да и закопали к бесам, на кладбище лютеранском. Жарко… А у вас в Ярославле – хорошо, дождина.
– Лёвенвольд – католик, – бросил князь, внимательно глядя в карты, – или агностик, я не помню. Но – не лютеранин.
– А что такое сильфиды? – полюбопытствовал Булгаков.
– Феи в балете, – вспомнил Ливен.
– Мухи трупные, – поправил Гапон, – на жаре – так аж кишели.
Он отсыпал бы и больше омерзительных подробностей – и о червях, и о мухах, но тут подошёл к финалу четвёртый круг, и случилось именно то, чего ждал, о чём знал полицмейстер Ливен – булгаковские былые минусы чудесно превратились у князя в плюсы.
– О, маэстро… – одними губами шепнул Ливен, почти про себя.
Ночь подползала уже к рассвету, когда на дворе брякнуло, звякнуло, загрохотало – и замок на воротах, и упряжь, и шпоры. Конь всхрапнул под самым окном – и все игроки вздрогнули, даже флегматик Ливен. Кто-то пробежал через прихожую, зацепившись за дремлющего Сумасвода, и явился, мокрый от дождя, в свете утренних коптящих свечек. То был гвардеец, не караульный, а с заставы, он почтительно приветствовал старших по званию офицеров и потом отчитался, не понять, то ли Булгакову, то ли даже Ливену – как самому старшему:
– Ваше благородие, малый из бывших Биронов ночью дёру дал. Тот малый, что старший. На заставе споймали, и со всем почтением – к матушке, на прежнее место… Он коня загнал, упал у самой заставы. Прикажете акт составлять? – последний вопрос адресовался уж точно Булгакову.
– Не трудись, – томно зевнул Булгаков, прикрывая ладонью розовый ротик, – как там тебя, Гуняев? Куняев?
– Боровиковский, – мрачно отозвался гвардеец.
– Не пиши ничего, Боровиковский. Оба по шапке получим, за попустительство, ежели всплывёт. – Булгаков сделал бровями красноречивый знак ссыльному князю, и тот прибавил, словно нехотя отведя глаза от карт:
– Дождись меня, Боровиковский, в прихожей. Нашей партии скоро конец. – Князь говорил по-русски с трескучим немецким выговором. – Ты будешь утешен – и за украденный ночной сон, и за невольные услуги конвоира. Дождись, нам осталось уже недолго.
Инжеватов с Гапоном переглянулись, но смолчали – им не было дела до здешних порядков. Ливен иронически следил, как Боровиковский, щёлкнув каблуками, удалился в прихожую, в компанию Сумасвода – ждать. Старший из принцев пытался бегать и прежде, уже дважды, и ловля сего трофея сулила денежные выгоды – старый князь щедро платил ловцам за сыновнюю глупость.
– Этот круг для меня последний, – выговорил князь, опять по-немецки, и с явным сожалением. – Я должен вернуться в своё, как русские говорят, «узилище», – сказано было по-русски. – И всыпать наследничку, тоже как у вас говорят, «леща». – И «лещ» опять был русский.
Ливен усмехнулся тонко, почти невидимо. Он скучал и томился, вечный зритель бездарной постановки. Эти ссыльные Бироны играли одни и те же спектакли, повторяя их раз за разом – так повторяются слова в оперной арии: уже, казалось, всё пропели, но нет, всё опять сначала, с первых слов, «да капо», «с головы»…
Герцогиня не спала, что-то писала, в постели, на почтовом листе, положенном на столик для утреннего кофе. Фарфоровые пупсы с тупыми лицами таращились на хозяйку со стен, в утреннем дрожащем полусвете, и ароматницы пахли – сладкой горечью, горькой сладостью… Принц Петер, незадачливый беглец, в дорожном и пыльном, лежал на постели у матери в ногах и трагически заламывал пальцы.
– Кого ты убил сегодня? – спросил князь с порога, и Петер проблеял недоуменно:
– Никого…
– Цербер сказал, что ты опять загнал коня.
– Ах, то был бедняга Ниро… Простите, папи. – У Петера дёрнулась щека.
– Петер, если ты и уедешь отсюда – только вместе со всеми, – медленно и отчётливо проговорил князь. – В ту игру, что ты затеял, не играют в одиночку. А я – не составлю тебе партии. Мне не нужен в семье изгнанник, блуждающий по Европе, как пилигрим, без денег, с поддельным абшидом, теряющий себя, падающий все ниже и ниже. Довольно мне и одной такой блуждающей звезды.
– Лизхен при дворе! – почти выкрикнул Петер.
– Тебя этот двор не примет, – отрезал князь. – Бездарный наездник. Убийца…
Петер вскочил с постели – от злости почти вознесся над нею – и выбежал вон.
– Вы жестоки, – тихо и вкрадчиво напомнила Бинна. – Помнится, ваш ненаглядный Лёвенвольд загнал трех лошадей, когда спешил с мызы Раппин в Митаву. И как же вы при встрече целовали этого убийцу…
– Зато его тогда не поймали, – усмехнулся князь, – его вояж того стоил. Три жизни – малая цена за ночь благовещения. А наш дурак опозорен и пойман. Окажись его эскапада успешной – я бы тоже его целовал, потом, в Силезии… К слову, принцесса, о Лёвенвольде – он ведь помер. У Ливена сейчас сидят в гостях двое, проездом из Соликамска, один рассказал, как хоронили беднягу графа. Вам будет радостно слышать, принцесса, – яма в глине, на лютеранском кладбище, жара, вонь, покойник, объеденный сильфидами…
– Сильфида, объеденная сильфидами. – Бинна судорожно вдохнула парфюм своих ароматниц, словно пытаясь перебить ею вонь. – Так ему и надо, Яган.
– Пожалуй. – Князь сел у жены в ногах, на место сбежавшего Петера. – Знаете, что я думаю – пора мне написать Лизхен.
– Которой Лизхен? – ехидно улыбнулась Бинна.
Была Лизхен – дочь, бежавшая из ссылки от жестокого отца, дочь, ныне принятая при дворе, прощённая, замужем за графом, в чинах и в славе. И была Лизхен – Лизхен. Та, на которой князь когда-то очень хотел жениться, да так и не женился. Оттого, что так и не развелся. И та, вторая Лизхен – навсегда осталась в девках. Её императорское величество, ныне правящая царица Елизавета.
– Нашей Лизхен, – дополнил князь, рассмеялся, – да-да, понимаю, они обе – наши… Я хочу написать – дочери. Вы же уже начали, верно? Так дайте взглянуть – я, быть может, пару слов допишу и от себя.
Бинна передала ему поднос вместе с бумагой, пером и чернилами. Князь взял письмо, пробежал глазами, близоруко щурясь – свечи горели еле-еле. Жалкий бабий лепет… Слабо, невыразительно. Нет, принцесса, это делается не так.
«Надеюсь, почтительная дочь сразу признает руку любимого папи. И надеюсь, что почтительная дочь не питает иллюзий – по поводу собственного чудесного спасения из огненной геенны. Я знаю, что скромное представление, когда-то разыгранное нами – вами и мною, нашим с вами дуэтом, – сорвало овации. Не пора ли вам пригласить на сцену и режиссёра сего спектакля? Я ведь не благотворитель, о моя почтительная дочь. Нет, девочка, так люди, запертые в зиндане, подсаживают на плечах своих кого-то одного, чтобы он выбрался из ямы и потом уже – помог выбраться и им. Ваша семья всё еще в яме, моя милая Лизхен. Не бегите же прочь от дыры в земле, в которой – все мы, ваше злосчастное семейство. Протяните же руку, и помогите спастись – и нам…»
И машинально подписался. Прежде его подпись была – сама гордыня, позже – привычка, сейчас – уже просто забавная фронда. «Иоганн фон Бирон, герцог Курляндии».
На верхней ступени лестницы лежало одинокое яблоко. У Сумасвода были заняты руки, удочками, ружьем, лучистым дорожным фонариком – он не исхитрился поднять, а князь наклонился, поднял, спрятал в карман – и неразлучная пара начала свой спуск, по ступеням, к самой воде. Эти двое почти не разговаривали – им не о чем было говорить. Сумасвод расставил удочки, натянул тонкую, как струны (из таких же козьих кишок), рыболовную леску, наладил поплавки и грузила. Князь добродушно следил за ним со ступеней. В такие рыболовные вечера напряжённая, натянутая вражда между тюремщиком и ссыльным ослабевала, провисала в воздухе прежде туго натянутая нить, опадал поводок, воцарялся мир, ведь оба они любили – одно.
Птица прокричала в камышах, скрипуче и жалобно. Над фонариком золотой пылью завилась мошкара. Князь спустился, забросил удочки и стал, прищурившись, – ждать. Он достал яблоко из кармана, но есть не стал, играл им в пальцах, словно жонглёр.
На ступенях послышались шаги, лёгкие, как шёпот. Сумасвод встрепенулся было, но поглядел наверх и успокоился. А князь и ухом не повел. Тёмная тень, долговязая и сутулая, спустилась почти к рыболовам – фонарь осветил орлиный нос и оптимистически закрученные усы.
– А я к вам, ваша светлость. Позволите?
Князь полуобернулся, ещё играя яблоком:
– Конечно, Ливен. Располагайтесь.
Ливен уселся ступенью выше рыболовов, оценил поплавки:
– Рыба спит. Нужно булочку крошить – чтоб принялась клевать.
Под усами своими он улыбался всё той же джиокондовской незаметной улыбкой, почти не поднимая углы губ. Князь поглядел на него прищурясь – как глядел недавно на поплавки:
– Вот сколько вам лет, Ливен?
– Пятьдесят шесть, – вспомнил Ливен не без усилия.
– И что вы здесь сидите? Чего высиживаете? В городе, где из замечательного – я, провалившийся диктатор и ещё огромная лужа? Вы же умница, Ливен, вы деятель, вы интриган…
– А что делать? Здесь деньги, власть какая-никакая, движение воздуха. А у меня в Лифляндии – сестра горбатая, старая дева, да свечной заводишко. Соседи-сволочи… В столице – парад уродов, с тех пор как шутов отменили и все дворяне в Петербурге сделались – шуты… Я когда уезжал – у царицы фрейлины в клетках сидели, а одна – и на цепи…
Сумасвод на своем месте значительно кашлянул. Ливен поморщился, а князь спросил:
– А вы уезжали – кто был обер-гофмаршал?
– Шепелев, злой пупенмейстер. Сейчас, бог дал, он уж помер – очень уж был дряхлый. Своих гофмаршалов по мордасам лупил, старый мерзавец.
Все трое замолчали – в тёмной осоке плеснула рыба, и потом ещё раз. От фонаря на воду лёг отсвет – словно лунная дорожка.
– Жалко Лёвенвольда, – проговорил вполголоса Ливен, – он ведь другом был у вашей светлости?
– Ни дня, – почему-то грустно ответил князь, – не был другом.
– А я помню, как меня впервые призвали в Летний, и я смотрел, на вас с Лёвенвольдом, как вы с ним в антикаморе разговариваете. Вы с ним так забавно шептались, и мне, тогда ещё ничтожному прапорщику, казались архангелами, высшими существами. Вы и он – были два красивейших кавалера при дворе, просто греческие боги – я любовался вами двоими, издали, словно шедевром Ватто…
Князь ехидно рассмеялся:
– Вы хоть знаете, Ливен, что значат на придворном жаргоне – эти ваши «греческие боги»?
– Нет, – джиокондовская улыбка превратилась в кривую усмешку.
– Содомиты, Ливен. Не говорите так больше, хотя бы о знакомых. Интересно, о чём я мог тогда шептаться с Лёвенвольдом? Он ведь глуп, как пробка – ни в ружьях не смыслил, ни в выездке и в карты играл как гувернантка – бросался понтировать, очертя голову…
– Зато был красив и не был сволочью. Жаль его, – повторил Ливен.
Князь всё играл яблоком, Ливен поднял голову, вгляделся в нависшую над лестницей черную крону.
– А ведь на этой яблоне уж лет десять как нет яблок. Выходит, вашей светлости досталось единственное? На нём, кажется, даже что-то написано – неужели «Прекраснейшей»?
На яблоке вырезано было слово, давно, и кожица успела подсохнуть вокруг разрезов. Слово то было – «Перм». Князь, дрогнув углом рта, тотчас бросил яблоко в осоку.
– Вам примерещилось.
– Наверное, – не стал спорить Ливен.
– Скажите, Ливен, а вы с Лёвенвольдом – разве не родственники? Я слышал от кого-то, что Ливен – это краткая форма от Лёвенвольде, и вы в двоюродном, кажется, родстве?
– Увы, но нет, – отвечал Ливен, – наш род тоже не из последних, но, к сожалению, не столь древний. И нет, мы не родственники. Ко мне с юности пристают с этим вопросом… Когда я был никем, а Лёвенвольд блистал, все спрашивали – не родня ли вы ему, такой ничтожный – и такому прекрасному, а я отвечал, уязвленный, словами из старой тюремной песенки: «Не говорите мне о нём…»
1725. Дома-дома
Не говорите мне о нём, еще былое не забыто.
Он виноват один во всём, что сердце бедное разбито.
Он виноват, что я грустна…
Тюремный смотрящий по прозвищу Август старательно дирижировал хором из трёх своих шнырей, но всё равно пение выходило так себе. Август отдыхал и развлекался – вечера в тюрьме до́лги, а летом и особенно тягостны – когда слышны за окном сладкоголосые звуки недосягаемой вольной жизни.
Едва закончила она – ужасный крик в груди раздался
И приговор их на суде – так недочитанным остался…
На трагической ноте песня оборвалась, и Бюрен выдохнул с облегчением. Пение мешало ему, он ошибался, ставил кляксы – а на очереди у него оставалось ещё два прошения.
– Как подписать за тебя? – спросил он Августа, ведь прозвище у того вовсе не было именем, а настоящего имени никто и не знал. Август был персоной без лица, с чертами как бы стёртыми, весь – уходящий меж пальцев песок, готовый принять внешнюю форму любого сосуда. Бесцветный хамелеон.
– Так и пиши – Август, – отозвался смотрящий, – там поймут, от кого. У меня и в деле Август этот, и даже – вот. – Он сдвинул ворот и предъявил над ключицей пороховую корону и под нею кособокую «А».
– Август – изначально не имя, а должность, у римлян августом назывался жрец, наблюдающий за птицами, авгуро ауспициум, – глубокомысленно проговорил Бюрен и подул на прошение, чтобы то скорее сохло. Он был в расстёгнутой рубашке – жарко, и длинные его волосы собраны были на макушке в высокую гулю, от вшей, хоть это и мало чему помогало.
– Август, за птицами смотрящий…Чудно… Учён ты, Юнгермайстер, а без толку, – отвечал с добродушной издёвкой Август, благоволивший к тюремному писарю, – влип с разбегу, со всей дури, хоть и кот учёный.
Юнгермайстер, «молодой барин» – было этим сроком прозвище Бюрена, и за дело. Обитатели Восточно-Прусской тюрьмы отозвались насмешливой кличкой на его недавнюю историю – историю взлёта, искромётной глупости, и затем – падения.
Началось с того, что он всё-таки привёз к хозяйке ребёнка. А на другой день Бинна решила, что ей с сыном уж незачем ехать обратно в Вюрцау, хорошо и так. Герцогиня Анна ходила по дому с мальчишкой на руках, заказала для него у мастера игрушки, и даже длинную погремушку в люльку, из медных весёлых бубенцов. Бюрены переехали в комнату, соседнюю с хозяйской – не в гостинице же ютиться, да с малым дитём.
Официальный амант герцогини, старик Бестужев, русский наместник, крякнул, но стерпел. Корф повел изящным носом, пожал плечами и отбыл в длительную поездку – проводить аудит имений. Тогда ни тот, ни другой не приняли Бюрена всерьёз, с его младенчески-колыбельной эскападой.
Днём три женщины, хозяйка-герцогиня, Бинна и кормилица, возились с младенцем, катали свою игрушку в саночках по аллеям, подбирали умилительные прозвища и пели в три голоса сентиментальные песенки, немецкие и русские. А ночью… «Это единственное, чего не могу я сделать за вас, днем я с нею, а ночью – уж извольте вы…» А кто же ещё? Бинна по-прежнему раз в неделю провожала его до двери хозяйской спальни. Быть может, боялась – что он сбежит с полдороги? Это была его работа, его унылая повинность.
До тех пор, пока – не пришло то письмо.
Анисим Семёныч писал Бюрену каждый месяц, о делах в столице, о событиях, о чудесах и о катастрофах. Зимою двадцать четвёртого выпали одновременно и чудо, и катастрофа в столичном пасьянсе. Месье Ле Гран, знаменитый Виллим Иванович Монц, или же Монэ де Ла Кроа, как звал он себя сам, в мгновение ока очутился в крепости, а чуть позже – и на эшафоте. Маслов не написал, с чьей ловкой подачи отправился на плаху прекрасный камергер, и Бюрен историю додумывал сам. Ле Гран – а рядом Миньон, два одинаковых золотых херувима. Тайный поединок под ковром, невидимая дуэль? Незаметнейшая подножка на небесной лестнице?
Собственные успехи после столичной истории показались Бюрену унизительными. Где-то там, выше звёзд, холодный игрок Рене щелчком пальцев сбрасывал с пьедестала своего соперника – и начальника. А в Курляндии неуклюжий дурак делил хозяйку аж с двумя другими амурами и пытался привлечь её внимание столь жалкими уловками – дитя, погремушки, люльки…
Тебя продали, как девчонку в бордель, а ты всё-таки – у всех у них выиграл, значит, и я смогу.
Он тогда, очередной продажной ночью, сыграл для герцогини Рене – как сам его себе вообразил. Такого, каким его запомнил…
Бинне не нужно стало провожать его к дверям спальни – каждую полночь он уходил туда сам, и бог знает, что представлял себе, когда отвечал хозяйке свой урок, отдавал честь, ну и так далее. Бог знает, кого – представлял… Выдумывал вещи, которые сделал бы Рене, хотя с ним Рене ничего подобного и не делал.
Прохладная просчитанная изощрённость, ложно чувственная любовная игра, галантная охота, стоящая жертве – рассудка. Так скрипач играет, позабыв ноты, наугад, наощупь, par coeur, и мелодия выходит даже лучше, чем та, что забыта. Кто же это писал – о владении собственным телом, будто оружием, и об отстранённой холодноватой нежности как о самой ядовитой отраве? Хозяйка, глотнув однажды такой отравы, уже не смогла оторваться – от сосуда греха. Поплыла в объятиях, сгорела, влюбилась, пропала…
Корф явился со своих аудитов и с ироническим недоумением узнал, что отставлен. А потом, по приезде из русских имений, услыхал об отставке и Бестужев. Этот бесновался, проклинал бесстыдного парвеню, некогда пришедшего наниматься на службу «даже без кафтана» – и так отплатившего благодетелю. Бюрен выложил перед посланником бухгалтерские книги, в которых чёрными цветами раскрывались все давние махинации и растраты. Бюрен не зря изучал Пачоли – он всё знал о бухгалтерском деле и видел все забавные финансовые ужимки вороватого русского легата.
Оттого, что хозяйка теперь его любит – а она его полюбила, и шептала ему непонятные русские нежности, и всё отныне позволяла, – Бюрен потерял берега. Забылся. Он на мгновение почувствовал себя вторым человеком в герцогстве – а это было ничуть не так.
Он разругался с Бестужевым, и он осмелился отвечать тем, на кого прежде не решался поднять глаза. Ордену. Юнгермайстер… У герцогини с Орденом были давние дрязги, и Бюрен, дурак-управляющий, на свою голову – поссорился и с Орденом. Он сцепился с рыцарями, с настоящими хозяевами, принялся спорить с ними – и тотчас всплыло то его стародавнее, почти забытое дело, с убийством стражника. Как быстро закрутились вдруг шестерни правосудия! Штраф в семьсот талеров, или три года в крепости.
Семисот талеров не было ни у Бюрена, ни у его герцогини – ни у кого. Визит приставов, быстрый арест… И глупый Юнгермайстер – обидное, но верное прозвище! – отныне прозябал в Восточно-Прусской тюрьме, единственный грамотный арестант, сочинял прошения, снизу вверх заглядывал в глаза карманнику Августу, сам уже никто, ничто, душегубец из чистеньких…
– Письмишко тебе, кот учёный. – Август бросил Бюрену конверт, изрядно потрёпанный цензором. – Что, писарь, теперь-то выкупят тебя?
Августу было скучно – здесь, в тюрьме, он достиг высот и, как бог с небес, любопытно глядел на Бюрена сверху вниз. Интересовался его занимательной историей. Бюрен писал друзьям, просил денег на выкуп, получал отказы – и Август сверху смотрел на это, читал его жизнь, как чувствительный роман. Он скучал на своей продутой ветрами вершине, а наивный и честный Юнгермайстер ему нравился – такой настоящий, такой благородный, такой лошок…
«Прости, брат, что выручить не могу. Сынишка родился – тут и приданое, и кормилица, сам кручусь, как белка, за квартиру за три месяца должен, как бы самим не оказаться всем табором на улице. Прости ещё раз, что подвёл, что оставляю тебя в таком положении».
Сам дурак – нашёл у кого просить, у такого же безденежного. Анисим Семёныч хоть и поднялся чуть-чуть по служебной лесенке, но всё-таки семисот талеров и на новом месте не заработал бы за год.
– Что, отказ? – Август прочёл его лицо, как книгу. Ну да, настоящую книгу-то он прочесть и не умел, был неграмотен.
Шныри готовили для Августа ужин, просители до ужина не лезли, боялись – и тюремный смотрящий игрался пока что в своего Юнгермайстера.
– Я и не ждал особенно, – пожал плечами Бюрен, поправил свечку и принялся за следующее прошение.
– А кто остался? – продолжил своё развлечение Август. – Или все благодетели закончились?
– Один остался, – нехотя сознался Бюрен, – но и там без шансов. Глупо было просить у человека, у которого все цацки в закладе и никогда нет наличных денег…
– Вроде тебя, что ли, барин? – усмехнулся Август.
– Нет, он получше. – Бюрен водил по листу пером, и Август заворожённо следил, какие получаются буквы – вытянутые, длинные, красивые. Бюрен писал на доске, положенной на колени – и Август подошёл, и присел рядом на корточки, и глядел – а на корточках он мог сидеть до невозможности долго.
– Скажи, Август, – произнес вдруг Бюрен, – вы же все, лихие люди, друг друга знаете?
– Более или менее, – загадочно улыбнулся смотрящий.
– Мне встречался монах-католик, в Вюрцау, и, кажется, он из ваших. Молодой, невысокого роста…
– Бритый, тонкий, и нос сломан? – тут же прибавил Август. – Небось, коней твоих хвалил и выспрашивал, что да почём?
Бюрен кивнул – да, у того монаха был неровный профиль.
– Лейба Липман, – резюмировал Август, – он вроде тебя, кот учёный – был барышник и книжки бухгалтерские вёл, да проворовался в Варшаве своей. Он жид варшавский. Баба у него в твоём Вюрцау, да, думаю, и не одна.
Шныри накрыли на стол – пирог, варёные яйца, даже куриная нога…
– Садись со мною, Юнгермайстер, – любезно пригласил Август, – потом цидулки допишешь.
Это была невиданная честь – другие шеи ломали, лишь бы Август вот так пригласил их за свой стол. Видать, смотрящего не на шутку забавляла благородная игрушка…
Бюрен отставил чернильницу, отложил перо. Невольно припомнилась ему внезапная симпатия Рене, тогда, в царицыной антикаморе – как бы и здесь не пришлось дорого платить за благосклонность…
– Бюрен, Эрнест, на выход! – заорал караульный от двери, в самую камеру он не шёл, боялся. А потом прибавил волшебное, многообещающее: – С вещами!
– Я хотел придержать тебя до завтра, но завтра тебе велено явиться с утра в магистрат.
Он сидел не за столом, на краешке стола, грациозно и небрежно. Начальник Восточно-Прусской тюрьмы, герр цу Пудлиц, красивый человек, педант, эстет, изощрённый истязатель. Цу Пудлиц всегда присутствовал лично на первых допросах, на тех, что сопровождались обязательной, предписанной регламентом пыткой. Тюрьма знаменита была высочайшей в Европе дыбой и учёным профосом Геррье-Дерод, автором ставшей классикой книги «Квалифицированная казнь».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!