Читать книгу "Горесть неизреченная (сборник)"
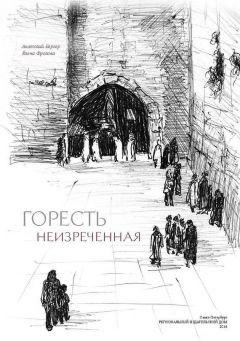
Автор книги: Елена Фролова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Как-то так получается, что мне нечего больше сказать о Ш. Он был такой узнаваемый, такой привычный, такой студенчески-еврейский, такой марксистско-ленинский, что, мне кажется, и сейчас, встреть его, израильтянина со стажем, вряд ли я смог бы что-либо добавить.
На этом и кончается описание моего тюремного житья-бытья, моего тюремного года, моих спутников в этом тяжком странствии.

Свидетель
Это было в середине нашего с Брауном суда в декабре 1969 года. Дело быстро катилось к концу по накатанным скользким рельсам советской юриспруденции: холодно-беспощадно свиристел голос прокурора Инессы Васильевны Катуковой, готовно гудел тяжёлый низкий голос судьи Исаковой и семафорно подмигивали ему голоса народных заседателей. И слабо, отдалённо, как невнятное объявление в глубине вокзала, слышались, прерываясь на полуслове, нетвёрдые голоса адвокатов, да и замолкали надолго. И совсем уже еле слышно, как говор на перроне, мелькали наши голоса со скамьи подсудимых. Голоса свидетелей наших звучали ещё тише, ещё слабей, порою слышать их было ещё мучительней, чем голоса судьи и прокурора. Но вот настал день, и на маленькую сутулую трибунку свидетеля взошёл он, поразив нас ещё при входе своём в зал.
Сияющий сединами, весь какой-то светящийся, прямой, как воздетый указательный перст, твёрдо глядящий перед собой, он шёл твёрдой и в то же время лёгкой походкой. Широко открытые глаза лучились, губы были сжаты. А было ему тогда девяносто два года. Привезли его из Владимира, куда ездил за ним и брал показания следователь. Это был знаменитый когда-то Василий Шульгин – депутат царской Думы, редактор киевской газеты «Киевлянин», борец с советской властью.
Он выступал сейчас как свидетель Коли Брауна, тот бывал у него во Владимире, читал ему свои стихи. Удивительно было видеть Шульгина, светящегося отсветом начала века, напротив тёмной сплочённой кучки советских судейских. Всё выглядело, как находка кинорежиссера, и фильма этого мне не забыть никогда.
Его спросили о стихах Коли:
– Мы со следователем, очень милым молодым человеком, долго читали стихи Буби (так он называл Колю), но ничего антисоветского в них не обнаружили, – ответил своим медленным, словно шествующим голосом Шульгин.
– А что вам известно о фашистских высказываниях подсудимого, об его нацистских убеждениях? – спросили его.
– Прежде я хотел бы сказать о том, что фашизм и нацизм – разные понятия. Фашизм крайне неприятен, порочен, но при определённых обстоятельствах может быть терпим, нацизм нетерпим ни при каких обстоятельствах, преступен и подлежит самому непримиримому осуждению. Что же касается Буби, то ни фашистских, ни нацистских высказываний я от него никогда не слышал. Да я бы их и не стал слушать.
Он посмотрел на нашу скамью подсудимых, где сидели мы с Брауном, своим твёрдым светлым взглядом. Это были воистину минуты какого-то странного потустороннего счастья в безвыходном нашем настоящем. Мы были потрясены, судейские посрамлены. Присутствующие, наши родные, друзья, знакомые смотрели на Шульгина во все глаза.
Выступление было закончено. Шульгин так же прямо, твёрдо и неуклонно, высоко подняв голову, покинул зал. Вместе с ним ушёл свет, исходящий от него. В зале снова стало темно и безысходно. Россия серебряного века скрылась за дверьми, за окном виднелся век ржаво-железный.
Суд наш ещё быстрее покатился дальше. 15 декабря нам объявили приговор. Скоро уж предстоял этап и лагерь. Шульгина мы больше никогда не видели. Он умер девяносто шести лет от роду во Владимире, похоронен там же.
P.S. Сейчас я знаю о Шульгине много больше тогдашнего. Сейчас он не чудится мне столь светлым. Но не стал сегодня переиначивать то, что чувствовал вчера.
Суд
1
Лети былое прахом,
Казнить тебя пора
Руки единым взмахом
И росчерком пера!
Чтоб насмерть – не воскресло,
Не вырвалось из мглы.
О, как жестоки кресла,
Пронзительны столы!
Глядят глаза лихие
И в голосах тех – яд.
От имени России
Навытяжку стоят.
И не спастись, не скрыться,
Не пошатнуть стены.
Вдали родимых лица
Печальны и верны.
…И этот страх барьера
И эта вот скамья —
Моей судьбины мера,
Отныне суть моя?
Встать, сесть имею право,
Отсчитаны шаги.
Налево и направо
Погоны, сапоги.
2
И чем душа кипела,
Чем был годами жив,
Теперь подшито к делу
И брошено в архив.
Родимые тетради,
Знакомых рифм гурьба,
Дрожь сердца в звонком ладе,
Что ни строка – судьба.
Как трепетно порою
Листал, то тешась вновь
Созвучною игрою,
То правил, черкал в кровь!
Сквозь точки, запятые
Мелькали тем видней
Судьбы перипетии,
Событья прошлых дней.
И всё, как взрывом – смаху,
Бей штемпель тот, кости!
Грядущее, ты к праху,
А нынче – Бог прости!..
В лихие те картоны,
В железо скрепок тех
Моленья, зовы, стоны,
И праведность, и грех.
1970
Лагерь


Не хочется вспоминать о лагере связно и постепенно, как это было в самой жизни. Хочется вспомнить, как запомнилось, как обобщилось. Вспоминать по чувству, по мысли. Это вернее. В этом есть сердечная потребность. Впрочем, пора к делу.
С Богом!
Пересылка в Потьме. Лагерь уже близко. Уже под ногами мордовская тюремная, лагерная земля. И камера, в которой мы сидим или, вернее, лежим, сама словно в земле. Тёмные нары в два этажа, тёмная параша на полу, тёмная дверь. Маленькое оконце перепутано ржавыми железами. Оно упирается в голую стену. От параши разит аммиаком. Ржавый свет лампы над дверью и цветом, и чем-то ещё родственен с этим запахом, от которого нет спасенья.
Но зато впервые мы встречаемся с настоящими зэками из политических лагерей. Это литовцы, двое. И каждому срок – 25 лет! В это не верится, я смотрю на них, как на чудо-юдо. 25 лет вне жизни, 25 лет! В камере странный отблеск этих двух лиц, отблеск их слов, их передвижений. Люди среднего возраста. Один сидит уже 14 лет, другой – 19. Оба сражались в лесах, в рядах «лесных братьев». А за это – 25 лет или расстрел. Теперь дают не 25, а 15. Но двадцатипятилетники досиживают своё.
Мне сам срок – 25 – внушает уважение, эти люди чудятся героями. Потом, за годы, я понял, что и в лагере идёт жизнь и проходит всё – и 25 лет. И геройство не в том, что отсидел, а в том, как сидел. Но тогда я смотрел на этих литовцев во все глаза и внимал каждому их слову.
Мы с Брауном приели взятое с собой из тюрьмы, у нас ничего не было. Литовцы угостили нас сыром, сахаром. Они недавно получили посылки. Это были те посылки, которых положено одну в год. Мы об этом знали. Тем выше казался мне поступок литовцев, делившихся с нами. Ведь одна посылка в год, 5 кг (а на поверку, так дай Бог – четыре!) И из этих килограммов, а, вернее, граммов они выделяли нам, уже позабывшим вкус домашней пищи. А им-то каково за 15, за 19 лет! Я почуял что-то присущее только лагерю – более подлинное и человеческое, чем бывало на воле. И рассказы их были отзвуками другого мира. Жизнь в лесу, в землянках, с оружием в руках, всегда тревога, всегда готовность к смерти. Трагическая партизанщина обречённого народа. Но литовцы не казались несчастными. В них и впрямь было что-то лесное, что-то до корней мужское. Такое впечатление о литовцах оказалось самым точным, сколько я их ни встречал – всегда чуял то же самое. Не знаю, каковы они в Литве, на воле. Но в лагере это люди настоящие. Мы уже знали, что у зэка не положено ничего спрашивать о его «деле». Такова неписаная этика зоны. И литовцы очень глухо упомянули о себе. Только снизойдя, вероятно, к нашему полудетскому любопытству, которое светилось в глазах, – один из них рассказал кое-что. Но из-за дурного русского языка я ничего толком не понял. Впрочем, суть была в том, что его обучили в специальной школе на Западе, куда он попал после войны, и забросили в Литву. Он несколько лет воевал, но потом его предал бывший односельчанин по фамилии Демонас. И на воле имена людей символичны, а в лагере тем более. Я с этим потом не раз сталкивался. Впрочем, в лагере кажется, что любая мелочь имеет тайный смысл. Частично так и есть. Сама неестественность подобного человеческого поселения, этого «усеченного» бытия порождает в душах людей фантастическое и призрачное, изгибает психику. Я и себя ловил иногда на таких изгибах. Но об этом после.
Скоро мы расстались с литовцами, записали домашние адреса друг друга. Мы с Брауном очутились в последний раз вместе в узком закутке столыпинского вагона. Было о чём вспомнить перед разлукой. Об этом многое бы хотелось сказать, но сейчас ещё больно. Это только стиху, видать, под силу. Ну вот, высадили меня из поезда. Прощай, Коля, прощай! Поэзией и кровью мечен наш с тобой путь. Храни тебя Бог!
Я вошёл в зону вечером 29-го апреля 1970 года. Всё было приземисто и сумрачно кругом. Маленькие бараки стояли в углах и посреди этого опутанного проволокой прямоугольника. Торчали вышки, на них виднелись фигуры часовых. Слышался временами собачий лай, подвывание. Мелькал свет прожектора. Скудно светились окна бараков.
А за проволокой, за заборами, за вышками темнел широкий мордовский лес. Всё напоминало полустанок посреди дальней дороги – выйди да и бреди по Руси сквозь леса и поля. Ан, нет – не пойдёшь, тут и сиди. Много раз до этого я мечтал и вправду сойти с поезда на таком полустанке и пропасть в дремучем раздолье русской природы. Вот мечта и сбылась, да только не совсем.
Поезд мой остановился, вагон стал. И нету больше ходу, и нет пути. А покуда я вошёл в лагерь 385/17 и озирался вокруг настороженно, как и положено новичку. Правда, особенно долго озираться не пришлось. Надзиратель, по-здешнему «мент», послал меня в баню. Зэков почти не видно было из-за позднего часа. Банщик – одноглазый седой старик – обошёлся со мной приветливо. И он тоже отбывал 25 лет, кончал уже. Это был украинец, из бандеровцев. Я о них на воле слышал только дурное. А на поверку вышло не то.
После бани получил я лагерную амуницию – куртку, штаны, а также ботинки, поразившие меня размерами. С того их в лагере и звали «говнодавами». В секции указали мне на верхнюю койку в углу. Над ней ютилась хмурая зыбкая лампочка. К счастью, на ночь её выключали. Под храп, сопенье, посвистыванье и вздыханье зэков потекла моя первая ночь в лагере.
И началось моё знакомство с этим неведомым мне миром. И первое, что я увидел – Россию. Да, я заглянул ей прямо в лицо, глаза в глаза. По тропкам и дорожкам лагеря вдоль вышек и заборов бродили осколки двадцатых годов – седовласые, седоусые старики ковыляли, налегая на палку или костыль. Около них топтались виденья годов тридцатых – потемней волосом, покрепче шагом. И шмыгали тут и там тени годов 40-х – половчей ухваткой, похищней взглядом. Это всё были полицаи. Война явилась для них ареной сведения счетов с ненавистным им режимом. Таких было большинство.
Был старик – седой, как лунь, с ярко-синими глазами и скрипучим голосом, у которого лагеря начались с 1921-го года. Мичман царского флота, он уцелел в первые дни гражданской войны, но за участие в Кронштадтском восстании попал-таки за колючий забор. С тех пор и пошло. В двадцатые и тридцатые годы его сажали и выпускали. Во время войны он пошёл к немцам. После победы его взяли уже на 25 лет – это была восьмая «ходка», как в зоне говорят. Ему стукнуло 73 года; он убирал в штабе, где находилось лагерное начальство. Зэки считали, что такая должность стукачья и, наверное, так и есть. Но на старика смотрели сквозь пальцы – что с него возьмёшь, с этой горькой, измытаренной старости? Мне так было его просто жаль. Скрипучий голос, дрожащие шаги, вся жизнь в железах – за что же осуждать? Не каждому дано стоять против судьбы с высоко поднятой головой. Хоть ярко-синие морские очи не поблекли от лагерной ржави – и то немало.

Был старик 88-ми лет, огромный, с круглой сивой головой, широкой бородой, большими светлыми глазами. Про него говорили, мол, старик Тищенко уже 50 лет у большевиков в плену. Он в конце двадцатых попал на десять лет, в войну пошёл к немцу, после войны – в лагеря на 25 лет. Оставалось ему при мне сидеть ещё года два. В последнюю отсидку он уверовал в Бога всей душой и беспрестанно молился. Вся жизнь его теперь держалась на этой истовой вере. Господь ему, впрямь, помогал. Он сидел за баней на пеньке и клал одно крестное знаменье за другим. Потом вставал и ходил, ходил туда-сюда, бормоча молитвы, продолжая креститься. Он крестил и пенёк, и землю, по которой ходил, и само небо. А то вдруг начинал мелко-мелко крестить, будто костить, угол бани, яростной скороговоркой бормоча уже, видать, не молитву. Это он изгонял нечистого, проклинал его. Я подружился с ним, и он немудреным словом обсказал мне свою любовь к Богу. «Бог есть любы, – говорил он, – нельзя обманывать Господа». Никогда не поминал прошлого. Только однажды и сказал, за что здесь и в какой раз. Когда я видел его сгорбленную большую спину, круглую сивую голову, тяжёлую тёмную руку, крестившую мать-землю, мне становилось светлее на свете, и вышки кругом словно отступали к лесу.
Но не все старики были такими. Были полицаи, заслужившие такое название. Учётчик Бондаренко словно сошёл с экрана какого-то военного фильма. Он глядел исподлобья, по-бычьи поворачивал голову. Когда на проверке он по карточкам вызывал зэков, бросая на каждого вызываемого подозрительный жёсткий взгляд, я живо представлял оккупированную деревню, немецких автоматчиков и офицера с пистолетом в руке против тёмной понурой толпы крестьян, а сбоку – Бондаренко – старосту и его отрывистый хлёсткий голос и колючий взгляд. То-то приходилось от него, видать, крестьянину! В первые же дни мои в лагере он сказал мне: «Война – стихия. И ты и я – люди, все жить хотим. А с немцами шутки плохи. Отказался – с голоду подохнешь, а то и убьют. Немец есть немец. Так что не суди никого, ты войны не видел. Так-то». Бондаренко был патентованный стукач, он этого и не скрывал. Он говаривал: «Вот молодые собираются, шепчутся по углам, а в штабе вся раскладка на них готова. Куда там! Миллионные армии хребет сломали, а они туда же. Пропадут ни за что. Сами лезут в беду». Я видел, Бондаренко бросает на меня свои цепкие взгляды, видно, хотелось ему обо мне поподробней узнать. Впрочем, лагерные стукачи существовали в основном за счёт наговоров и оговоров. Начальство и это устраивало.
Таким был, например, полицай по фамилии Баклан. Создавая его, природа решила, видно, подстроить подвох всем остальным, ибо лицо у него было открытое и приятное. И разговор вполне обходителен, пока ему, по-лагерному говоря, не наступали на хвост. Тут он ощеривал свою волчью зверскую пасть. Был он из раскулаченных, хоть и кулаком совсем не был, а так – средний середнячок. А раскулачивали самые из никудышных, лодыри да прохиндеи. И вот, рассказывал Баклан, не пожалели его малых детей, в трескучий мороз выбросили всю семью на улицу да погнали к чёрту на рога. И как пришёл рыжий фельдфебель, тут уж Баклан добрался до своего недруга, который его губил и мордовал. Отвел душеньку. За то и получил 25. Но в лагере он только поменял хозяев и стал ретиво служить администрации, продавая не только молодых зэков, но и старых, таких же, как и он. Он нёс на вахту всё, что слышалось по лагерю, что изрекалось в отхожем месте, в умывалке, между столовой и бараком, и где бы то ни было. И добился-таки своего: срок ему сократили до 15 лет, и он ушёл на волю раньше меня. Старшие зэки из полицаев, до того осуждавшие его за предательство, теперь поговаривали: «Ему надо было продавать, выйти мужик хотел». На Руси уважают, как нигде, того, кто сделал по-своему. Кто смел, тот и съел. А как съел и кого – это уже Бог с ним. Я однажды сказал Баклану кто он есть, но в ответ получил только заковыристый мат. Он был уверен в своей правоте и что ж – кое-кого уверил в ней – из тех, кого продавал и предавал.
Были среди полицаев откровенно страшные личности. Немец Нейгебауэр был из тех, поволжских, кого Екатерина II привезла в Россию как своё приданое. В первые же дни войны их всех с Поволжья бросили в Сибирь и Казахстан – несколько часов на сборы и в телятники. Однако Нейгебауэр не попал в эту несчастную толпу. Он остался на месте. Женат он был на еврейке, были дети. При приближении нацистов он своими руками убил жену и детей. Был он небольшой, коренастый, весь какой-то тяжёлый, массивный, как комод. И лицо его было грубо сработано и тяжко, и взгляд ложился на человека, как камень. Говорил он по-русски тяжело, и фразы его были под стать всему в нём – и лицу, и голосу, и походке. Я поймал однажды его взгляд на одного зэка, получившего посылку и поедавшего сало. Страшней и завистливей этого взгляда трудно что-нибудь придумать. Нейгебауэр тоже был верным слугой администрации и стучал даже на немцев, с которыми пил и ел. Он отсидел лет 19 и был отпущен на волю. Я слышал, будто его убили в родных местах, не знаю, правда ли это.
Был осетин из кавказской дивизии, знаменитой своими зверствами. Он громко и подробно рассказывал, как убивал евреев. Кавказская рота расстреляла ростовскую тюрьму – около трёх тысяч человек. Немцы только надзирали. А осетины, армяне, грузины и прочие сыны Кавказа со скрежетом открывали камеры, гнали по коридорам и лестницам понурых узников, тыча им в спину дулами автоматов. Во дворе расстреливали партиями, заставляли рыть могилы самих обреченных и становиться на краю этих чёрных ям. Немецкий офицер с пистолетом ходил и поглядывал, всё ли ладно. Так продолжалось три дня. В лагере осетин был у начальства на отличном счету, он руководил СВП (секция внутреннего порядка). Члены этой секции, состоявшей сплошь из полицаев, доносили на вахту, кто и с кем пьёт чай и тому подобные сведения. Это были стукачи официальные, их окружало в лагере всеобщее презрение. Даже полицаи иной раз расшифровывали СВП по-своему (советская военная проститутка). Любопытно, что срок у осетина был всего десять лет. После отступления немцев он остался в России и даже пошёл в партизаны. Тут он тоже дослужился до наград, а после войны работал счетоводом в колхозе. Наконец, добрались до него, взвесили за и против и бросили ему червонец, как называют в лагере десятилетний срок. У зэков вообще своя шкала отсидки. Хоть и говорят, что каждого свой срок давит (у зэков есть другое словцо), но всё-таки сроки считаются большими только свыше десяти. До десяти – все детские. До пяти – вообще не сроки, можно на параше отсидеться. Что ж тут скажешь – не прошла даром сталинская выучка. 25 лет принимается почти как должное. Зэки рассказывают, что когда обратились украинцы к Ковпаку, чтобы посодействовал о снижении, он будто бы ответил: «Кара нэвэлика, трэба отбувати».
Уже при мне прибыл в лагерь старый хромой одноглазый зэк по фамилии Разноглазов. Такое совпадение фамилии и наружности оказалось ещё удивительней, когда зэк рассказал, что и брат его тоже одноглазый, а отец ещё до войны ослеп. Была в этом зэке какая-то народность и основательность. Услышав, как матерые полицаи говорят нам, молодым зэкам, что они-то сами никого не расстреливали, что им навесили чужие грехи на шею, он громко заявил: «Врёте, не было таких полицаев. Я сам вешал не раз. Нюрку Зыкову, односельчанку, повесил на суку за то, что партизан укрывала. Сказал ей – накидывай петлю, она сама и накинула… Я всех полицаев по Белоруссии знаю, у немца на шармачка не поработаешь, это не русский Иван». Разноглазов любил рассказывать, как, выражаясь его языком, «резался с прокурором на суду». Прокурор требовал высшей меры, но Разноглазов сумел ускользнуть от такой напасти. Но и небольшой лагерный срок оказался для него роковым, он умер от разрыва сердца; спускался по лестнице и вдруг подкосились ноги, упал, подняли его уже мертвого. Он мне запомнился ещё и оттого, что сочинял иногда стихи, и была в них какая-то подобная ему самому исконная народность, какой-то отголосок народной правды, которую теперь почти и не услышишь за шумом и криком.
Заканчивал при мне свой 25-летний срок Черенков, старший следователь гестапо в Краснодонской области. Он был замешан в деле «Молодой гвардии» – всего их, сидящих за «Молодую гвардию», было трое, двое давали показания, подтверждающие официальную версию, а Черенков стоял на своем. Он говорил: «Этот Сережка Тюленин известный был вор. Я как узнал, что машину ограбили, вызвал его отца, говорю ему – знаю, чьих рук дело, пусть вернёт игрушки и катится, иначе немцы за него возьмутся. У них булку украл или лошадь – один тариф – виселица. Зато и воры перевелись. И Любку Шевцову знаю, тоже маруха известная. Я настоящие дела вёл, не такую ерунду». Однако главным пунктом обвинения против Черенкова было дело «Молодой гвардии». Он при мне освободился, но по лагерю упорно поговаривали, что в родных местах он был по возвращении убит, и это, мол, дело рук чекистов. Поскольку так говорили не только о нём, я не уверен в достоверности этих слухов. Всякие были полицаи, но в целом их толпа производила тяжёлое впечатление.
Это тоже была Россия – тёмная, мрачная и злобная, жалкая и сходящая на нет. Истовая вера в Бога и стукачество уживались в ней. Вчерашний убийца, у которого руки, как в лагере говорили, по локоть в крови – теперь отбивал поклоны по утрам и крестился на самодельную икону. А продажный стукач шептал другому, такому же, как он: «Ишь, крестится. А когда убивал человека – крест клал? Топчется за баней, а на самом деле такой же идол, как я. Богу молится, а чёрту служит». Так ненавидели и хаяли они друг друга в лагерных закутках, особенно украинцы белорусов, называя их не иначе, как «гадость» или «сатана». А те в долгу не оставались. Вражда, злоба и хитрость витали в воздухе. И так каждый день, каждый час, год за годом.
Но, слава Богу, не одни полицаи сидели в лагере. Встречались и другие. И особенно удивительно было узнать бандеровцев. На воле я слышал о них только чёрные слова. Вероятно, и такие слова нелживы: убийств и жестокостей у них хватало. Но в лагере эти люди производили сильное впечатление. Лица у них были не такие, как у полицаев. Эти лица светились, дышали убеждённостью и верой. Среди них не было стукачей. Сидя те же 25 лет, они сносили тяжкое наказание достойно. К евреям в лагере относились дружелюбно, чего совсем не скажешь о большинстве полицаев. Да и вообще среди бандеровцев было много людей образованных, знающих европейские языки. Они твёрдо верили в своё предназначение, в грядущую независимость Украины, в правоту своего дела. Они пели бандеровские песни, созданные в годы борьбы, и сама их речь была певуча, не то что грубошёрстный украинско-русско-белорусский волапюк многих полицаев.
Странная штука жизнь: не столкни меня с бандеровцами судьба, я бы, как и многие, костил их в разговорах – ведь есть за что! – а теперь как-то не хочется, не могу. Встают перед глазами светлые лица бывшего полковника Пришляка, Ивана Ильчука и других сотоварищей по несчастью, от которых я видел только доброе и хорошее. Истории их были порою высоко трагичны. Так, Пришляк воевал с первых дней второй мировой войны – сначала с русскими, потом с немцами, потом снова с русскими. В году 50-м или 1949-м его жену захватили советские части и предложили ей убедить мужа прекратить борьбу. С тем и отпустили. Пришляк предупредил жену, что оружия не сложит. Она и сама продолжала воевать и вскоре пала в бою. А он попал в плен и отбывал свои 25 лет. Но каждое утро я видел, как он занимается зарядкой, молодо приседает, подпрыгивает и бегает за баней. Он был очень хорош собой, и разговор его отличался мягкостью и расположением к собеседнику.
Другой бандеровец – Луцик – был поистине потрясающей фигурой даже среди сотен подобных ему. Он был схвачен немцами за стихотворение, обвинённое в украинском национализме. Полтора года он провел в Моабите. Потом был выпущен, и в 1944 году попал уже в советскую тюрьму за то же самое стихотворение. Получил он за него 12 лет каторжных работ. Что он там испытал – страшно подумать. Ещё до тюрем немецких и советских он в бою был ранен и плохо с тех пор владел правой рукой. Тем не менее, он всё вынес. В 1956 году его реабилитировали. Однако очень скоро вновь посадили за внутрилагерную организацию, что карается крайне сурово. И вот он кончал свой третий или четвертый срок, досиживал, по его словам, тридцать первый год за решёткой, а всего стукнуло ему от роду 50 лет. Он продолжал писать стихи, но меньше всего в них было его судьбы. Он воспевал родное Закарпатье, облака и радуги над мечтательною водой звучно бегущих рек и зеленью стройно стоящих гор. Под конец срока он стал сходить с ума, воображать себя родственником императора Франца-Иосифа. Грустно было слушать его. Я знаю о нём, что отсидев после лагеря ещё два года за нарушение паспортного режима, он в конце концов угодил в дурдом, и там пребывает и сейчас.
А вот Иван Ильчук кончал свои 25 лет в полном здравии тела и духа. Он был телохранителем начальника отряда у бандеровцев, и на его счету 49 убитых в боях советских солдат. Но, глядя на его доброе лицо, трудно было представить его стреляющим. Это был настоящий украинский богатырь-казак, о котором пели в гоголевские времена бандуристы. Веруя в Бога без надсады и аффекта, он, однако, в воскресенье работать не шёл под страхом любого наказания, чего не скажешь ни о бурно молящихся полицаях, ни о молодых зэках, много рассуждающих о Боге и символе веры. В Иване Ильчуке была та искренность, которую не возьмёшь напрокат. Убеждённый в своей миссии борца за самостийную Украину, он готов был умереть за это. Нереальность мечты о самостийности его не остановила. Он остался несгибаемым.
Литовцы произвели на меня большое впечатление с первых же дней. В дальнейшем это впечатление только усиливалось. В этом народе было редкое теперь чувство единой семьи. В то же время ко всем остальным нациям они относились дружески. Ни ненависти, ни презрения, ни злорадства. Литовцев в лагере было очень много, но самые «тёплые» места принадлежали, как правило, не им. Редко литовец оказывался даже на месте бракёра. Правда, одного литовца-фельдшера в санчасти я знавал, но он, по-моему, стукачом не был. Земляки к нему относились хорошо, а это важный показатель. Литовцы ненавидели стукачей. Говорят, что в старые сталинские годы литовцы и бандеровцы уничтожили немало предателей и сбили спесь с уголовников, верховодящих до того по лагерям. Дело доходило до поножовщины, и урки отступили. Страшные были времена, страшные нравы. Сейчас всё тише, не ходят к оперу втроем, вчетвером (а если один пошёл – значит, стукач, – убьют, отрежут голову и принесут на вахту. Так рассказывают в лагерях старики).
Среди литовцев были, конечно, люди разные. Много попадалось могучих, лесных, по-медвежьи коренастых мужчин, реже встречался городской тип. Ярчайшее впечатление производил Балис Гаяускас. Он был родом из Каунаса, из интеллигентной семьи. Его организация поддерживала связь с лесными группами. Во время городской облавы Балис застрелил гнавшегося за ним офицера. И вот – 25 лет срока, а было Балису тогда всего 22 года. Он прошёл все лагеря – от сталинских до сегодняшних. Но ни разу я не видел его раздражённым, грубым, злым. За 25 лет отсидки он изучил 20 языков и мог на них писать, разговаривать, думать. Все европейские, 6 языков Индии, прибалтийские, славянские. При мне он начал изучать тибетский язык. С Балисом дружили в своё время многие достойные люди, из последнего лагерного призыва – Даниэль. Балис за 25 лет ни разу ни в чём не пошёл на компромисс, не отказывался ни от какой работы. Высокий, стройный, с открытым смелым лицом и лёгкой походкой, он был подлинный герой, герой во плоти. Я таких раньше не видел и не знаю, встречу ли ещё. На воле таких нет. Я счастлив, что этот человек дарил меня своим расположением. Наши беседы о русской и литовской культуре, об исторических путях и судьбах народов живут в моей памяти. Литва может гордиться таким сыном.
Латыши на литовцев походили только фамилиями. Они не производили впечатления политзаключённых. Работали лагерные работы истово, и ходила присказка, что два латыша заменяют шагающий экскаватор. Как начиналась в лагере стройка, их пригоняли толпами, и кругом слышался их говор. Многие из них не доверяли друг другу и завидовали удаче земляка. Не раз кто-нибудь из них останавливал меня и говорил: «Вот видите, герр Бергер, земляки опять настучали на меня – сегодня поговоришь, а завтра всё известно оперу. Нет ничего хуже земляков, поверьте мне». Такие речи я слышал от них часто. Однажды я беседовал со стариком-латышом, он рассказывал, как воевал, имел чин капитана, пользовался уважением немцев. В тот же вечер меня остановили два других пожилых латыша и своими каркающими голосами стали ругать моего недавнего собеседника – он-де врун, болтун, никакой не капитан, нечего его слушать. Латыш по фамилии Катис – высокий, седой черноглазый старик, блестяще говорил по-немецки. Про него я слышал, что он был начальником концлагеря у нацистов. Однако в лагере он особенно тяготел к евреям и старался заводить с ними разговоры. Правда, мне он сказал: «Вот, Бергер, Вы ходите вместе с евреями, а среди вас кто-то обязательно стукач. Уж Вы поверьте мне, я знаю, один кто-то обязательно стукач». По лагерному опыту я знал, что стукачи очень любят сеять подозрительность среди зэков и обязательно на кого-то указывать пальцем. Мы уже знали – тот, кто называет стукачом того, этого и этого, наверняка стучит сам. Психологически это понятно, и вообще психология стукача не отличается тонкостью. Наводить тень на плетень, оговаривать товарища – вот, пожалуй, и вся стукачья уловка. Стукачи со времен сталинских и поутихли, и в то же время стали наглее, не боятся ножа, не шарахаются от прямого взгляда. Но теперь их меньше, а среди молодых совсем мало. Это им бодрости не прибавляет. Чтобы закончить о латышах, расскажу о 72-х летнем Ульпе, бывшем штурмбанфюрере СС. Он не был в Латвии с 20-х годов, жил в Париже, работал шофером такси. Меня он поразил своим знакомством и родством (по его словам) с великим поэтом России Владиславом Ходасевичем. Жена Ульпе, как он утверждал, была сестрой Нины Берберовой, жены Ходасевича, и жили они на одной лестнице – Ульпе на втором этаже, Ходасевич на третьем, на улице «Четырех каминов». Впрочем, поэт не нравился Ульпе. Он, по мнению прибалта, был слишком молчалив и бледен, много сидел за письменным столом. Я живо представлял себе гордое бледное лицо, прямые чёрные волосы, острый взор поэта, идущего смутной парижской улицей под «европейской ночью чёрной». Вот ведь, в лагере встретить знакомца Ходасевича – могло ли такое присниться? Однако случилось наяву. Уж за одно это спасибо судьбе.
Страшным видением лагеря были сумасшедшие. Я видел их немало. Один – литовец – от подъёма до отбоя быстро ходил вдоль колючек и вышек, широко размахивая руками и беспрерывно громко, порою до крика, бормоча. Большие карие глаза смотрели как-то пусто. Самокрутка дымила в зубах. Так ходил он день за днём все годы, сколько я его знал. Я видел раз или два, как литовцы подходили к нему, называли его по имени, начинали что-то говорить ему, но уже через несколько минут отходили прочь, а он продолжал ходить, громко бормоча и размахивая руками. Балис на мой вопрос, что же он говорит, пояснил, что бедняга выкрикивает обрывки слов, какую-то бессмысленную бесконечную магнитофонную ленту своего безумия. Как и всех прочих лагерных сумасшедших, литовца свели с ума на следствии зверскими пытками, на которые столь щедра была сталинская година. Другой сумасшедший – украинец Федюк – был из полицаев. Тихо сидел он где-нибудь в углу и курил или в пошивочном цехе выворачивал рукавицы на колышке и даже выполнял полнормы, что для инвалида 2-й группы было вполне достаточно. К достоинству его как полицая принадлежало то, что он хотя бы не стучал. Ещё сумасшедший, белорус Адам, тоже был тих и смирен, но иногда начинал гулять, как говорят, по чужим тумбочкам, за что и бывал бит. Были и ещё сумасшедшие – старик-татарин Бабай, с которым случались жуткие приступы падучей, и пожилой украинец из полицаев, который обыкновенно стоял где-нибудь с рыхлой улыбочкой, наблюдая происходящее вокруг. Из молодых я знал только одного сумасшедшего – грека Деонисиади, история его трагична. Кто-то пустил про этого благородного доброго человека грязный слух – обычную лагерную парашу, что он, якобы, стукач. И, увы, сработало. Деонисиади был мал ростом, щупл да ещё одноглаз – и без того несчастен. И вот клевета его сразила, он сошёл с ума. Его увезли куда-то – не то в Казань, не то в Днепропетровск, в одно из тех дьявольских заведений, при мысли о которых бросает в дрожь. А стариков-сумасшедших так и держали в лагере среди нас. Это, конечно, откровенная жестокость, и оправданий этому нет. Порою цех по пошиву рукавиц напоминал сцену из пьесы Беккета – сидит в углу Федюк, что-то бубня под нос и уставившись в одну точку, по направлению к нему бредёт Адам, а за окном маячит размахивающая руками фигура шагающего, как всегда вдоль колючек, литовца. Оторопь брала, когда глядел на это. Чтобы закончить о старшем поколении зэков, скажу ещё несколько слов. Время заключения они воспринимали как-то странно. Как бы дело происходило в межпланетном корабле, где земные годы не властны. Старики считали, что они вернутся назад на волю – не только в родные места, но и в родные былые времена, и возраст их теперь тот же, что и в те часы, когда за дверью послышались роковые шаги гэбистов. И это ощущение пронизывало всё их существо. Они пребывали в некой консервации, в летаргии наяву. Словно бы не старели, что-то отжившее уже свой век смотрело из их выцветших глаз. Воспоминания о прошлом обретали плоть и кровь и порою в сознании зэка заменяли реальность. Это многих спасало от отчаяния, сумасшествия, ожесточения. Только поистине высокие люди жили нынешним днем и не строили иллюзий, а духовно росли и светились. Балис Гаяускас, Ильчук, Пришляк и немногие подобные им оставались живыми людьми в этом мире теней и призраков. А сколько всяких мистических озарений мерцало в смутном лагерном воздухе! Широко бытовала легенда о 12-летнем цикле истории. Каждые 12 лет в мире совершались фатальные перемены – 1905-1917-1929-1941-1953-1965, следовательно, теперь – 1977, и его ждали со страхом и надеждой. И ведь правда, революции, войны, смерти и смещение владык как раз падали на означенные перстом года. Или какой-то факт политической злобы дня в умах зэков возвышался до знаменья. Отменили вышку (т. е. высшую меру) двум сионистам – 1 января 1971-го года – год обещает большие перемены. Такого рода провидчества нас, молодых, недавно с воли прибывших – только смешили. Но мы понимали их психологическую подоснову – горестную и трагичную. Ведь десятилетия гробовой безнадёжности оседали в сердцах этих бедных людей, и любое веяние лучшего оживляло в них надежды. Надежды, как и воспоминания, так спасительны! В конце срока я особенно хорошо понимал что творилось в душе старых зэков. Ещё была легенда о трёх силах в мире – советской, американской и еврейской. Притом, мировое еврейство дирижировало первыми двумя и руководило миром. Всё происходящее на земле истолковывалось в этом духе. А началось это, якобы, ещё с библейских времён. И Вавилон, и Рим, и третий рейх пали мановением еврейской руки, и Сталин умер, сражённый ею. За большевистский путь России вся ответственность также возлагалась на евреев. Евреем считался не только Ленин, но и Сталин, и Брежнев, и все, кто правит с тех пор Россией. Почему Сталин? Джуга-то по-персидски еврей! Брежнева выдает внешность. Да и Подгорного тоже. Из сказанного, наверное, ясно, как силён в теперешних лагерях антисемитизм. Только у литовцев и бандеровцев и некоторых групп молодых не замечал я его. Молодые зэки, к которым я принадлежал, представляли собой разношерстное политическое месиво. Но и здесь главным водоразделом была национальность. Кровь разделяла людей куда глубже идей и взглядов. Биология торжествовала над духовностью. Древние склоки предков ставились во главу угла сегодняшних отношений. Приверженность к национальному почиталась высшей доблестью. Лагерь оказывался на поверку концентрацией современного мира, грубо и открыто высвечивая то, что бродит в сумерках души нынешнего человечества. Увы, нацизм, это дьявольское детище XX века, чудился предтечей грядущих зловещих столетий, которым суждено прокатиться по Земле. И на многие ещё грустные размышления наводила лагерная действительность. Но вернёмся к ней.









































