Читать книгу "Воспоминания о будущем"
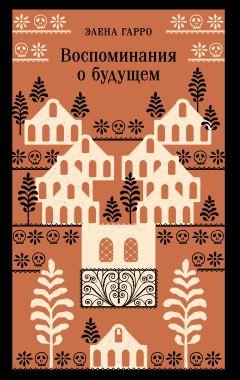
Автор книги: Элена Гарро
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Томас Сеговия сопровождал донью Эльвиру и Кончиту по темным улицам. Вдова воспользовалась темнотой, чтобы обсудить любимую тему аптекаря – поэзию.
– Скажите, Томас, о чем же нам говорит поэзия?
– Об этом все забыли, донья Эльвира; только я время от времени посвящаю стихам пару часов. Это страна неграмотных, – с горечью ответил тот.
«Что это он о себе возомнил», – сердито подумала женщина и замолчала.
Дойдя до дома вдовы, Сеговия галантно подождал, пока женщины задвинут засов и запрут ворота, а затем в одиночестве зашагал по улице. Он думал об Изабель, о ее мальчишеском профиле. «Она по натуре неуловимая», – сказал он себе в утешение за равнодушие девушки, невольно зарифмовав «неуловимая» с «неумолимая», и вдруг посреди ночного одиночества улицы его жизнь показалась ему огромным хранилищем прилагательных. Удивленный, Томас ускорил шаг; ноги его тоже отмеряли слоги. «Я слишком много сочиняю», – сказал он себе в каком-то недоумении и, придя домой, написал первые две строки первого четверостишия сонета.
– Лучше бы уделяла больше внимания Сеговии и не пялилась, как дурочка, на Николаса! – воскликнула Эльвира Монтуфар, сидя перед зеркалом.
Кончита не ответила: она знала, что мать говорит только для того, чтобы не молчать. Молчание пугало вдову, напоминало о неудобстве тех лет, что она провела с мужем. В то мрачное время она даже забыла о собственном облике. «Забавно, я не знаю, как я выглядела, когда была замужем», – признавалась она подругам.
«Девочка, хватит смотреться в зеркало!» – наказывали ей старшие, когда та была маленькой, но Эльвира не могла остановиться: собственный образ был для нее способом познавать мир. Через него она училась понимать траур и праздники, любовь и важные даты. Перед зеркалом она училась говорить и смеяться. Когда Эльвира вышла замуж, Хустино монополизировал и слова, и зеркала, так что женщина пережила несколько тихих, размытых лет, в течение которых двигалась как слепая, не понимая, что происходит вокруг. Единственное, что она помнила о тех годах, – это то, что их у нее не было. Не ей одной пришлось пережить то время страха и молчания. Теперь, хотя она и советовала дочери выйти замуж, ей нравилось, что Кончита не обращает на нее никакого внимания. «Не всем женщинам приличествует быть вдовами», – говорила она себе тайком.
– Смотри, если не поторопишься, останешься старой девой.
Кончита молча выслушала упрек матери и поставила поднос с водой под ее кровать, чтобы отпугнуть злых духов; затем положила «Ла Магнифика» и четки между наволочками. С самого детства Эльвира принимала меры предосторожности перед сном: она боялась своего спящего лица. «Я не знаю, как выгляжу с закрытыми глазами», – говорила она и накрывалась с головой одеялом, чтобы никто не видел ее лица, изменившегося до неузнаваемости. Она чувствовала себя беспомощной перед собственным спящим лицом.
– Как неприятно жить в стране индейцев! Они пользуются сном, чтобы навредить человеку, – заявила Эльвира, стыдясь того, что ее дочь в такое время занимается подобными делами вместо того, чтобы спать. Вдова энергично расчесала волосы и с удивлением осмотрела себя в зеркале. – Боже мой! Неужели это я? Эта старуха в зеркале? И такой меня видят люди? Никогда больше не выйду на улицу, не хочу вызывать жалость!
– Не говори так, мама.
– Слава богу, твой бедный отец умер. Представь его удивление, если бы он увидел меня сейчас… А ты, чего ты ждешь? Сеговия – лучшая партия в Икстепеке. Он, конечно, беден! И слушать его всю жизнь – сплошное наказание!.. Но разве это я? – повторила Эльвира, зачарованно разглядывая мимику собственного лица в отражении.
Кончита воспользовалась замешательством матери, чтобы уйти в свою комнату. Она хотела побыть одна, чтобы свободно помечтать о Николасе. В прохладе своей комнаты она представляла лицо молодого человека, слышала его смех. Жаль, что так и не осмелилась сказать ему ни слова! Вот мать ее говорила чересчур много, нарушая все очарование. Замуж за Томаса Сеговию! Как только ей в голову пришло ляпнуть такую глупость? Когда Сеговия говорил, его слова будто слипались у Кончиты в ушах. Она представила волосы Томаса и почувствовала, как его сальная голова к ней прикоснулась. «Если завтра мать о нем опять скажет, устрою истерику». Истерики дочери пугали донью Эльвиру.
Кончита злобно улыбнулась и с удовлетворением положила голову на подушку. Под подушкой она хранила смех Николаса.
– Не могу дождаться, когда вы уедете в свою Тетелу! – сердито крикнула Изабель, едва гости вышли за порог дома. Однако, как только братья уехали из Икстепека, она горько пожалела о своих словах: дом без них превратился в пустую скорлупку; Изабель перестала его узнавать, а также голоса родителей и слуг. Она отдалилась от них, превращаясь в потерянную точку в пространстве и наполняясь страхом. Существовали две Изабели: одна бродила по патио и комнатам, а другая жила в далекой сфере, застывшей в пространстве. Неприкаянная, она касалась предметов, чтобы хоть как-то связаться с видимым миром, брала в руки книгу или солонку, словно пытаясь удержаться за них и не упасть в пустоту. Так она создавала связь между реальной и нереальной Изабель и находила в этом утешение. «Молись, будь добродетельной!» – говорили ей, и девушка повторяла волшебные формулы молитв, пока те не распадались на бессмысленные слова. Между силой молитвы и словами, которые ее составляли, существовало такое же расстояние, как между двумя Изабелями: она не могла объединить ни молитвы, ни себя. И, зависшая в пространстве, Изабель могла в любой момент оторваться и упасть, как метеорит, в неизвестное время. Мать не знала, как к ней и подойти. «И это моя дочь Изабель», – повторяла она самой себе, с недоверием глядя на высокую и загадочную фигуру девушки.
– Иногда бумага как будто над нами смеется…
Дочь удивленно посмотрела на мать, и та покраснела. Ана хотела было сказать, что ночью сочинила письмо, которое разрушило бы пропасть, отделяющую ее от дочери, но утром, перед наглой белизной бумаги, ночные фразы развеялись, словно утренний туман в саду, оставив лишь набор бесполезных слов.
– А ночью я была такой умной! – вздохнула она.
– Ночью мы все умны, а наутро оказываемся глупцами, – прокомментировал Мартин Монкада, глядя на неподвижные стрелки часов.
Его жена вновь погрузилась в чтение. Мартин услышал, как она перевернула страницу, и посмотрел на нее так, как смотрел всегда: как на странное и очаровательное существо, которое делило с ним жизнь, ревностно храня священную тайну. Мартин чувствовал благодарность за ее присутствие. Ему не суждено узнать, с кем он живет, но ему это и не надо; достаточно знать, что он живет с кем-то. Мартин перевел взгляд на Изабель, утонувшую в глубоком кресле, ее взгляд был устремлен на пламя лампы; кто его дочь, он тоже не знал. Ана любила повторять: «Дети – совсем другие люди», удивляясь тому, что ее дети и она – не единое целое. Мартина поразила заметная тревога, охватившая Изабель. Феликс и его жена, трудолюбивые и спокойные, каждый возле своей лампады, казалось, не чувствовали никакой опасности: Изабель могла превратиться в падающую звезду, убежать, исчезнуть в пространстве, не оставив видимых следов присутствия в этом мире, где только грубые предметы обретают форму. «Метеорит – яростное желание побега», – сказал Мартин сам себе. Эти потухшие громадины казались ему странными: они сгорали в собственной ярости, осужденные на еще более мрачное заточение, чем то, от которого пытались сбежать. «Отделиться от целого по собственной воле – настоящий ад».
Изабель встала с кресла, оно казалось ей жестким; в отличие от матери, с ней говорила не только бумага, но и весь дом. Пожелав родителям спокойной ночи, девушка вышла из комнаты. «Семь месяцев прошло, как они уехали». Она забывала, что братья иногда приезжали в Икстепек, проводили с ней несколько дней и вновь уезжали на шахты. «Завтра попрошу отца их привезти», – с этими словами Изабель натянула на голову простыню, чтобы не видеть жаркую тьму и тени, которые с оглушительным шумом сливались и распадались на тысячи темных точек.
Николас тоже томился вдали от сестры. Во время поездок в Икстепек, пересекая сухую и безжизненную горную местность, он чувствовал, будто под копытами лошади вырастают валуны, а путь преграждают горы. Ехал он молча. Казалось, только воля помогает ему проложить путь в этом каменном лабиринте. Воля и воображение, без которых он ни за что не доберется до дома и останется в плену этих каменных стен, посылающих ему зловещие знаки. Хуан ехал рядом, радуясь возвращению к свету своей комнаты, теплу глаз отца и скупой на ласку руке Феликса:
– Как хорошо вернуться домой…
– Когда-нибудь я туда больше не вернусь, – сказал Николас с обидой.
Ему не хотелось признавать, что дома он боялся услышать новость о замужестве сестры, и этот страх мучил его. Николас был уверен: отец отправил их на шахты не из-за бедности, а чтобы заставить сестру выйти замуж.
– Изабель предательница, а отец – подлый…
– Помнишь, когда вы топили меня в пруду? Сейчас я чувствую себя точно так же, в этой темноте со всех сторон, – отозвался Хуан, напуганный словами брата.
Николас улыбнулся; в детстве они с Изабель толкали Хуана в воду и боролись друг с дружкой, кто первый его спасет. Затем с риском для жизни бросались в пруд и, вытащив брата из воды, шли в деревню с «утопленником» на руках, едва не лопаясь от гордости за собственный героизм. Тогда все трое пребывали в бесконечном удивлении от мира. В то время даже наперсток матери излучал волшебное сияние, когда та вышивала пчел и маргариток. Некоторые из тех особых дней остались в их памяти навсегда. Потом мир стал тусклым, потерял яркие краски и запахи, свет посерел, дни сделались одинаковыми, а люди начали казаться карликами. Хотя все еще оставались места, не тронутые временем, например, зияющая чернотой яма, откуда добывали уголь. Годы прошли с тех пор, когда они, сидя на кучах угля, с трепетом слушали перестрелку сапатистов во время набегов на деревню. За этими кучами их прятал Феликс. Куда уходили сапатисты после набегов на Икстепек? К зелени, к воде, где ели кукурузу и смеялись до упаду, часами резвясь с соседями. Теперь никто не приходил, чтобы скрасить их дни. Время стало тенью Франсиско Росаса. Повсюду в стране остались только «повешенные». Люди учились приспосабливать свои жизни к капризам генерала. Изабель тоже пыталась приспособиться, найти мужа и кресло, в котором она могла бы укачивать свою скуку.
Поздно ночью братья прибыли в Икстепек. Изабель помогла им спешиться. Родители ждали в столовой. Феликс подал ужин, который заставил Николаса и Хуана забыть о посиневших тортильях и лежалом сыре Тетелы. Наклонившись над столом, братья и сестра смотрели друг на друга, с трудом узнавая. Николас говорил только с Изабель. Дон Мартин со своего места прислушивался к их разговору.
– Если не хотите, не возвращайтесь в шахту, – тихо произнес он.
– Мартин, ты витаешь в облаках! Ты же знаешь, нам нужны эти деньги, – встревоженно ответила его жена.
Ее супруг молчал. «Мартин, ты витаешь в облаках» – эту фразу ему повторяли каждый раз, когда он совершал ошибку. Но разве принуждать детей – ошибка не более серьезная, чем потерять немного денег? Мартин не понимал непрозрачности мира, в небе которого единственным солнцем сияли деньги. «Мое призвание – быть бедным», – повторял он, оправдывая свое неизбежное разорение. Дни казались ему невыносимо короткими, чтобы тратить их на усилия ради добывания денег. Он чувствовал удушье среди «непрозрачных тел», как называл он жителей Икстепека: они растрачивали себя на мелочные интересы, забывали о своей смертности, их ошибка проистекала из страха. Мартин знал: будущее – это быстрое отступление к смерти, а смерть – совершенное состояние, драгоценный момент, когда человек полностью восстанавливает свою иную память. А потому он легко забывал об обещании самому себе «сделать это в понедельник» и смотрел на деловитую суету окружающих с изумлением. «Бессмертные» выглядели довольными в своем заблуждении, и Мартин думал, что лишь он один возвращается к драгоценному моменту смерти.
Ночь просачивалась в дом из сада через открытую дверь. В комнате поселились насекомые и сумеречные запахи. Сквозь дом будто текла таинственная река, связывая столовую семьи Монкада с сердцем далеких звезд. Феликс убрал тарелки и сложил скатерть. Бессмысленность и еды, и слов обрушилась на обитателей дома, и они замерли, неспособные выразить себя в настоящем.
– Не помещаюсь я в этом теле! – воскликнул Николас, обессиленный, и закрыл лицо руками, точно собираясь заплакать.
– Мы все устали, – отозвался Феликс со своего места.
В течение нескольких секунд весь дом словно взлетел в ночное небо, слился с Млечным Путем и беззвучно упал в то же самое место. Изабель, ощутив удар от падения, вскочила со своего места, посмотрела на братьев и вдруг почувствовала уверенность; она вспомнила, что находится в Икстепеке и что нечто неожиданное может вернуть их к утраченному порядку.
– Сегодня взорвали поезд. Возможно, они придут…
Остальные смотрели на нее, как сомнамбулы, и только ночные бабочки трепетали в пыльном танце вокруг ламп.
V
Каждый вечер в шесть прибывал поезд из Мехико. Он привозил газеты, и ждали мы их с таким нетерпением, будто они могли снять заклятье, в тихий плен которого мы попали. Напрасно: в газетах появлялись лишь фотографии казненных. То было время расстрелов. Тогда мы думали, что ничто нас уже не спасет. Расстрельные стены, контрольные выстрелы, виселицы появлялись по всей стране. Лавина ужаса стирала нас в пыль и песок ровно до шести вечера следующего дня. Иногда поезд не приходил по несколько дней, и повсюду разносился слух: «Теперь точно придут!» Однако на следующий день поезд с его обычными новостями прибывал как положено, и неумолимая ночь опускалась на меня.
Со своей кровати донья Ана слышала ночные шорохи, полузадушенная неподвижным временем, охранявшим двери и окна дома. До нее донесся голос сына: «Не помещаюсь я в этом теле». Она вспомнила свое бурное детство на севере страны. Вспомнила дом с дверями из красного дерева, как они открывались и закрывались, впуская ее братьев; их звучные и дикие имена отзывались эхом в комнатах с высокими потолками, где зимой витал запах горящего дерева. Она вспомнила снег на подоконниках и звуки польки в коридоре, где гулял холодный ветер.
С гор спускались дикие коты, и слуги шли на них охотиться, заливая хохочущие глотки сотолем [2]2
Разновидность текилы.
[Закрыть]. На кухне жарили мясо и раздавали кедровые орехи, и тишину дома вспарывали резкие голоса гостей. Предчувствие радости ломало застывшие дни один за другим. Революция вспыхнула внезапно, открыв двери времени. В тот сияющий миг братья Аны отправились в Сьерра-де-Чиуауа и вернулись оттуда в солдатских ботинках и военных беретах. За ними шли офицеры, и на улицах зазвучала «Аделита».
Если Аделита уйдет к другому,
Пойду я за ней по земле и по морю;
Если по морю – на корабле;
А по земле – то на поезде…
Братья не дожили до своих двадцати пяти лет, погибли один за другим: в Чиуауа, в Торреоне, в Сакатекасе; и у Франсиски, матери Аны, остались только их портреты да она сама с сестрами, в траурных платьях. Затем завоевания Революции были сведены на нет предательскими руками Каррансы, и убийцы пришли делить добычу, играя в домино в борделях, которые сами же и открыли. Мрачная тишина распространилась с севера на юг, и время вновь затвердело. «Если б только мы снова могли петь “Аделиту”! – сказала сама себе Ана, и ей понравилось, что взорвали поезд из Мехико. – Такие события заставляют жить». Возможно, еще может случиться чудо, которое изменит нашу кровавую судьбу.
Поезд возвестил о своем прибытии длинным победным гудком. Прошло уже много лет, никого не осталось из семьи Монкада, только я – свидетель их упадка – все еще здесь, каждый день, в шесть вечера, слушаю, как прибывает поезд из Мехико.
– Хоть бы приличное землетрясение случилось! – воскликнула донья Ана, сердито вонзая иглу в вышивку. Она, как и все мы, страдала от тоски по катастрофам. Дочь услышала гудок поезда и промолчала. Донья Ана направилась к балкону, чтобы через занавески подглядеть за генералом Франсиско Росасом, который шел в кантину Пандо, чтобы там напиться. – Какой молодой! Наверное, ему не больше тридцати! И уже такой несчастный! – добавила она с состраданием, наблюдая за генералом, высоким, стройным и равнодушным.
Из кантины доносился запах свежей еды. Слышался стук катящихся по столу игральных костей, и монеты со звоном переходили из рук в руки. Генерал, знатный игрок и любимец удачи, выигрывал. И по мере того как выигрывал, он терял самообладание и пил с еще большим отчаянием. Опьянев же, становился опасным. Его подручные старались выиграть у него хотя бы партию и беспокойно озирались, когда тот в очередной раз побеждал.
– А ну-ка, вы, подполковник мой дорогой, сыграйте партейку с генералом!
Подполковник Крус, улыбаясь, с готовностью шел обыгрывать Франсиско Росаса. Он был единственным, кому это легко удавалось. Полковник Хусто Корона, стоя позади своего командира, пристально наблюдал за игрой. Пандо, хозяин кантины, чутко следил за каждым движением военных; по выражениям их лиц он угадывал, когда атмосфера слишком накалялась.
– Пора на выход, генерал выигрывает!
И клиенты кантины, один за другим, постепенно исчезали. «Если генерал выигрывает, значит, Хулия его не любит; вот он и злится», – говорили мы со смехом и, выйдя на улицу, выкрикивали в сторону кантины то, что бесило военных.
Поздно ночью стук копыт лошади Франсиско Росаса нарушал тишину. Мы слышали, как он галопом проезжал по улицам, потерянный в своих мыслях. «Что ему нужно в такое время?» – «Набирается смелости перед тем, как идти к ней?» Не спешиваясь, заскакивал он во двор гостиницы «Хардин», а затем шел в комнату Хулии, своей возлюбленной.
VI
Однажды вечером с поезда сошел незнакомец в темном костюме, дорожной кепке и с маленьким чемоданом в руке. Он остановился на разбитом перроне и стал оглядываться по сторонам, как бы сомневаясь, туда ли приехал. Постоял так несколько секунд, затем начал смотреть, как разгружают тюки из вагонов. Он был единственным пассажиром, сошедшим с поезда, и грузчики с доном Хусто, начальником станции, взирали на него с удивлением. Молодой человек, похоже, осознал любопытство, которое вызвал к своей персоне, и лениво зашагал по перрону к грунтовой дороге. Пересек ее и двинулся к почти пересохшей реке. Перейдя ее вброд, он направился к Икстепеку кратчайшим путем и вошел в город под изумленным взглядом дона Хусто. Казалось, молодой человек улыбался самому себе. Он миновал дом семьи Каталан, и дон Педро, прозванный «копилкой» из-за дырки, оставленной пулей на щеке, заметил его, пока разгружал банки с жиром у дверей своего магазинчика. Там из дверного проема уже выглядывала его любопытная жена Тоньита.
– Это кто еще? – поинтересовалась она, не ожидая ответа.
– Похож на инспектора… – проговорил ее муж с подозрением.
– Нет, точно не инспектор! Это кто-то другой! – уверенно возразила Тоньита.
Незнакомец тем временем продолжил свой путь, его взгляд блуждал по крышам домов и кронам деревьев. Не замечая любопытства, вызванного своим появлением, молодой человек завернул за угол улицы Мельчор Окампо. Увидев приезжего из окна, девицы Мартинес принялись громко обсуждать его появление, совершенно забыв про своего отца, дона Рамона, который разглагольствовал по поводу замены конных экипажей, что стояли на площади под тамариндами уже пятьдесят лет, на автомобили, а также по поводу электрической станции и того, как хорошо было бы заасфальтировать улицы. Дон Рамон восседал на стуле из тростника, пока донья Мария, его жена, готовила кокосовые конфеты с кедровыми орешками, пирожные из яичного желтка и пабельонес [3]3
Блюдо из риса, бобов и жареных бананов.
[Закрыть] для продажи на рынке. Услышав восклицания дочерей, сеньор Мартинес подошел к балкону, правда, успел увидеть лишь спину пришельца.
– Современный человек, двигатель прогресса! – воскликнул он с энтузиазмом.
И тут же принялся размышлять о том, как использовать новоприбывшего для осуществления своих проектов. «Жаль, что военный командующий – так называл он генерала Росаса, – сущий ретроград!»
То, что приезжий был чужаком, не вызывало никаких сомнений. Ни я, ни самый старый житель Икстепека не помнили, чтобы видели его раньше. И тем не менее, казалось, молодой человек прекрасно знает планировку моих улиц, потому как, не колеблясь, добрался прямиком до дверей отеля «Хардин». Дон Пепе Окампо, хозяин, показал ему просторную комнату с глинобитным полом, растениями в кадках, железной двуспальной кроватью под белыми простынями и москитной сеткой. Приезжий выглядел довольным. Дон Пепе, будучи человеком разговорчивым и гостеприимным, чрезвычайно обрадовался новому постояльцу.
– Так давно уже никто сюда не приезжал! То есть никто издалека. Индейцы не в счет; они спят в дверях или во дворе. Раньше приезжали коммивояжеры с чемоданами, набитыми всякой всячиной. Вы, случайно, не из них?
Чужак покачал головой.
– Видите, сеньор, до чего дошел я из-за всей этой политики! Раньше в Икстепек кто только не приезжал, торговля била ключом, и отель был всегда полон. Видели бы вы! Столы ломились от еды. Посетители до поздней ночи! Вот было время! Сейчас почти никого. Ну, если не считать генерала Росаса, полковника Короны, кое-кого из низших чинов да их любовниц…
Последнее слово дон Пепе произнес полушепотом, подавшись к приезжему, который слушал с улыбкой. Молодой человек достал две сигареты и предложил одну хозяину гостиницы. Последний потом утверждал, что сигареты в руках пришельца появились буквально из воздуха. Якобы чужак вытянул руку, и между его пальцами сами собой возникли сигареты, причем уже зажженные. Однако в тот момент дон Пепе ничему не удивился, сей факт показался ему вполне естественным. Он зачарованно смотрел в глаза своего нового постояльца и тонул в их глубине, блея, будто послушная овечка. Оба закурили и вышли в коридор, уставленный влажными папоротниками. Оттуда доносился стрекот сверчков.
Неподалеку от них, в ярко-розовом халате, с распущенными волосами, сквозь которые поблескивали золотые серьги, дремала в своем гамаке красавица Хулия, любовница генерала Росаса. Как будто почувствовав чужое присутствие, она открыла глаза и сонно, но с любопытством взглянула на незнакомца. Будучи вполне способной скрыть испуг, она тем не менее совсем не встревожилась. С тех пор как я увидел ее выходящей из военного поезда, она казалась мне женщиной опасной. Никто раньше в Икстепеке не вел себя как она. Ее привычки, манера говорить, ходить и смотреть на мужчин – все в Хулии было иным. Я так и вижу, как идет она по перрону, принюхиваясь к воздуху, будто ей чего-то не хватает. Раз увидев такую женщину, уже не забудешь! Видел ли ее раньше новый постоялец, я не знаю, однако на него красота Хулии не произвела особого впечатления. Он приблизился к ней и долго разговаривал, склонившись над ее гамаком. Хулия, растрепанная и полуобнаженная, внимательно слушала. Дон Пепе так и не смог припомнить потом, что тот ей говорил.
Ни Хулия, ни дон Пепе, по всей видимости, не осознавали опасности, которой подвергались. В любой момент мог возникнуть генерал Росас, звереющий от ревности при одной лишь мысли, что кто-то осмелился разговаривать с его возлюбленной, смотреть на ее зубы и розовый кончик языка, когда она улыбается. Именно по этой причине дон Пепе тут же бросался навстречу генералу, едва тот приходил, дабы сообщить, что сеньорита Хулия ни с кем не общалась. По вечерам Хулия облачалась в розовое шелковое платье, усыпанное белым бисером, и украшала себя золотыми ожерельями и браслетами. Генерал, скрипя зубами, выводил ее прогуляться на площадь. Она шла, высокая и цветущая, и как будто освещала собой ночь. Невозможно было не смотреть на нее. Мужчины, что сидели на скамейках или гуляли по площади, глядели на красавицу с тоской. Не раз генерал стегал их плетью, не раз давал пощечину Хулии, когда та отвечала на их взгляды. Но женщина, казалось, не боялась его и оставалась равнодушной к его ярости. Говорили, генерал ее выкрал откуда-то издалека; никто не знал, откуда именно, судачили также, что разбила она немало мужских сердец.
Жизнь в отеле «Хардин» была полна тайн и страстей. Жители соседних домов подглядывали со своих балконов за постояльцами в надежде увидеть красивых и экстравагантных женщин – любовниц военных.
Часто из отеля слышался смех Розы и Рафаэлы, сестер-близняшек, возлюбленных подполковника Круса. Обе северянки, переменчивые и темпераментные, и когда злились, то швыряли свои туфли на улицу. Если же дамы были довольны, то украшали волосы красными тюльпанами, одевались в зеленое и прогуливались, привлекая взгляды. Обе высокие и крепкие. По вечерам, сидя на балконе, сестры лакомились фруктами и дарили улыбки прохожим. Шторы в их комнате никогда не задвигались, и дамы щедро выставляли свою интимную жизнь на всеобщее обозрение. Вдвоем они возлежали на одной кровати с белым кружевным покрывалом, демонстрируя стройные ноги. Подполковник Крус, томно улыбаясь, ласкал их бедра. Крус был человеком добродушным и одинаково баловал обеих.
– Жизнь – это женщины и удовольствия! Как можно лишать женщин того, что они просят, если меня они ничего не лишают… – И он смеялся, широко открывая рот и показывая белые, как у молодого канибала, зубы. Долгое время весь Икстепек дивился паре серых лошадей с белыми звездами на лбу, которых подполковник подарил сестрам. Чтобы найти двух одинаковых, он объехал всю Сонору. – Женские капризы нужно удовлетворять! Неудовлетворенные капризы убивают. Мои девочки хотели лошадок, я дал им лошадок!
Любовница полковника Хусто Короны, Антония, была светловолосой и меланхоличной уроженкой побережья; она часто плакала. Полковник дарил ей подарки, заказывал серенады, однако ничто ее не утешало. Говорили, по ночам ее мучили страхи. Самая юная из всех, Антония никогда не выходила на улицу одна. «Она же совсем ребенок!» – восклицали дамы Икстепека с возмущением, когда по четвергам и воскресеньям, бледная и напуганная, Антония появлялась на людях под руку с полковником Короной.
Луиса принадлежала капитану Флоресу. Тот, как и прочие постояльцы отеля, ее побаивался – характер у дамы был весьма скверным. Старше капитана, маленького роста, с голубыми глазами и темными волосами, она ходила в платьях с глубоким декольте и без лифчика. По ночам Хулия слышала, как она ругалась на Флореса, а потом выходила в коридор и стучала туда-сюда каблуками.
– Не понимаю, что Флорес нашел в этой кошке, вечно она воет! – комментировал генерал с раздражением.
Он чувствовал неприязнь, которую Луиса испытывала к Хулии, а потому любовница его помощника была ему неприятна.
– Ты разрушил мою жизнь, негодяй! – Крики Луисы эхом отражались от стен отеля.
– Боже мой, жизнь так коротка, зачем ее тратить на ссоры! – замечал Крус.
– Вечно она ревнует, – отвечали близняшки, потягиваясь в постели.
Антония дрожала. Хусто Корона потягивал коньяк.
– А ты что скажешь? Я тоже разрушил твою жизнь?
Антония молчала, забившись в самый дальний угол кровати.
Франсиско Росас курил, ожидая, когда смолкнут крики. Лежа на спине, он наблюдал за Хулией – та лежала рядом, абсолютно невозмутимая. А что, если бы она хоть раз упрекнула его в чем-либо? Росас решил, что почувствовал бы облегчение. Ему было тяжко видеть ее такой пассивной и равнодушной, неизменно безразличной, приходил ли он или пропадал на несколько дней. Лицо Хулии, ее голос никогда не менялись. Росас напивался перед тем, как идти к ней. В полночь, по мере приближения к отелю, его охватывала тревога. С мутными глазами, прямо верхом на лошади, он приближался к дверям ее комнаты.
– Хулия, выйдешь ко мне?
В ее присутствии голос ему изменял, становился тихим, подавленным. Росас заглядывал Хулии в глаза, желая узнать, что его возлюбленная в них прячет. Она же уходила от его взгляда, склоняла голову, улыбалась, смотрела на свои обнаженные плечи и погружалась в далекий безмолвный мир, точно призрак.
– Пойдем, Хулия! – умолял генерал, и она, полураздетая, с улыбкой садилась к нему на коня. Они скакали галопом по моим улицам, отправляясь на ночную прогулку до Лас-Каньяс, к месту, где была вода. Поодаль за ними следовали подручные генерала. В полночь Икстепек слышал смех Хулии, но не имел права видеть ее при свете луны, верхом на лошади со своим молчаливым любовником.
В гостинице остальные женщины ждали возвращения своих мужчин. Луиса, в ночной сорочке, с лампой в одной руке, с сигаретой в другой, выходила в коридор и стучала в двери соседних комнат.
– Открой, Рафаэла!
– Хватит уже, иди спать! – отвечали ей близняшки.
– За Хулией приехали, не вернутся теперь до рассвета, – умоляла Луиса, прижав губы к дверной щели.
– Тебе какое дело? Иди спать…
– Не знаю, что со мной, живот тянет.
– Ну, иди к Антонии, она такая же полуночница, как и ты, – сонно отвечали ей сестры.
В соседней комнате Антония слышала их голоса и притворялась спящей. До ее слуха доносились звуки того, как Рафаэла в конце концов зажигала лампу. Антония с широко открытыми глазами натягивала одеяло и ощущала себя потерянной в этой странной темноте. «Что сейчас делает папа? Наверняка все еще меня ищет…» Прошло пять месяцев с тех пор, как полковник Корона похитил ее там, на побережье.
Луиса постучала в ее дверь. Антония зажала себе рот, чтобы подавить крик.
– Пойдем к девочкам! Нечего одной куковать.
Антония не ответила. Той ночью в дверь их дома точно так же постучали. «Антония, иди, посмотри, кто явился в такой час», – велел отец.
Девушка открыла дверь и успела заметить лишь сверкающие в темноте глаза. Ей на голову накинули плотную ткань, подняли на руки и вырвали из родного дома. Похитителей было много. Она слышала их голоса: «Сюда ее, быстро!» Другие руки подхватили ее и усадили на лошадь. Сквозь ткань Антония чувствовала тепло их тел: и лошади, и человека, который ее увозил. Лошадь скакала галопом, Антония задыхалась под покровом, как и сейчас, когда Луиса ее звала, а она пряталась под одеялом, не понимая почему. Парализованная страхом, девушка не осмеливалась ни пошевелиться, ни вздохнуть.
Мужчина остановил лошадь:
– Нельзя везти ее всю ночь под покрывалом, задохнется.
Антония увидела перед собой молодые глаза, которые смотрели на нее с любопытством.
– Она гуэрита [4]4
Светлокожая.
[Закрыть]! – удивленно воскликнул мужчина, и любопытство в его глазах сменилось грустью.









































