Текст книги "Период полураспада"
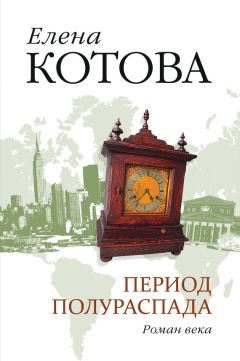
Автор книги: Елена Котова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Соломон пришел с работы – он работал старшим инженером по обработке и монтажу пленки на киностудии «Мосфильм» – в крайней озабоченности и, лишь поцеловав Катюшу и Алочку, прошел в комнату к Марусе. Несмотря на Марусино сдержанное отношение к семейству Хесиных, в серьезных вопросах Соломон считался лишь с ней. Даже в большей степени, чем с собственной семьей.
– Костю арестовали. В чем дело, Муся толком по телефону объяснить не смогла. Но это и в газете написано… На рудниках и шахтах вредительство, идут аресты инженеров и руководящих работников отрасли. Муся плачет, Костя, конечно тут ни при чем, это ошибка, несомненно… Он же работает на химзаводе, к рудникам отношения не имеет. Муся обивает пороги городского и областного НКВД.
– Наш Костя в тюрьме?
– Да… Маруся, как об этом сказать Кате?
– Нам надо что-то делать, – убеждала сестер Катя. – Слоник, надо написать письмо. Чтобы отсюда, из Москвы, дали правильную установку. Может, написать Орджоникидзе? Костя же с ним хорошо знаком… Милка, ты как думаешь?
– Никаких писем, – отрезал Соломон. – Сталину не дойдет. Писать другим бессмысленно, да и опасно.
– Почему опасно? Орджоникидзе, судя по рассказам Кости, порядочный человек.
– Катя, но мы же не знаем, а вдруг Орджоникидзе завтра сам проштрафится и наше письмо пойдет Косте во вред? – возражала Милка.
– Никому ничего не надо писать, – поддержала Маруся Соломона. – А вот съездить к Мусе, понять, в чем дело, это совсем другой коленкор.
– Ох, Маруся, – тут же меняла свою точку зрения Катя. – Не хочу, чтобы ты ехала в Донбасс. Одна, путь не близкий… А вдруг там и тебе находиться небезопасно? С кондачка такие вопросы не решают.
Сестры долго судили, рядили, похоже, Маруся и сама не так уж рвалась на баррикады, да и учеников бросить было нельзя. Приближался Новый год, сестры склонялись, что если Марусе и ехать в Горловку, то лучше к весне… Но к весне Костю, слава богу, выпустили. Следствие против него прекратили за полным отсутствием вины, даже «тонкой», о чем с напором рассказывала Муся. Что такое «тонкая» вина, сестры так и не поняли, да мало кто вообще это понимал: какое-то новое юридическое изобретение руководителя Верховного суда Вышинского, как путано объяснял сестрам Моисей.
Каким образом Косте удалось выпутаться из ситуации, вошедшей в историю как «шахтинское дело», сестрам понять было не дано. Вернувшись наконец в Москву, брат рассказывал, что в тюрьме его били, не давали спать, кормили селедкой, а потом не давали воды…
– Если бы не Муся, я бы пропал, – повторял он, утирая слезы. – Только она меня спасла. Куда только ни ходила, какие только пороги ни обивала. Какой это был ужас…
– Муся, как тебе это удалось? – такие вопросы могли задавать, конечно, только Катя с Милкой.
– Нашла людей, которые захотели помочь, – скупо отвечала Муся.
– Справедливых, которые разобрались во всем?
– Можно и так сказать… – перед глазами у Муси вставали картины тех страшных четырех месяцев: она сует в ресторане деньги энкаведешнику, стучит кулаком по столу в каком-то высоком кабинете… Один из двух следователей, мучивших Костю, пьет в ее доме чай, глядя на крутобедрую, со свежим перманентом Мусю, надевшую для гостя тонкие фильдеперсовые чулки и небрежно закидывающую ногу на ногу.
– Вот я и говорю, – размышляла Милка, – значит, все-таки сумели разобраться. Ведь в Донбассе вредительство выявляли, правильно? А какой же Костя вредитель? Но разобрались же!
По углам сквера у начала бульвара, охраняя памятник Гоголю, сидели львы с умильными, вовсе не хищными, мордами. Катя с пятилетней Лялькой и трехлетней Алочкой больше всего любила гулять по Гоголевскому бульвару. Они выходили из дома, проходили Собачью площадку, пересекали улицу у ресторана «Прага»… Катя неизменно напоминала девочкам, что обе они появились на свет в роддоме Грауэрмана напротив… Выходили к скверу и шли по бульвару в сторону Пречистенских ворот, теперь Кропоткинской площади, непременно посмотреть на храм Христа Спасителя.
Сестры считали, что приобщать девочек к искусству, литературе, музыке, истории никогда не рано; пусть не все запомнится и будет понято, главное – с рождения научить их чувствовать красоту и отличать истинные ценности.
– Ляля, Алочка, – говорила Катя малышкам, – семья, любовь к близким – самое главное в жизни. Любите нашу семью. Вы думаете, это только ваши папы и мамы, тетя Маруся, бабушка Дарья Соломоновна?
– Еще дедушка и тетя Рива! – кричала Алка.
– Правильно, а еще кто?
– Дядя Костя с тетей Мусей. А еще тетя Таня из Кирсанова!
– Правильно, Лялечка, только не тетя Таня, а Татьяна Степановна.
– А почему «тетя Муся» и «дядя Костя» можно, а «тетя Таня» нельзя?
– Лялечка, не перебивай. Лучше подумай, что у твоих бабушек и дедушек были свои папы и мамы. У нас с Милой и Марусей были тетушки, их звали Елизавета Павловна, Дарья Павловна и Мария Павловна. Жили они в имении под Тамбовом, и происходили из старинного дворянского рода. У них тоже были свои папы и мамы.
– У них были тоже тети и дяди?
– У них был дядя, его звали Василий Оголин. Давно, больше ста лет назад, на Россию напали французы. Ими командовал император Наполеон. А русскими войсками командовал маршал Кутузов. Тот собрал в свое войско лучших офицеров России и оборонял Москву от французов. Василий Оголин служил у него гренадером.
– Гренадером?
– Да. Он воевал на лошади, у него была сабля, большая шапка, и он был очень храбрым. Русская армия долго сражалась с войсками Наполеона и победила их. Французов, которые почти сожгли Москву, погнали далеко-далеко, через всю Европу, чтобы они больше никогда не думали нападать на Россию.
– Французы плохие?
– Они были плохие, когда решили пойти войной на нас, но это было очень давно.
– Они исправились с тех пор?
– Они поняли, что война – это горе, лучше жить в мире. Так вот, после того, как русская армия разбила Наполеона, русский царь велел построить этот храм.
– Царь – это как Ленин тогда?
– Ляля, не болтай глупости. Посмотрите, девочки, лучше на храм. Такую красоту соорудили именно в память о победе в той войне. В память о русских героях. Вон там, под куполом – это называется фронтон – написаны слова. Это имена самых храбрых офицеров и генералов, которые воевали с Наполеоном. Когда вы научитесь читать, вы прочтете, что там есть и имя Василия Оголина, вашего прадедушки.
– Прадедушки?
– Алочка, Василий Оголин приходился дядей Степану Ефимовичу, моему и Милкиному папе. Значит, Степан Ефимович был ваш дедушка, а Василий Оголин – прадедушка. Вы это запомните, и когда будете гулять, вы сможете всегда прочесть это имя на фронтоне храма и будете гордиться своим прадедушкой. Будете гордиться, что его имя видит вся Москва, вся Россия, потому что он защищал Москву от врагов. Защищал наши семьи.
Девочкам не довелось самим прочесть имя прадеда на фронтоне храма Христа Спасителя. В декабре того же, тридцать первого года, как раз накануне дня рождения Алочки-Наталочки, по решению власти храм взорвали. Кануло в лету имя Василия Оголина.
– Почему надо было уничтожить именно этот храм? – горевали Катя с Милкой. – Понятно, что власть борется с религией, просвещает народ. Но столько церквей стоит по всей Москве. Службы в них, конечно нет, но они же такие красивые… А уничтожить самую красивую из них, зачем?
– Как главный символ религии, так я думаю, – вздыхала Маруся. – Страшно жаль, конечно. Говорят, на этом месте будут строить какой-то огромный Дворец Советов, символ новой власти.
Катя и Милка шли на кухню, возиться у плиты. Марусе давно пора бы выйти замуж, а у нее в голове одна музыка и работа. И Шурке Стариковой нельзя так увлекаться только карьерой. Да, она невероятно талантлива, выступает с сольными концертами, нарабатывает известность, влюбляется постоянно, но ей нужна семья. Важнее семьи же нет ничего! Сейчас она страшно влюблена в безумно талантливого поэта. Надо, чтобы Маруся убедила Шурку привести его в гости на Ржевский. Говорят, он обещает стать знаменитостью! Взглянуть бы хоть одним глазом…
Тем временем Костя с Мусей получили взамен двух комнат на Покровке отдельную квартиру в районе Таганки. Это было признание Костиного вклада в развитие химической промышленности, его незаменимости, считали сестры, и радовались за него. Костя так и не изжил в себе влюбчивости, от чего Муся страдала, нередко бросаясь на мужа со всем своим хохляцким напором, но с годами привыкла, махнула рукой на сердечные драмы собственного мужа, повторяя сестрам, что никуда муж от нее, Муси, не денется. Если что, она сумеет за себя постоять. Милка с Катей не могли представить, в чем именно состояли Костины драмы, ведь сердцу не прикажешь! Они лишь жалели брата и сочувствовали Мусе. Соломон и Моисей над Костей подсмеивались, одна Маруся серьезно беспокоилась за психику брата. Костя, и так крайне чувствительный, после месяцев, проведенных в тюрьме, превратился в оголенный нерв, сбивчиво сетуя и на свою работу, и на семью, и на Мусину бездетность. Время от времени рассказывал – опять-таки Марусе – о своей очередной любви, связать жизнь с которой ему не суждено – по самым разным, всегда одинаково безысходным причинам. Он лелеял мысль о том, как покончит с собой, таскал с работы смертельные химические составы, пряча их в квартире сестер. Убираясь, сестры натыкались на бутылочки с ядами, выбрасывали их, устраивали Косте скандалы, взывали к его разуму… Потом успокаивались: что можно сделать с Костиными настроениями?
Шурка не успела привести гения-поэта познакомиться с Кушенскими. Гений бросил ее, и Шурка прибежала к Марусе в рыданиях. Горе ее было так безутешно, что Маруся не могла отпустить ее домой. Она отпоила Шурку чаем, уложила спать в своей комнате на диване, сама устроившись на полу. Утром, когда ей надо было уходить в Гнесинку, Шурка спала, разметав копну волос по подушке, без всхлипов и стонов. Ее лицо выглядело просветлевшим, и Маруся, решив, что теперь главное – дать Шурке хорошенько выспаться, – отправилась на работу. Шурка встала поздно, долго завтракала с Катей и Милкой, играла с девочками, затем отправилась к себе домой… На следующее утро Марусю разбудил звонок Шуркиной соседки: беда, Шурка отравилась! Выпила уксусной эссенции, стоявшей на полке у Дарьи Соломоновны.
У Шурки были сожжены гортань и пищевод, она корчилась в муках, проклиная себя и умоляя ее спасти. Сиплым шепотом и жестами объясняла Марусе, прибежавшей к ней в больницу, что после ухода той на работу она искала по всей квартире Кушенских какой-нибудь яд, из припрятанных Костей. Не найдя, схватила бутылку уксуса на кухне и, убежав к себе домой, выпила. Промучившись еще два дня, Шурка умерла.
– Что за люди, – повторял Трищенко, выходя вечером на кухню. – Что за люди, какого рожна им надо? Не работают, а государство деньги им платит неизвестно за что. За то, что они на балалайках бренчат. Так нет, все им не по душе. Уксусом травятся! Нехорошая квартира…
Лялька и Алочка пошли в школу. Лялька была жизнерадостной, не избалованной и не подверженной капризам упитанной девочкой с прямой стрижкой и неизменно ясным, приветливым взглядом. Алочка – маленькая, хрупкая, темноволосая и черноглазая, постоянно капризничала, плохо ела и была естественной мишенью для издевок мальчишек в классе, за которыми стояло желание привлечь к себе внимание самой красивой девочки класса. Их любимой забавой было подстеречь Наташу Хесину после школу, взять ее «в плен», сложив каре из переплетенных лыжных палок, и в нем вести Наташку до дома. Это было очень унизительно, Алочка страдала.
Темно-серый четырехэтажный особняк дореволюционной постройки, стоявший наискосок от дома восемь на другой стороне Большого Ржевского переулка, называли «маршальским домом». Из маршалов там, пожалуй, никто и не жил, но жили другие, известные военачальники: командармы первого ранга Якир и Уборевич, армейский комиссар первого ранга, начальник политуправления РККА Гамарник, командующий Московским военным округом генерал Шиловский. Именно из этого дома в конце тридцать пятого начали исчезать люди. Как правило, по ночам. Шум подъезжавших к «военному дому» черных машин, блики фар, звук захлопнувшегося за людьми с околышами подъезда, еще какие-то страшные шорохи… Возможно, лишь кажущиеся крики и рыдания, доносившиеся на шестой этаж противоположной стороны улицы, и вновь рокот мотора, раскалывавшего ночную темень, будили обитателей «нехорошей квартиры». При свете дня Катя, Маруся и Милка избегали обсуждать ночные звуки.
Девочки, Лялька и Алочка, обожали спать вместе, а Соломон, баловавший Алочку сверх всякой меры, то и дело уступал им полуторную кровать, устроившись сам вместе с Катюшей на раскладном сером диване.
В середине тридцать шестого года начались ночные визиты и в дом на Ржевском. Лежа ночью без сна в постели, Лялька и Алочка обнимали друг друга и шептались, чтобы не разбудить родителей: «Слышишь, Алка, лифт опять поднимается. Второй этаж, третий… Только бы не к нам… Четвертый….»
– Лифт захлопнулся, слышала? Кажется, звонят. Точно четвертый…
– Нет, пятый. Но все равно не к нам….
– А вдруг они потом к нам?
– Не придут. Они только в одну квартиру в ночь приходят.
– А вдруг придут?
– Слышишь, дверь опять хлопнула, лифт вниз поехал. Уже сегодня не придут, спи, давай.
Наутро ночные страхи отступали, начинался новый день, Катя приносила из кухни манную кашу – единственное, что могла есть Алка по утрам, и то давясь и капризничая. Милка делала девочкам бутерброды в школу, Катя заплетала дочери косу, вкалывала Ляльке в волосы белый бант, помогала девочкам натянуть на плечи ранцы и провожала до двери.
Девочки радостно скакали вниз по лестнице, прыгали по квадратикам мрамора на лестничных площадках: ноги вместе, врозь, наперекрест, как в классы… Останавливались, добежав до этажа с дверью, опечатанной сургучной печатью…
– Я же сказала, что четвертый этаж, а ты: «пятый, пятый». Опять не угадала…
– Пока мы в школе будем, из этой квартиры мебель вывезут, они всегда так делают. Ночью людей забирают, а в обед вывозят мебель, да, Ляль?
– Потом квартира постоит пустая, а потом в ней кто-то новый поселится. Бедная нехорошая квартира.
Зеркальный вестибюль выпускал девочек на улицу, они шли мимо «военного дома»… Почти каждую неделю прямо у них на глазах из дома вывозили мебель на грузовиках, крытых брезентом. Лялька и Алочка вздыхали, жалея обитателей очередной нехорошей квартиры, и спешили на занятия в школу.
Приобретения и утратыВысокий, черноволосый и громкоголосый Владимир Ильич появился в квартире на Большом Ржевском и в Марусиной жизни в тридцатом году. Он был добр, терпим и неизменно весел, звал Катю и Милку «сестренками», любил крепко выпить с их мужьями, сыграть партейку в шахматы, а лучше в карты или в домино. Оставить Соломона в дураках, а Мосю заставить покричать под столом козлом.
Годы войн – германской и гражданской – Владимир Ильич провел на фронте, хирургом, как и Чурбаков, с которым они работали бок о бок и так сдружились, что после войны Владимир Ильич поселился в Кирсанове. Там, в один из приездов к Чурбаковым, Маруся и познакомилась с ним, еще в двадцать пятом году. Пять лет Милка с Катей шептались на кухне, недоумевая, почему Маруся тянет со свадьбой. Ясно же, что Владимир Ильич – ее судьба, и сестра дожидалась именно его, такого же сильного, как она сама. Маруся, верная себе, по-прежнему скупо и неохотно делилась с сестрами. Владимир Ильич уже успел овдоветь, более того, в послужном списке его значился год «отпуска по семейным обстоятельствам». Кому давали отпуска для скорби об умершей жене в те годы? Что это был за отпуск и куда командиры отправляли Володю, Маруся могла только догадываться. Лишь в тридцатом году Володя переехал в Москву и поселился, как и мужья младших сестер, в комнате своей невесты.
– Они прекрасная пара, правда, Милуша? – в который раз спрашивала сестру Катя.
– Конечно, Катюша, ты и сама это понимаешь не хуже меня.
– Вот, например, Слоник… Я бы не могла представить его Марусиным мужем, – задумчиво помешивая суп, продолжала Катя. – А как прекрасно, что они сразу подружились с Моисеем, да, Милуша? Играют в шахматы по вечерам…
– Сегодня в домино будем все вместе играть. Маруся этого не одобрит, ну да и ладно. А я люблю домино. Вчетвером. Мосенька мой опять козлом будет мекать. Вечно он проигрывает. Катя, к ужину будут пироги, имей в виду, – Милка заглянула в духовку.
Дочь Ирину, меньше года спустя появившуюся у Маруси с Владимиром Ильичом, в семье, конечно, тут же стали звать «Иркой», а Володя повторял, что квартира превратилась в женский батальон. Ирка была толстеньким жизнерадостным карапузом, на четыре года моложе Алочки, и на пять – Ляльки. Она обожала своих сестер – никому в голову не приходило называть их двоюродными, они все были родными, – лезла к ним на колени, требовала их внимания, а те играли с ней, как с куклой. Наряжали Ирку в материнские халаты, напяливали шляпы, раскрашивали лицо губной помадой, вытащенной без спросу из ящика Марусиного шкафа, тискали и вертели сестру, пока не доводили ее до слез и крика.
У Ирки, растущей в тени Ляльки и Алочки, с раннего детства было чувство не то что ущербности, скорее досады, что она маленькая и неуклюжая. Ляльку и Алочку любят потому, что они такие… А ее Ирку любят просто так. Конечно, она никогда не станет такой принцессой, как Алочка, это она поняла еще года в четыре. Войдя в комнату тети Кати и дяди Соломона, такую большую, такую светлую по сравнению с угловой сыроватой комнатой ее родителей, где ее кроватка стояла задвинутая между этажеркой и роялем, Ирка застыла с открытым ртом.
Восьмилетняя Алочка сидела на шкафу, качая ногой взад-вперед створку шкафа.
– Папа, не хочу, не буду кушать…
Соломон стоял перед дочерью, держа в руке тарелку с жареной картошкой-соломкой. Он цеплял на вилку по ломтику и протягивал ломтик Алке, а та капризно тянула: «Папа, не хочу, не буду…»
– Алочка, ты же больше всего любишь жареную картошку. Я сам тебе ее приготовил.
– Не-ет, я не люблю картошку…
– Я же тебя спрашивал, что ты хочешь, а ты сказала: «Хочу картошку соломкой… жареную».
– Я хотела молока-а-а…
– Съешь еще шесть кусочков и будешь пить молоко. Всего шесть. Вот, один…
– Я уже не хочу молока-а-а… И картошку не хо-о-чу-у…
– Дядя Слон, давайте я съем картошку, – радостно предложила Ирка.
Теперь они гуляли по Гоголевскому бульвару с тетей Катей уже втроем – Лялька, Алочка и Ирка или по улице Воровского – от Верховного суда до скверика у театра. Они шли по тротуару, старшие девочки оживленно разговаривали с тетей Катей, Ирка их слушала. Лялька и Алочка не замечали, что то и дело толкают Ирку, и та оступается с тротуара на мостовую. Ирка терпела, но потом жалобно, но возмущенно воскликнула: «Не пи́хайте меня на конёчик».
В Кирсанове же жизнь шла своим чередом. Тамарка, выросшая, как и предсказывали сестры еще в Тамбове, в бой-девицу, грозу всех мужчин, имела к ним явную слабость, столь не свойственную женщинам рода Кушенских. Еще в начале двадцатых она отправилась в Орёл, где закончила медучилище и встретила своего будущего мужа.
Сергей Касименко был начальником на Орловском конном заводе. Был он мужик широкий, любитель крепко выпить, азартно резался в карты, исключительно в преферанс, всегда на деньги и по-крупной. Иногда выезжал и за границу – на международные конные выставки, где так славились орловские рысаки. Тамарка окрутила его во мгновение ока, вышла замуж и родила дочь, названную в честь бабушки Татьяной, которую, по семейному обыкновению, тут же стали звать Таточкой или Таткой.
Через какое-то время Тамарка бросила Касименко, о чем московские сестры говорили обиняками, поскольку толком ничего не понимали. Во всяком случае, Тамара, сопроводив свой отъезд из Орла какими-то туманными объяснениями, отбыла, кажется, в Сталинград. Через пару лет вернулась в Орел, сделав вид перед московскими тетушками, что ничего не происходит. Прожила с Касименко с год – Катя поехала ее навестить, с трудом отпросившись у Соломона, страшно противившегося этой затее, повторявшего, что жена бросает дом и дочь без присмотра, хотя квартира кишела родственниками, включая его собственную мать. Вернувшись, Катя сообщила, что живут Тамарка и Сергей плохо, Сергей много пьет, пропадает ночами якобы на своем заводе, а скорее всего, режется с приятелями в карты, а Тамарка «от него гуляет». Еще через полгода или год Тамарка снова уехала из Орла – в какой именно город, впоследствии сестры толком и вспомнить не могли. Возможно, что снова в Сталинград, где у нее был все тот же, а может, и другой роман с директором крупного завода. Татку она подбросила родителям – на время. В тридцать седьмом директора забрали, но Тамарка встретила новую пассию и возвращаться в Орел отказывалась, говоря, что с Сергеем у нее «все кончено». Николай Васильевич Чурбаков несколько раз встречался с Касименко, тот просил родителей повлиять на дочь, клялся, что бросил пить, да и пьет лишь от любви к Тамаре. Тамара упрямилась, твердила о какой-то вине Сергея, которую она не может простить. Дело кончилось тем, что Николай Васильевич удочерил внучку, жившую с ним и с Таней в Кирсанове, и поставил крест и на дочери, и на зяте.
Из этого периода жизни всем московским сестрам и их дочерям – Ляльке, Алочке, Ире – больше всего запомнилось лето именно тридцать седьмого года, заполненное особенно жарким, особенно безмятежным и солнечным счастьем.
Семья сняла дачу в Жаворонках по Белорусской дороге, один дом на всех. Соломон, конечно же, занял со своей семьей крыло с отдельным входом – две комнаты и застекленную веранду, – поселив там помимо Катюши и Алки своих родителей и Риву, по-прежнему не работавшую, занятую в основном собой, а кроме себя – лишь Алочкой, с которой она и занималась, и играла… Целовала, сюсюкала, подсовывала, тайком от Кати, шоколадные конфеты, избаловав девочку уже окончательно.
В другом крыле, с открытой террасой и двумя просторными комнатами, жили семьи Милки и Маруси. Через дорогу сняли дачу Костя с Мусей. «Шахтинское дело» было забыто, Константин Степанович занимал место доцента в Институте стали, заведовал лабораторией в своем «Гинцветмете», переименованном в «Гиредмет» – Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности при Наркомате тяжелой промышленности. Только что был снят нарком Орджоникидзе, на его место был поставлен некто Межлаук, но поговаривали, что и его со дня на день сменят, причем не на кого-то, а на самого Лазаря Кагановича. Сестер заботило лишь то, чтобы эти перестановки не затронули их Костю. На месяц в Жаворонки приехала Татьяна Степановна с годовалой Таткой.
Такого полного, как в то лето, счастья, как казалось сестрам, у них не было со времен детства, с имения Оголиных. Вся семья была вместе, а о тех ветках семейного дерева, которые незаметно отсохли – о Николаше и Оле, – горевать было некогда, да и зачем, если радость от того, что в Жаворонках удалось собрать остальных, превращала каждый день в праздник.
Дарья Соломоновна царила на кухне, правда, готовила она только для Хесиных, питавшихся отдельно, зато щедро раздавала указания сестрам. Маруся и Катя ходили с девочками по утрам купаться на реку, целый день был занят хлопотами по дому, которые, как известно, никогда не кончаются, а часам к шести Маруся, Катя и девочки, а изредка и Милка со своими костылями шли на станцию, встречать поезда из Москвы. Мужчины, как правило, встречались в Москве на вокзале и приезжали вместе: Костя, Соломон, Моисей и Владимир Ильич.
Первым делом шумная, пыльная и потная компания шла на реку купаться, долго, с наслаждением. Володя плавал саженками на другой берег реки и обратно, Соломон и Моисей держались ближе к берегу. Женщины следили, чтобы девочки, не дай бог, не наглотались воды, вытаскивали их, визжавших, из воды, растирали – именно растирали – полотенцами, несмотря на жару и марево закатного солнца. Возвращались домой, где Милка уже накрывала стол. Садились ужинать, конечно, неспешно, конечно, под водочку: «Маруся, всего одну поллитровочку на четверых», – смеялся Володя.
После ужина он с Таней и Костей садился играть в преферанс, четвертым прихватывая чаще всего Моисея: Маруся, Катя и Слоник умели играть в преферанс, но без должного азарта. Азарт же был обязателен и для Володи, и для Татьяны Степановны, ставшей в Кирсанове знатной преферансисткой.
На террасе жужжали комары, Таня и мужчины курили папиросы, Катя и Милка, покончив с посудой, присаживались за спины мужьям, давая им советы:
– Ты, Мося, думаешь вистовать? Я бы, пожалуй, не решилась.
– Нет хода, не вистуй! – Володя нетерпимо относился к ошибкам партнеров. – Опять игру испортишь, Мося! Пасуй и карты на стол, за тебя сыграем.
По субботам – рабочая неделя была шестидневная – мужчины приезжали рано, к обеду. Долгое застолье после купания переходило, как правило, в танцы под патефон. Владимир Ильич и Соломон – страстные и умелые танцоры – кружили всех женщин по очереди, Володя флиртовал с Ривой, все смеялись, блаженствуя в атмосфере веселья, которую умел создать только он. Он же в воскресенье поднимал мужиков ни свет ни заря колоть дрова, потом они наперегонки таскали воду из колодца, наполняя огромный чан, чтобы воды женам хватило на всю неделю. Обязательным воскресным развлечением был волейбол, пикник на реке… «Дядя Володя, а на плечах покатать», – приставали к нему Лялька и Алочка. Владимир Ильич бегал, взбрыкивая ногами, придерживая на плечах поочередно то одну, то другую племяшку, крича «иго-го!», а Ирка наконец ощущала себя самой главной из трех сестер – у нее был самый лучший папа.
Осенью Лялька подхватила в школе свинку, которая перешла в отит. Опухшая, с высокой температурой, Лялька лежала в постели. Температуру никак не могли сбить, с каждым днем девочке становилось все хуже, болезнь перешла в менингит. Лялькина мордашка, всегда кругленькая, тугая, заострилась, просвечивала жутковатым серо-сиреневым оттенком, жар не хотел спадать, отек тоже. Милка не отходила от постели дочери, меняла компрессы на лбу, кипятила шприцы на плите к приходу медсестры, делавшей Ляльке дважды в день укол жаропонижающего. Знаменитого детского врача Шапиро приглашали почти каждый день, он с состраданием говорил Кате и Марусе, что бывали случаи, когда менингит проходил сам собой, уверял, что делает все возможное. Правда, мало что было и в его силах, остановить воспаление в мозгу медицина была тогда бессильна. Милка и сестры жили только надеждой. Лялька умерла в конце ноября.
Горе, как и всегда, семья переносила мужественно, но, конечно, не плакать по ночам Милка не могла. Моисей, не в силах видеть ее слезы, нервно куря «Беломор», ходил в пижаме по коридору, шаркая тапочками. Маруся с Володей просыпались, лежали бок о бок без сна в постели. Катя просыпалась тоже, рвалась к Милке, но Соломон ее не пускал.
Дарья Соломоновна, ограждая свою жизнь от страданий, окончательно взяла Катю в оборот, шикала на нее, когда та направлялась к Милке в комнату, тут же поручала ей какое-то задание по хозяйству, на что Катя послушно отвечала «да, конечно». Соломон завел моду гулять с женой и дочкой после работы, подальше от Милкиных слез. Катя никогда и никому не умела перечить. Она была поистине ангелом, что первым подметил Чурбаков еще в Тамбове. Она не размышляла над тем, что оказалась на побегушках у Дарьи Соломоновны, не задумывалась над тем, сколь несовместим дух Кушенских с укладом семьи Хесиных. Милка с Марусей считали, что Катя растворилась в семье Хесиных, служит только своему Слонику, но это было не так, Катя служила им всем. Тихим ангелом она проходила по квартире, оберегая покой ее обитателей, таких разных и живших вместе в радости, скорее всего, благодаря именно Кате.
Следующим летом снова сняли дачу на всю семью, на этот раз в Дятлово, очень далеко от Москвы. Снова все были вместе, но не приехала Таня Чурбакова, остались в городе Костя с Мусей, у которых только что наконец родилась дочь Марина. Мужчины уже не могли приезжать в Дятлово после работы, лишь на выходные. Дарья Соломоновна ворчала, что оставленные без присмотра мужчины, включая ее мужа, непременно в Москве пьянствуют под дурным влиянием Владимира Ильича. К концу лета Милка ошарашила всех новостью: она снова забеременела. Врачи категорически запрещали ей рожать: так и не прошедшее хроническое воспаление тазобедренных суставов при родах могло вспыхнуть с новой силой и с непредсказуемыми последствиями. Врачи не исключали ни возможность полного паралича ног, ни смерти. Но Милке нужен был ребенок, который помог бы ей примириться с утратой Лялечки.
Зимой тридцать девятого года родился мальчик, последний отпрыск межвоенного поколения семьи Кушенских. Моисей встречал Милку на пороге роддома Грауэрмана, куда она с трудом вышла на своих костылях. Катя и Маруся поддерживали сестру под руки, они шли по Собачьей площадке и Большой Молчановке, смеясь и плача от счастья. В прихожую на звонок высыпали все: Соломон, его родители, Рива, семья Моравовых. Моисей приподнял на руках сверток, из которого торчало сморщенное лилово-красное личико с закрытыми глазами, и произнес:
– Прошу любить и жаловать: Михаил Моисеевич Айзенштейн.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































