Текст книги "Период полураспада"
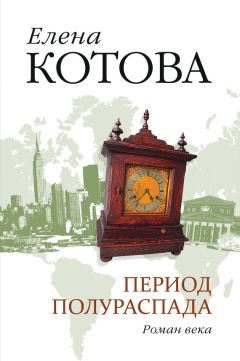
Автор книги: Елена Котова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Маруся, меня отправляют в Западную Белоруссию, – осенью того же года объявил Владимир Ильич.
– Когда, Володя?
– Уговорил начальство дать мне на сборы и обустройство семьи две недели. Сама знаешь, особо не поспоришь, все нервные, подозрительные. Но удалось. У нас водочки нет?
– Найдем… Володя, значит, ты едешь на войну?
– Да что ты, какая война! Красная армия вошла в Польшу без единого выстрела!
– Неправду говоришь, ну да бог с ним. Ты уже знаешь, где ты будешь?
– Военная тайна, дружок! Но по секрету скажу: на границе с Литвой. Точнее даже тебе сказать не могу.
– Не можешь?
– Шучу, шучу, сам не знаю. Командование еще само не определило дислокацию госпиталя.
– Госпиталя? Значит, все-таки там бои…
– Маруся, нет там боев, как ты выражаешься. Ну, рванет что-то изредка, ну, иногда местные перестрелки… Но редко, уверяю тебя… Так водочка-то мне сегодня положена?
– Сейчас схожу к Милке. У нее всегда что-то припрятано.
– Знаешь… Не зови сегодня никого. Хочу с тобой вдвоем посидеть. И с Ирочкой. Потом уложим ее, и опять вдвоем.
Новый, сороковой, год встречали, как всегда, вместе. Милка еще до конца не оправилась после рождения Мишки, но виду не подавала, напекла пирогов, как обычно. Катя сделала торт «Наполеон», а Маруся – пирог со смородиновым вареньем, перетянутым тонкими полосочками теста крест-накрест. Но за новогодним столом не хватало Володи с его прибаутками, остро ощущалось небытие Ляльки. Мишка то и дело принимался плакать, и Милка бегала в свою комнату его убаюкивать, Алочке и Ирке, которых уложили спать, как обычно в новогоднюю ночь, ровно в половине первого в Марусиной комнате, не спалось, они прибегали к взрослым, просили еще пирога, хотя есть им не хотелось, просили разрешить еще посидеть, хотя глаза их слипались. Соломон рассуждал о том, что войны не будет, Моисей его поддерживал, приводя какие-то неоспоримые доводы, сестры слушали. Всем хотелось верить в лучшее, но застолье так и не сложилось в обычное для семьи новогоднее веселье. До танцев дело не дошло, но до трех ночи все прилежно играли в лото, и Соломон, как и обычно, доставая числа-бочонки из холщового мешочка, выкрикивал: «барабанные палочки», «туда-сюда», «чертова дюжина», а сестры прилежно закрывали пуговками и монетками поля на своих карточках…
Всю зиму и весну Маруся читала письма, регулярно приходившие от мужа. Сначала сама по нескольку раз, потом вслух – Катюше и Милке. Когда укладывала Ирку спать, та просила: «Прочитай еще раз папино письмо», – и Маруся читала письмо еще раз. Много лет спустя Ирина Владимировна утверждала, что письма отца были столь откровенными, что она не понимала, как они вообще доходят. Отец писал, что в армии все поставлено из рук вон плохо, что ее готовят явно к войне, но допускается много откровенных глупостей, и это крайне тревожно. Действительно ли восьмилетняя Ирка понимала это, или так ей стало казаться десятилетия спустя? Действительно ли отец писал о разрушении на его глазах армии, о бездарно выстраиваемой на его глазах то ли линии обороны, то ли плацдарма наступления, или это были Иркины взрослые мысли, вычитанные в книгах? Маруся ходила внешне невозмутимая, говорила лишь, что они поедут на все лето в гости к отцу после окончания занятий в школе, чтобы третье июня – день рождения Иры – встретить всей семьей.
В это тоскливое время в квартиру, где не было Ляльки, где поселилась Марусина тревога о муже, нагрянула Тамара, то ли из Сталинграда, то ли из Волгодонска…
– Я только на два дня…
– Тамарка, какое счастье! Что же ты не предупредила, мы бы тебя встретили, – Катя и Милка суетились, готовили Тамаре ванну, а та сидела в Милкиной комнате, куря «Беломор». Невысокая, пышная, с крутыми бедрами, большими черными глазами, в которых плясала дьявольщинка… «Определенно, дьявольщинка», – приговаривала Катя на кухне, торопливо готовя праздничный стол: Тамарка всегда жаждала праздника.
– Маруся, а где мужчины? Володя, Моисей?
– Володя в армии, ты разве не знаешь?
– В армии? Откуда же мне это знать? И где он служит?
– В Западной Белоруссии… Моисей придет поздно, у него концерт в консерватории.
– Так что, выпить совсем не с кем? Соломон, ну-ка со мной за компанию. Сестра приехала в кои веки, грех не отметить…
– Мы тебе в Милкиной комнате постелили. Ничего, что на полу?
– Ну раз кровати не нашли, что ж с вами поделать, – засмеялась Тамарка хрипловатым прокуренным смехом. – Рассказывайте, как живете. Давно я у вас не была. Даже не знала, что Володя в армии! Да, кстати, я не одна приехала, с мужем. Да-да, собираемся расписываться. Мы как приехали, он сразу в учреждение, он тут в командировке. Но я сказала: «Никаких гостиниц, у меня в Москве семья». Со мной же его в гостиницу не поселят… Велела, как освободится, сюда приходить. Так что мы вместе переночуем… ну, раз на полу, значит, на полу.
– Тамара, ты никогда не писала, что у тебя новый… муж… Кто, откуда? А что мама, что Татка? – засыпали Тамарку вопросами сестры.
– Все в порядке. Летом ездила в Кирсанов, виделись. Татка растет на воздухе, под присмотром, что ей с матерью по городам мотаться.
Ближе к ночи появился Тамаркин ухажер. Соломону пришлось и с ним выпить, но разговор не клеился, сестрам странно было видеть в доме совершенно чужого человека, о существовании которого ни Тамара, ни ее мать, Татьяна Степановна, никогда им не писали.
– Ну все, спать, спать… – Тамара стала решительно отодвигать стол с остатками ужина к окну. – Мил, давай быстро убирай это все, нам завтра вставать рано. Где нам ложиться?
Утром Катя вышла в кухню, как обычно, в семь, готовить завтрак. На табуретке, глядя на закипавший чайник, сидела Милка.
– Милуш, ты что так рано на ногах?
– Ах, Катя, мы всю ночь не спали… На полу, на матрасе, в чужом практически доме… Я не о Тамарке, а об этом… Но как Тамарка могла его привести?
– Я тоже подумала вчера: «Какой он ей муж…» Глупости одни. Что, действительно, они не дали вам поспать? Почему?
– Ах, Катя… – только и смогла вымолвить Милка.
Ирку не занимало, отчего место, куда они на лето приехали к отцу, называлось Воропаево, хотя это была Польша, теперь, правда, присоединенная к Белоруссии.
Госпиталь размещался в огромном имении, раненых было раз-два, да обчелся. На лето комиссары и врачи, особо ничем не занятые, привезли жен и детей. По вечерам все принаряжались и отправлялись на прогулку по аллеям, раскланивались при встречах, заходили то в один дом выпить чаю, то в соседний… Ирке все казалось праздничным и роскошным, не то что на даче под Москвой… Хотя на даче было тоже хорошо.
Женщины почти не готовили, в столовой для комсостава готовили прекрасно. Днем они с детьми отправлялись шумной стайкой на реку. Огромная запруда на ней походила на озеро, кувшинки на ней напоминали Марусе Цну в имении Оголиных. По выходным сражались в волейбол, устраивали в лесу пикники.
Ирку поражало несметное количество охраны, часовые на вышках, колючая проволока, протянутая поверх чугунной ограды с оштукатуренными кирпичным белыми колоннами. За территорию госпиталя выходить не рекомендовалось, но Владимир Ильич обзавелся приятелями из местных и «в город», то есть в Воропаево, ходил регулярно.
Лето прошло замечательно, Ирка посвежела, Маруся тоже повеселела, несмотря на то, что Володя то и дело обсуждал с ней неизбежную, по его мнению, войну, говорил, как не подготовлена к ней армия, какая это нелепость так выдвинуть передовую, «оголить голову перед Гитлером». Не то что он в силах был держать эти мысли в себе, скорее считал необходимым подготовить жену ко всему.
Маруся ждала, что мужу дадут отпуск хотя бы на Новый год, но этого не случилось. Весь год он по-прежнему писал письма, которые снова Маруся читала по несколько раз сама, а потом вслух дочери и сестрам, к лету снова засобиралась ехать с дочерью к мужу. На этот раз Володя, чьи письма становились все более тревожными, был категорически против. Но Ирка жаждала праздника, да и Маруся рвалась увидеть мужа.
Как и год назад, выехали они из Москвы тридцатого мая, снова поездом, с пересадками. Поезда были почти пустыми, ехали только военные по своим делам. Они поражались, что Маруся едет на запад, да еще с ребенком, повторяя: «Куда вы едете, не сегодня-завтра начнется война».
Алочку же тем летом впервые отправили в пионерский лагерь Министерства культуры: Соломон, как и прежде, работал на «Мосфильме». С весны на киностудии ввели круглосуточные дежурства старших инженеров. В ночь на двадцать второе июня Соломон был как раз на дежурстве, когда раздался звонок из наркомата… До полудня, пока не услышал речь Молотова, Соломон метался по пустынной киностудии, все еще не веря в происходящее. Катенька одна дома, сходит с ума по дочери. Он не ушел домой, когда кончилась его смена, а дождавшись ночи, велел шоферу киностудии срочно ехать в лагерь.
Грузовик мчался мимо Калужской заставы, мимо Кремля, вверх по проспекту Маркса, к памятнику Дзержинскому и дальше, вверх по бывшей Сретенке к Ярославскому шоссе. Со стороны Замоскворечья уже поднималось солнце, улицы были пустынны, в воздухе разлилась бледная дымка занимающегося летнего дня. Соломон все просил водителя «поднажать», еще неизвестно, как отнесется начальство к тому, что он самовольно распорядился грузовиком. В лагерь они приехали около пяти. Уже кончились первые сутки войны.
Оставив грузовик за воротами, Соломон прошел по пустым аллеям, уставленными гипсовыми барабанщиками, горнистами и пионерками, отдающими салют. Разбудив начальника, точнее командира лагеря, который спросонок не мог понять, зачем приехал отец Наташи Хесиной, объяснил, что хочет немедленно забрать дочь. Командир, мужчина лет тридцати пяти, почесав в затылке, покряхтев и повздыхав, согласился: «Только, прошу вас убедительно, ради бога, тише. Вчера тут такие слезы были, такой крик… Если дети проснутся, вам просто не дадут уехать…» Командир повел Соломона через лабиринт дощатых лагерных корпусов. «Вот ее палата», – сказал он, подойдя к раскрытому окну.
Алочка сквозь сон услышала какой-то родной звук: «Фью-фью…» Ля-ре… ля-ре. «Мама», – подумала она, зарываясь лицом в подушку, и тут же, поняв, что это свистит её папа, села в кровати, озираясь. Ля-ре… фью-фью. Она подбежала к окну: «Папа?»
– Тише, не разбуди остальных, – приложив палец к губам прошептал отец.
– Что ты тут делаешь? – Алка тоже перешла на шепот.
– Где твои вещи?
– В чемодане, под кроватью, как у всех.
– Быстро неси чемодан…
– Зачем, пап?
– Мы уезжаем.
– Правда? – обрадовалась Алка. Метнулась к своей койке, вернулась к окошку. – Пап, держи чемодан.
Отец поставил чемодан на траву и протянул руки к дочери:
– Иди ко мне, доченька. Вылезай в окно.
– Папа, а почему ты свистел? – спросила Алка отца уже в грузовике, который направлялся к городу.
– Чтобы никого не разбудить. Мне разрешили тебя забрать.
– А мама дома? Мне так вчера страшно было, когда сказали, что война. И вообще в лагере мне не нравится. Ты меня насовсем забираешь?
– Насовсем… Слава богу, успели. Я боялся, что если поеду позже, могу и не проехать. Никто не знает, что будет происходить сегодня, завтра.
В воскресенье утром Маруся, Володя и Ирка вышли из дома часов в шесть, с корзинкой для пикника направились через дамбу в лес. Дамба была добротная, широкая, с утоптанной гравиевой тропой, на ней стояли даже стульчики для рыбаков. Погода была изумительная, цвела черемуха огромными роскошными гроздьями… Чувственный сладкий запах. Лес был чудный, это они знали еще с предыдущего года. Долго гуляли, часов в одиннадцать разложили одеяло, мама стала выкладывать из корзинки еду. Ирке все время слышался в воздухе какой-то странный гул. Что с природой творится что-то странное, ей было ясно уже несколько дней. Настроение у всех было плохое.
Они уже три недели жили в Воропаево, и хотя в имении, казалось, ничего не изменилось, но гуляния, пикники, волейбол прекратились, обитатели поместья разговаривали друг с другом мало и неохотно. Госпиталь был пуст, раненых не было, врачи, тем не менее, были крайне заняты неизвестно чем, а в довершение всего им меняли форму, как и по всей армии. Начальника госпиталя вызвали в Полоцк, а комиссар куда-то исчез.
Дом, где их поселили, стоял на самом краю имения, неподалеку от озера, впритык к забору. Ирка часами смотрела в щели забора на дорогу, по которой шли толпы людей с сумками, узлами, чемоданами. Гнали гусей, вели мычащих коров. Ирка спрашивала отца, что это за люди, тот отмалчивался, по каким-то причинам не объясняя, что это беженцы с оккупированных Германией территорий Польши.
Все три недели Ирка почти не видела отца, тот был так занят в госпитале, что иногда даже не приходил ночевать. Чем он был занят – госпиталь-то был пуст, – не рассказывал. Наконец в субботу вечером вырвался, сказав, что выговорил себе выходной на завтра, а это значит – пикник в лесу. Корзинка, непременно корзинка еды и, конечно, – «маленькая поллитровочка, правильно, Маруся?»
– Удивительный в этом году запах у черемухи, да, Марусенька? – произнес Володя, растягиваясь на одеяле.
– Мама, ты чувствуешь? – тихо сказала Ирка, – природа тоже очень грустная.
– Уже за полдень, наверное, нам пора возвращаться, – Маруся принялась складывать в корзинку остатки пикника.
Они шли назад к дому через дамбу, снова мимо стульчиков, которые все еще стояли пустые – ни одного рыбака. Навстречу им по дамбе бежал человек: «Владимир Ильич, война!»
Ирка с матерью остаток дня просидели в домике, отец ночевать не пришел. Ночью Ирка пошла в туалет в саду и видела много самолетов. Кругом стоял оглушающий гул, похожий на тот, что она слышала утром, всё летело на восток. Весь следующий день отца тоже не видели, но в обед прибежал запыхавшийся порученец: «Мария Степановна! Владимир Ильич просил передать, чтобы вы собирались. Вечером будет эшелон с ранеными, вы уедете с ним».
Мама побежала в госпиталь. Ирка видела, как она уговаривала кого-то пойти вызвать Владимира Ильича на крыльцо. Тот смог выйти только на пять минут. Ирка понимала, что мать просит разрешить им остаться, но тот не разрешает. Мать вернулась, и они отправились на вокзал. Эшелон уже стоял, забитый ранеными летчиками, он шел откуда-то из-под Каунаса. Это был первый эшелон, отправлявшийся в тыл после первого дня войны. Маруся с Иркой приткнулись в дверях.
Отца все не было. Никто не знал, когда отправится эшелон. В вагоны продолжали садиться люди, в основном женщины и дети, которых, так же как и их с Иркой, отправляли на восток мужья. Все вокруг кричали и плакали, но Ирке не было страшно, ей очень хотелось есть: они сидели в вагоне уже третий час, а еды мама не собрала, все отцу оставила.
В вагоне под лавками лежали огромные пахучие литовские сыры. Летчики резали их ломтями, угощая Ирку, та охотно ела, а мать стояла окаменев. Прошло, наверное, еще часа два, наконец, прибежал отец. Ирка знала, что поезд не уедет, не дождавшись его.
Отец взял Ирку на руки, подбросил высоко-высоко, как в раннем детстве, и крепко поцеловал. Поставил обратно в тамбур. Мама вышла из вагона, прижалась к отцу. Через пару минут эшелон тронулся, мать легко вспрыгнула на подножку и смотрела на отца, не произнося ни слова, пока перрон не исчез из виду.
Ночь Ирка с матерью просидели на койке в ногах одного из раненых. В вагоне никто не спал, летчики рассказывали, как их накрыли бомбежкой прямо на аэродромах. Рассказы были у всех почти одинаковые: подъем по тревоге на рассвете, они бегут под огнем к своим машинам, а те взрываются одна за другой у них на глазах.
Часа в три ночи поезд встал на каком-то полустанке и долго стоял. По перрону бегал мужик, размахивая кулаками и крича: «Наконец-то их прогонят! Наконец-то и до них добрались!» Поезд двинулся, встал на несколько минут на станции Глубокая – это все еще была бывшая Польша, – потом снова тронулся. Прилетели наши самолеты со звездами, они махали крыльями поезду, чтобы тот двигался быстрее: хотя на крыше вагонов были красные кресты, уже все откуда-то знали, что санитарные поезда тоже бомбят. Вслед за нашими самолетами прилетели немецкие, с черными крестами, и поезд встал. Многие раненые выйти не могли, а те, кто мог, бросились в ров между рельсами и картофельным полем. Мама, лежа на земле, руками прикрывала Иркину голову. Пронеслась армада самолетов, пуская длинные пулеметные очереди. В поезд не попали, ничего нигде не горело, но поезд двигаться дальше не мог, потому что машинист от страха сбежал. Снова прилетели наши самолеты, снова махали крыльями, мол, не стойте, двигайтесь. Эшелон тронулся, часа два или три ехал без остановок, к рассвету доехал до Полоцка, и несколько часов стоял на запасных путях в часе ходьбы от вокзала.
– Не сидите тут, – уговаривали Марусю летчики. – Идите, ищите другой поезд. Что с этим будет – неизвестно.
Маруся с дочерью, нагруженные узлами, двинулись по путям. На вокзале мама добыла воды, они напились и пошли дальше, куда – Ирка не понимала. Дошли до сквера, сели на скамейку, разложив вещи. Над головами все кружили немецкие самолеты с черными крестами.
– Сиди тут, сторожи вещи, а я пойду, все разузнаю, – сказала мама и ушла.
Ирка сидела одна, смотрела по сторонам. В узелке лежал кусок хлеба и кусок сыра. Она загадала, что если она не съест, а дождется мамы, то та придет. День прошел, наступала ночь, к Ирке подошла женщина.
– Ты почему одна? Потерялась?
– Я маму жду.
– Нельзя тебе оставаться тут. Пойдем ко мне, переночуешь.
– Без мамы я не пойду!
– Детка, нельзя ночью одной в сквере…
– …Нет, – закричала Ирка, – не трогайте меня, я никуда не пойду без мамы.
Женщина не отставала, но тут появилась Маруся, и женщина повела обеих к себе ночевать. Дом был забит людьми, и их положили на полу. Ирка начала засыпать, слыша сквозь дрему громкий голос, доносившийся с улицы: «Самолеты приближаются к городу, они будут через три минуты. Уходите в бомбоубежище. Самолеты приближаются, они будут через две минуты…» Никто не поднимался и не уходил. Началась бомбежка, со всех сторон слышались взрывы, но никто не поднялся, чтобы идти на поиски бомбоубежища, ни у кого не было сил.
Утром они с мамой отправились обратно на вокзал. Забрались в товарный поезд, забитый людьми, с двухэтажными нарами, покрытыми коврами. Мама шепотом объяснила, что это эвакуированная «совэлита из прибалтийских стран». На нижних нарах сидели оборванцы, прорвавшиеся в поезд, как и они сами. Поезд останавливался каждые пять минут, потому что бомбежки не прекращались, они добрались до Смоленска уже глубокой ночью.
В Смоленске было ужасно. Пути, забитые поездами, паровозы, включавшие гудки, как только объявляли тревогу. Над всем городом стоял вой сирен, а люди в вагонах кричали: «Не нарушайте светомаскировку, не открывайте двери!» К утру их поезд стал двигаться. На этот раз ехали без остановок довольно долго, Ирка заснула. «Это уже дачи?» – спросила она, проснувшись, потому что домики, мелькавшие за окном, были похожи на Подмосковье.
Это был Ржев. Хотя поезд ехал дальше, на восток, мама сказала, что они сойдут тут. Как она умудрялась что-то узнавать, какое чутье ей подсказывало? Она понимала, что все эшелоны, скорее всего, гонят в Сибирь или в Среднюю Азию, а им надо в Москву. Только в Москву!
Появился новый товарный поезд, Ирка с матерью заняли место на подножке – поезд был осыпан гроздьями людей, – и долго сидели, пока мать, то ли узнав что-то, то ли по наитию, опять не сказала дочери: «Слезай, придется все же идти на вокзал».
Вокзал в Ржеве выглядел, как будто никакой войны не существовало. Ни криков, ни воя поездов, в залах стояли баки с питьевой водой. Впервые за прошедшие двое суток у Ирки возникло ощущение, что кто-то руководит хаосом. Кругом было много интеллигенции, все, конечно, рвались в Москву. Мама пошла к начальнику вокзала. Прошло еще пару часов, вдруг объявили: «Прибывает эшелон, следующий до Москвы». Поезд пришел пустой, в него тут же ринулись люди, Ирка тоже вскочила со скамейки, стала стягивать узлы.
– Сиди тут, мы не садимся на этот поезд.
Люди, с которыми они познакомились за часы ожидания, уже кричали им из вагонов:
– Идите скорее, мы вам места заняли!
– Мама! Поезд уйдет без нас! Почему ты сидишь?!
– Заткнись, не ори, не смотри туда, – сквозь зубы отвечала Маруся, глядя себе в колени.
Ирка рыдала, а мать лишь повторяла: «Прекрати. Сиди тихо!» Поезд ушел, Ирка давилась слезами. Ей было страшно, наверно, впервые так страшно за прошедшие два дня. Намного страшнее, чем когда они прощались с отцом, и когда она ждала маму в Полоцке.
Вокзал обезлюдел. Ирка рыдала, мать молчала, не утешая ее. Сидела, сцепив на коленях чуть костлявые руки, глядела в пол. Тут подошел обычный пассажирский поезд, полупустой. «Пошли», – бросила Маруся, поднимая с пола чемодан.
В их купе ехал всего лишь один военный. Ирка легла и тут же заснула, а когда проснулась поезд уже подъезжал к Москве.
– Мама, а что с тем поездом?
– Его отправили на восток, чтобы избавиться от людей и разгрузить Ржев.
Военный улыбнулся и протянул Ирке яблоко.
– Тебе сколько лет?
– Девять… – Ирка грызла яблоко и смотрела в окно. Проехали Новый Иерусалим, Опалиху, поезд катил уже по привокзальным путям.
Было раннее утро двадцать шестого июня, розоватое солнце освещало зеленовато-белое здание Рижского вокзала, Москва была тихой и праздничной. У вокзала стояла шеренга вымытых такси с привычными шашечками. Из радио по площади разносилась песня:
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом,
Вся советская земля…
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей…
Они приехали на Большой Ржевский. Все были дома, тетя Катя, тетя Мила, дядя Мося, Алочка. Поднялся гвалт, их никто не ждал, никто не понимал, как они сумели вырваться из оцепления, в которое уже была взята Западная Белоруссия. Ирка позвонила подружке, и втроем с Алкой девочки отправились мыться в душевые возле зоопарка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































