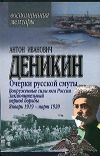Текст книги "Честь – никому! Том 2. Юность Добровольчества"

Автор книги: Елена Семенова
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Юность! Для других это было время праздности и веселья, но не для Ольги Романовны. Родители её умерли рано, и осталась она, бедная сиротка-бесприданница, со старой, больной бабушкой и маленькими сёстрами – в нищете совершенной. Перебивались пенсионом, помощью добрых людей. Хотела Олинька давать частные уроки, но хозяин дома, куда пригласили, совсем иные цели имел. Так и отказалась от намерения своего. Юность! Квартирка у Девичьего поля, стены монастыря Новодевичьего, колокольный звон, зимой – катание на коньках по ледяной глади пруда… Всё же как много было прекрасного! И была любовь. Первая – и на всё жизнь. Пётр Андреевич Вигель. Ещё начинавший лишь тогда свою карьеру, не имевший гроша за душой. И эту любовь в жертву принести пришлось. Бабушке, желавшей умереть спокойно, и сёстрам, чтобы им нужды и унижения не знать. Вышла Ольга Романовна за преданно любившего её друга покойного отца, пожилого, богатого, очень достойного человека, Сергея Сергеевича Тягаева. С ним в браке двадцать лет прожили. И не погневишь Бога – хорошо прожили. Ладом. Уважала Ольга Романовна мужа, любила дочерней любовью. Когда не стало его, искренне горевала, чувствуя, что лишилась в жизни надёжной опоры, мудрого и любящего друга, стены, за которой не знала она горя. А прошло ещё несколько лет, и (не уйдёшь от судьбы!) свела жизнь с Петром Андреевичем…
Ни о чём не жалела Ольга Романовна в своей жизни. Только «жертва», принесённая ей когда-то, почему-то больше принесла счастья ей, а не сёстрам. Не сложились судьбы у них. Одна умерла рано, так и не выйдя замуж. Вторая вышла не по любви, жила вроде бы не хуже других. Но, вот, недавно пришла ужасная весть: погибли в Ледяном походе два сына её, совсем мальчики. Вся жизнь – вдребезги. И подкашивались ноги от мысли, а если и Петрушу?.. Сына Ольга Романовна боготворила и была против избранной им военной стези, разлучавшей его с нею и грозившей столькими опасностями. Но Сергей Сергеевич запретил препятствовать, считая, что человек должен решать свою судьбу сам. Сколько раз уже Петруша был на волосок от смерти с той поры! Надрывалось материнское сердце, каждую рану сыновнюю на себя принимая. Уже насилу с того света вытянули его в последний раз, без руки остался, без глаза (думать без боли нельзя), а ничего не останавливало его. И сейчас, уверена была Ольга Романовна, где-то сражается он. За Россию… Как племянники, дети невинные, сражались. Как Николенька, пасынок. А у Ольги Романовны одна надежда осталась – внук, Илюша. Его, пищащим младенцем, принесла студёной осенней ночью Лидинька. Явилась больная, ещё не оправившаяся от родов, оставила ребёнка и ушла. Даже вскормить сына не позаботилась, Ольга Романовна нашла кормилицу. Что же это за молох такой, революция, что делает мать столь безучастной к своему ребёнку?..
Революции отдалась Лидия ещё в отроческие годы. Ольга Романовна так и не смогла понять, когда «упустила» дочь, где совершила ошибку. Сергей Сергеевич мало уделял времени детям, занятый своими многообещающими талантами, жившими и работавшими в специально отведённой части тягаевского дома. Увлечён был Сергей Сергеевич искусством, театром, живописью, литературой, а на детей времени не хватало. А Ольга Романовна слишком сосредоточена была на любимом сыне, дочь была на втором месте. Ах, не думала она, что причиняет по неосторожности боль дочери! А Лидинька почувствовала это, решила, что не нужна родным, затаила обиду. Да ещё же и таланты, постоянно находившиеся в доме, сплошь разделяли прогрессивные идеи, попадались и революционеры. Погорячился Сергей Сергеевич, собирая всех их в собственном доме. А Лидинька слушала, оказывается, их свободомысленные, полутрезвые речи – и впитывала. Ей восемнадцати не было, когда исчезла она из дома, объявив матери, что не желает больше иметь ничего общего со своей семьёй. Исчезла Лидинька не одна, а с «товарищем по борьбе». Видела его Ольга Романовна раз мельком. Бойкий еврейчик с маслянистыми глазами, довольно смазливый. Лидинька и фамилию его взяла (или революционный псевдоним?) – Рацкая. Ещё надеялась Ольга Романовна, что дочь одумается, нагуляется и вернётся. Но этого не произошло. Мало что известно было о Лидиньке после разрыва. Дважды арестовывалась она, была в ссылке, жила заграницей… Обычная революционная биография. Домой наведывалась она лишь несколько раз. Первый – скрываясь от полиции. Прожила три дня, оскорбляя мать, брата и отчима, которого возненавидела более всех. Пётр Андреевич тогда два дня не ночевал дома, чтобы не сорваться. Во второй раз явилась просить денег. «На дело». Ольга Романовна, наступив на горло жалости, ничего не дала. Через её руки на такие дела средства не пойдут. А Лидинька покривилась: погоди, сами возьмём… Теперь и брали… На третий раз принесла внука. Между очередной ссылкой и заграницей, уже больная, родила его от товарища по партии, поляка, после революции занявшего высокую должность в ЧК. Сыном он не интересовался. Не проявляла материнских чувств и Лидинька. Но Ольга Романовна только рада тому была: не испортят ребёнка, успеет она вырастить его, вложить ему в душу основы, которые будут ему фундаментом в жизни. Дочь «упустила», так хоть внука на ноги поставить, как должно…
Обо всех родных и близких успела подумать Ольга Романовна. Рассеивала мысли, не давая сосредоточиться на главном, жгущем, лишающем сил: Пётр Андреевич в тюрьме. Выпустят ли? Перенесёт ли он заключение? Ведь он немолод, и три года назад уже был удар, и едва оправился после него. А в камере – условия ужасные! Пища! А люди? С кем приходится сидеть? А охрана – не лютует ли? Ничего нельзя было узнать, и от этой неизвестности взвыть хотелось. Ходила Ольга Романовна, как на работу – носила передачи (самое лучшее, что могла из голодных запасов набрать), выстаивала многочасовые очереди на ноющих ногах, едва не теряя сознание от мысли, что передачу могут не принять, и это будет означать… Ольга Романовна всхлипнула от жалости к мужу, но заплакать не успела, так как в прихожей раздался сильный, красивый баритон Володи Олицкого:
– Моё почтение всему честному обществу! Ольга свет-Романовна, я не один! Прямо у вашего порога столкнулись с доктором!
– Дмитрий Антонович, а вы разве потеряли голос, что о вас нам докладывают? – шутливый голос Тимофея из комнаты.
– Почти угадали, – сипло отозвался доктор. – Простыл…
Высокий, тонкий Олицкий проскользнул в кухню. Был он лет на десять моложе Ольги Романовны, всё ещё красивый мужчина, аристократ с ног до головы. Когда-то пышная шевелюра Володи давно уступила место сияющей лысине, но это не портило его. Князь Владимир Олицкий был старым другом Петра Андреевича и знаменитым композитором. Ученик самого Танеева, он уже в молодые годы получил признание, гастролировал по России и за рубежом, писал симфонии, оперы и чудные романсы. А теперь должен был ездить по деревням и менять ситец на крупу, нести трудовую повинность, подметая улицы…
Расцеловались, и Володя с заговорщическим видом протянул Ольг Романовне свёрток.
– Что это?
– Мясо, Ольга Романовна.
– Что?!
– Мужик сказал, что телятина. Но морда у этого воспетого землепашца была столь «честная», что слепой бы отвернулся. Легко мог и собаку за телка выдать, и кота за кролика. Но будем считать, что это всё-таки телок.
– Володя, да ведь это же целое состояние…
– Всего-навсего моя скрипка, – грустно улыбнулся Олицкий.
– Вы продали скрипку?
– Представьте себе. Заметили вы, сколько в Москве антикварных лавок стало? «Буржуи» расстаются с фамильными реликвиями. Да… Это была скрипка старого мастера, очень дорогая. А я продал за бесценок, за мясо… Осталась у меня моя старенькая, плохонькая скрипочка. Но её я не продам. За неё ломаного гроша не дадут, а она мне дороже… Я на ней самоучкой первые мелодии наигрывал в Олицах…
– Но что же мне делать с этим мясом? – растерялась Ольга Романовна. – Зажарить сразу? Жалко.
– Засолите, – посоветовал Олицкий.
– У меня мало соли…
– Значит, завтра я продам Надеждино ожерелье, мой подарок ей в честь рождения нашего первенца, и куплю соль.
– Тогда лучше продайте нашего Кипренского.
– Я бы с удовольствием, но, думаю, профессор расстроится. Он слишком трепетно относится к произведениям искусства.
– А вы нет?
– Я, Ольга Романовна, стараюсь убить в себе культурного человека. Вся эта культура нас разнеживает, делает уязвимее и слабее. Это мы с вами понимаем ценность Кипренского, ценность старинной скрипки. А эти, – Олицкий повёл головой в сторону окна, – не понимают и понимать не хотят. Поэтому жить им проще и легче. Нужно огрубеть, научиться жить по первобытным канонам. Кому теперь нужны наши Кипренские и Рафаэли? Кому нужна великая музыка? Когда есть «Яблочко», похабные куплеты и ещё более похабный «Интернационал»? Кому нужна культура? Гении? Не нужны таланты, не нужен интеллект… Нужна грубая физическая сила и крепкие нервы. А чем меньше ума и таланта, тем крепче нервы, тем больше физической силы.
– Владимир Владимирович совершенно прав! – просипел доктор, входя. – Позволите стакан воды?
– Конечно.
– Как врач, могу вам сказать, что пациенты, умственно и душевно неразвитые, вылечиваются гораздо быстрее, нежели люди высокого интеллекта и тонкой душевной организации.
– Вот! – князь поднял палец. – Этим они и побеждают! Хамы и дураки побеждают! Быдло! А уважаемый профессор с его тонкостью и гениальным мозгом уже месяц не может оправиться от пережитых волнений. Нервы!
– Володя, идите в гостиную, – сказала Ольга Романовна. – Я что-то не очень хорошо соображаю сегодня, а разговоры отвлекают меня от приготовления пищи.
– Это серьёзно. Пища – это не скрипка. Священнодействуйте, Олинька, а мы не будем вам мешать!
Олицкий прошёл в комнату, определённую, как гостиная, поздоровался с Миловидовым и Скорняковым, сел к фортепиано и, хлопнув по его крышке, отметил:
– Вот, ещё ценная вещь для продажи!
– Эту вещь лучше пустить на дрова в холодную зиму, – ответил Тимофей.
– Правда ваша, молодой мой друг! Массив дерева! Долго можно будет обогреваться!
– Дико слушать, что вы говорите, – поморщился Юрий Сергеевич. – Это же не шкаф какой-нибудь! Старинный инструмент!
– Боюсь, в этом доме всё старинное. У покойного Сергея Сергеевича был слишком хороший вкус. Эх, хотел бы я посмотреть, чтобы сказала моя тётка, доживи она до наших скорбных дней. Мне иногда кажется, что при ней и революции бы не случилось. И уж, во всяком случае, ничего не изменилось бы у нас в Олицах, где теперь заправляет какой-то совет… Она бы этого совета не допустила.
– Да уж можно подумать! – усмехнулся Скорняков.
– А вы не смейтесь. Тётушка моя была женщина исключительная.
– Васса, – хмыкнул доктор.
– Называйте, как угодно. Она в нашем имении такое хозяйство наладила, что никому и не снилось. С Надеждиным отцом маслобойню организовала, школу для детей крестьянских, больницу, все новейшие научные достижения самолично изучала, из-за границы технику выписывала. И людям хорошо жилось, и ей доход был огромный. В Пятом году мужички наши взбаламутились, управляющий дёру дал, а она на крыльцо к толпе этой ревущей вышла. Старуха уже была, а сколько силы! Поговорила с ними по-хозяйски, строжайше, напомнила, как жили они прежде, и как при ней жить стали. На колени пали перед ней, прощения просили, что смутились, сами зачинщиков пришлых на суд выдали.
– Да, человек была ваша тётушка! Почему только продолжить дела её некому оказалось? Измельчали, знать, потомки-то?
– Знать, измельчали, – грустно вздохнул Олицкий, наигрывая гамму. – Всё прахом пошло… Проклятье, какие хвосты везде стоят в Москве! Хлеба приличного уже сто лет не видели! А раньше? Чуевские булки…
– Пироги с вязигой… Расстегаи…
– Господа, смените тему, – попросил Юрий Сергеевич. – Это мазохизм – говорить о еде в нашем положении.
– А о чём говорить? О политике? – усмехнулся Скорняков.
– О предметах духовных.
– Тоже невесело.
– Да, господа, – просипел Дмитрий Антонович, – муки нет, крупы нет, магазины пусты, только анатомические театры полны.
– И у всех пули в затылках, – присовокупил Тимофей.
– Не у всех, но у многих. Многих хоронить некому, так они к нам попадают, для опытов…
– Вот, вам раздолье-то! Есть на ком тренироваться!
– Чёрт бы взял такое раздолье…
– Доктор, а чем вы, собственно, недовольны? – осведомился Олицкий. – Вы ведь у нас, если не ошибаюсь, из сочувствующих? Вам же большевики по сердцу?
– Вы не ошибаетесь. Я сочувствую коммунистической идее, – ответил Дмитрий Антонович. – Но мне несимпатичны методы, которыми она претворяется в жизнь. Дурные методы могут погубить добрую идею.
– Ничего в вашей идее доброго нет! – фыркнул Владимир Владимирович. – Методы соответствуют ей вполне! И вся эта мразь, именуемая большевиками, достойно воплощает её!
– Я просил бы вас выражаться менее резко. Мы с вами принадлежим к разной среде. Вы, простите, барчук. Выросли в тепле и неге, труда и лишений не зная, у вас было всё! Приехали в Москву, окончили блестяще консерваторию… Вы хоть раз голодали? Нет! Вам приходилось спать под землёй, рядом со сточными водами? Вам приходилось гнить заживо от грязи и холода? Нет! Вам приходилось воровать, чтобы не сдохнуть с голоду? Нет! А мне приходилось! Я, будет вам известно, родился на Хитровке. Вы бывали на Хитровке? Заглядывали в ночлежки? Где убивали? Где торговали детьми? Где дети рождались от пьяных матерей на помойных кучах? Вы видели всё это когда-нибудь? Нет, разумеется! Зачем было вам, барчуку, спускаться в преисподнюю, портить расположение духа столь неприглядными картинами, дышать этим смрадом? Вас бы, интеллигентного человека, стошнило от этого! Вы бы бежали без оглядки, увидев хотя бы единожды «Ад»! А я рос среди этого! Ноги мои были в свищах, на лице не заживала язва. Но язва эта ценилась! Мальчику с язвой подавали больше, чем мальчику с чистым личиком… Мать моя умерла рано, я остался один. Мы были стайкой голодных волчат, пытавшихся выжить. Грабили прохожих… Один кошелёк срежет, а другой с ним – дёру. А зимой у нас валенки были одни на четверых, и я босяком по снегу бегал. Знали вы об этом в своей сытой и благополучной жизни? Барчуков, богатеев мы ненавидели… Я, скорее всего, сдох бы, как пёс, в сточной канаве, если бы меня не подобрал мой благодетель, доктор Жигамонт. Он, хоть и известный был врач, с положением, а Хитровки не сторонился. Бесплатно лечил нищих, ходил по трущобам без страха. У нас его благословляли. Он и мать мою лечил, хоть и без успеха, в больницу устроил, кормил… Подобрал он меня, взял на воспитание, вылечил, дал образование, вывел в люди. Всем я ему обязан. Он-то и его друзья, такие, как Пётр Андреевич, Ольга Романовна, меня и примирили с такими, как вы, с барчуками. Я не буду вести с вами политических споров, Владимир Владимирович. Наши взгляды разны, этого не изменить. Но я не понимаю, почему из-за расхождения взглядов нужно портить личные отношения. К тому же, я врач, и мой долг помогать всем людям. Мой благодетель, дворянин, пользуя представителей высшей знати, не гнушался гноя и язв хитровцев, а я, безродный хитровец, следуя его примеру, не отвернусь от знатных и богатых, которые прожигали жизнь, когда моя мать чахла в нищете. А в коммунизм я верю. Большевики перегибают палку, среди них оказалось много дурных людей, но они везде есть. Но идея правильная. Нельзя, чтобы одни жили в кошмаре Хитровок, а другие во дворцах. Вот, устаканется всё, и, уверен, настанет более честная и справедливая жизнь, чем была раньше.
– Было добро, да давно, и опять будет, да нас тогда не будет, – мрачно заключил Олицкий. – Мы, «буржуи», в вашу новую, светлую жизнь допущены не будем. Её на наших костях отстроят. Вы не вздумайте только, дражайший доктор, нечто подобное выдать в присутствии Сабурова. Его от вашей проповеди большевизма, пожалуй, ещё удар хватит.
– Ни в коем разе, – доктор туже затянул шарф вокруг шеи. – Сабуров – фанатик. А с фанатиками в прения лучше не вступать. Ещё Герцен писал, что переубеждать убеждённого – чрезвычайно пустое занятие. Вдобавок, я не в голосе сегодня.
– Кстати, а где, наконец, Сабуров? Пора ему уже возвращаться. Надежда моя ушла с ним… Зачем, спрашивается?
– Не могла не помянуть Государя… – отозвался Миловидов.
– Дома бы поминала. Ещё арестуют их… К тому же с Сабуровым! С его-то горячностью! Вечно в какую-нибудь историю вляпается.
– А по мне, так вам бы нужно было радоваться, что ваша супруга ушла именно с Сабуровым, – подал голос Скорняков.
– Это почему же?
– Арестовывать сегодня никого не будут, а, вот, жуликов по улицам шатается много. А Александр Васильевич – человек крепкий, и сможет дать отпор в случае нужды.
– Дай Бог… Ох, и тошно же на душе! Или напиться пьяным, или в петлю… – Олицкий ударил по клавишам. – Спеть, что ли что-нибудь?
– Спойте, Володя! – крикнула с кухни Ольга Романовна.
– Только, пожалуйста, не что-нибудь декадентское, – попросил Миловидов. – Не травите душу.
– «Молитва» Лермонтовская вас устроит?
– Молитва не устроить не может. Ничего кроме молитв у нас не осталось.
Мягким, красивым голосом Владимир Владимирович запел «Молитву». На фразе «Тёплой заступницей мира холодного» в комнату вошли Сабуров и Надежда Арсеньевна.
– Репертуар подходящий, – оценил Александр Васильевич, никого не приветствуя. Мрачнее тучи он пересёк комнату, сел в углу, приоткрыл окно, закурил, что бывало нечасто. Повисло молчание, которое никто не решался прервать, словно Сабуров был хозяином дома, и его никак нельзя было тревожить.
Александру Васильевичу ещё не было пятидесяти. Подтянутый и жилистый, он был довольно моложав, хотя буквально в последний год прежде совершенно чёрные волосы его и борода сильно поседели, а умное лицо, то напускно-суровое, то простодушно-открытое, осунулось, состарилось, и глаза исполнены были безысходного страдания. Сабуров бывал частым гостем в доме Вигелей. Правовед, философ, публицист, он близко сошёлся с Петром Андреевичем после Пятого года, благодаря большой схожести взглядов. Вспыльчивый, но отходчивый Сабуров всё, происходившее в России, принимал крайне близко к сердцу, подчас сгоряча говорил и писал лишнее, срывался, Вигель, всегда сдержанный и отличавшийся в силу профессии куда большим холоднокровием и умением просчитывать ситуацию наперёд, остужал слишком резкие порывы друга. Обсуждать проклятые русские вопросы они могли часами. Обычно, круг друзей у людей формируется в юности, и лишь в редких случаях закатные годы приносят крепкую дружбу. Закатные годы Петра Андреевича принесли ему дружбу с Сабуровым. Ещё теснее связал их созданный в Восьмом году Всероссийский Национальный Союз, членами которого оба они стали. Большие надежды возлагал Александр Васильевич на эту организацию, энергично взялся за работу. Но первый порыв прошёл, а воз остался на месте. Как это часто бывало с ним, всплеск энергии и чрезмерной горячности сменился у Сабурова периодом апатии и самоедства. Чувствовал он, что упускается что-то важное в деятельности организации, что уступает она трагически левым и либеральным партиям, что сам он, Александр Васильевич, не способен к грамотной организационной работе. Одно дело формировать идеологию, писать статьи и книги, другое – практическая работа. Сабуров практиком не был. И что всего хуже, большинство верных Царю и Отечеству русских людей также не отличались практичностью, которой так в избытке было у всех врагов! Что говорить, даже газеты, о которой столько говорено было, не смогли наладить! Старый следователь Вигель организаторскими способностями обладал, и умел договариваться со всеми, не давая волю эмоциям, но годы давали себя знать, не те силы были. В Пятнадцатом уже и соборовали, и чудом выходила его Ольга Романовна.
В последний год Самодержавия всем существом чувствовал Сабуров приближение Катастрофы. Ничьё положение не было более трагическим, чем положение русских монархистов и националистов в ту пору. Либералы и социалисты на всех углах с упоением бранили власть. Монархисты бранить власть не могли. Но и защищать её – как было можно? Защищать чехарду сменяющих друг друга бездарностей, лишённых искры государственного мышления, ума, элементарного чувства самосохранения, тупо и слепо ведущих страну и Династию к пропасти, к поражению, к гибели?.. Ведь сами, сами давали пищу для раскачки, сами, мечась, расшатывали всё, безвольные, бесталанные, откуда только извлечённые на Божий свет министры! Их – защищать?! Ясно видел Сабуров, что, летя в пропасть сами, эти сановные паралитики неминуемо увлекут за собой Трон, Государя, тысячелетнюю Россию. А Государь – не видел?.. И осудить нельзя, и защитить нельзя. Как защищать тех, кто сами не защищаются, но продолжают самоубийственный путь?.. Что осталось? Молчать. И молчали. И в безмолвии, с глухим отчаянием наблюдали, как рушится всё. Не в силах помешать.
Весть об отречении Государя прозвучала убийственно. Это был – Конец. Всего. Монархии. России. Самого Сабурова. И вся камарилья обласканная – разбежалась! Подлые трусы и предатели! Зачем вы, Государь, окружили себя этим сбродом? Государь, ведь сколько верных вам сердец билось и бьётся даже сейчас! Неужели не слышали, не чувствовали? Государь, почему вы не призвали нас? Не опёрлись о наши плечи в трудный для вас и Отечества час? Пусть много недостоинств у нас, но мы бы – не предали! Мы бы кольцом окружили вас, как верные воины своего вождя, и либо отстояли вас, либо погибли за вас. Но вы – не позвали. Словно бы не нуждались в верных и преданных людях, а только в той ничтожности, что облепила, как тля, ваш престол, как черви, источили корни могучего дуба и повергли его. Государь, почему, почему вы не призвали нас?! – стоном рвался этот вопрос из души Александра Васильевича. И черно было в глазах, и жить не хотелось.
Как совпало всё в проклятом Феврале. Все враги – соединились! Немцы не могли допустить дальнейшего участия России в войне. Союзники… Это, вообще, ошибка была – заключать договор с республиканской Францией и искони враждебной и бесчестной Англией. Никогда с ними в дружбе не быть России, всегда ждать от них ножа в спину. Сколько крови пролито было русской, чтобы не смяли немцы их фронты, чтобы хилые лягушатники одержали свою славную победу под Верденом. Враньё! Это мы одержали эту победу! Мы, лёгшие костьми на своём фронте, чтобы Верден не был взят. Но об этом кто вспоминает?! Русской крови счёта не ведут. В Шестнадцатом окончательный договор заключили: по весне решительное наступление, разгром Вильгельма и… По этому договору закреплялись за Россией после победы проливы и Константинополь! Константинополь – Иерусалим наш! Сколько стремились к нему! Да разве могли допустить – они? Англичане разве могли допустить? Если за большевичками стояли немцы, то за кадетами – англичане. Господин Милюков, в пекле гореть ему за всё, вопил с думской трибуны: «Слава Англии!» Не России – слава! А – Англии! Англии, а не России служил этот подлец, и никто не припёк его за то, не заткнул лживый рот его, изрыгавший мерзейшую клевету в адрес Государя и Государыни. Все соединились в одной общей ненависти – ненависти к России! А благомыслы наивные, не поняв того, примкнули, а потом ужаснулись сами. А трусы разбежались…
А мы – что же? Националисты? Монархисты? А ничего. Растерялись. Раз нет Монарха, то как же теперь? Монархисты без Монарха – ерунда! Молчали, переживали горе, осмысливали, обдумывали, пытались прийти в себя. Ещё вчера бахвалились – «многомиллионный Союз Русского Народа»! И куда подевались все эти миллионы?! А не было их! Были лишь в речах, на бумаге, в чьём-то больном воображении… А те, что были, рассеялись бездарно, окаменели, как Лотова жена. А время шло. Бесценное время! Последнее время, когда напряжением всех умственных и физических сил, всей воли, ещё можно было спасти что-то. «Временщики» оказались неспособны удержать власть. Это было видно сразу, но в обмороке затяжном не могли сориентироваться, как эту слабость их использовать. Катились, катились стремительно. Мелькнула надеждой фигура Корнилова. Пусть слывёт февралистом, но – герой, боевой генерал, понимающий национальные интересы России. Трудно забыть арест Императрицы им, но нет другого вождя. Граф Келлер ушёл на покой. Вот, тогда бы единой силой, хоть запоздало, ударить, свалить «временщиков» (немного и надо для того было), подавить большевиков (а вождей – арестовать), установить диктатуру, а там, глядишь, освободили бы Государя, возродили бы Монархию. Но и здесь – просомневались (спорили, стоит ли доверять Корнилову, спорили, не лучше ли подождать, спорили, не образуется ли всё само (большевикам ведь тоже власти не удержать)), ни к чему не оказались готовы (даже программы не выработали конкретной), а уже Корнилова и свалили…
А в Октябре – может быть, последний шанс Богом давался? И опять ни к чему не были готовы. Просто болезнь какая-то русская! Ни к чему не готовы! Никогда! Всё предсказываем задолго, но ни к чему не можем путно приготовиться. А они – готовы были. Они – готовы всегда. Они эту упавшую власть ухватили цепкими лапами, пока мы, растрёпанные и растравленные, деморализованные и непрактичные, спорили и сомневались. А теперь уж нескоро новый шанс выпадет. А и выпадет – так ведь опять не готовы окажемся…
Жену и детей Александр Васильевич ещё летом отправил от греха подальше к тёще в Рязанскую область. Там, в деревне, и сытнее, и спокойнее. И Сабуров мог дышать свободнее, не страшась за них, как если бы были они в Москве. В октябрьские дни участвовал Александр Васильевич в антибольшевистском восстании. Штаб расположен был в Александровском училище, обстреливаемом с Воробьёвых гор. Здесь формировали и отправляли на позиции части из юнкеров, кадет, студентов, офицеров. Комендант Москвы, полковник Рябцов, демонстрировал, однако, нерешительность. Он не считал себя вправе отправлять на убой молодые жизни, учитывая то, что за большевиков был почти весь гарнизон. Но большинство считали иначе. Считали, что необходимо сражаться до конца, а затем прорываться на Дон. Так полагал и Сабуров. Обвиняли Рябцова в пособничестве большевикам. Откуда-то явился слух, что на подмогу Москве с Дона идут казаки. Произносились воодушевляющие патриотические речи. Но – чего-то не хватало. Не хватало – Вождя. Не ведали офицеры, за кого же им умирать? За Керенского? Говорил в мартовские дни офицер-инвалид: «Две святыни были: Бог и Царь. А теперь Царя нет. Пойти напиться…» Царя не было. Популярного вождя не было. Кинулись было к генералу Брусилову, а тот, бестия хитрая, заявил, что не может действовать без распоряжений правительства, которому присягал. Добавил очередную низость ко всем своим! Знал ведь доподлинно, что правительства больше не существует! И присяга удержала ли его в Феврале, когда он среди первых предал Государя? Встав однажды на скользкую наклонную плоскость, человек неудержимо катится вниз. И Брусилов – катился. Выпроводил прочь делегацию восставших, не желая портить отношения с большевиками, быстро поняв, с какой стороны ветер и, подобно флюгеру, в очередной раз повернувшись в нужном направлении. Так и остались без Вождя. Рябцов колебался и лишь снижал боевой дух. Умирать было не за кого. Это действовало удручающе. Возмущался тогда Сабуров Рябцовым, а позже думал, а так ли виноват был полковник? Шансов победить не было. Силы восставших были ничтожны в сравнении с большевиками. Орудий не было вовсе, патронов ничтожно мало. Что за время! У каждой сволочи было оружие, а господа офицеры и юнкера, чтобы добыть его себе, должны были жертвовать жизнями! И для кого было губить эти молодые жизни? Для обывателей, которые, как крысы, попрятались по домам и ничем не пожелали помочь?! Теперь эти обыватели гибли от голода, страдали от террора ЧеКи. И поделом! Нечего было дрожать за свои драгоценные шкуры в октябрьские дни, нечего было отсиживаться трусливо по подвалам! Когда пал Кремль, и стрельба утихла, все эти трусы (наши же, русские люди!) выползли на улицы, стали срочно пополнять продовольственные запасы. И не могли сдержать проступавшее на лицах удовольствие от того, что «всё кончилось». Ещё лежали тела убитых юнкеров, и взирала укором расстрелянная икона Святителя Николая, и зиял брешью купол Василия Блаженного, а горожанам не было дела до этого, они заботились лишь о том, чтобы наполнить свои утробы, чтобы их шкуры не попортили. Вот, из-за этого, из-за этих – и погибло всё! В ярости смотрел Сабуров на обывателей, сердцем багровея, проклинал их и теперь не мог сдержать злорадства от того, что им всё-таки не удалось сберечь ни шкур своих, ни дородности…
Два дня назад «Известия ВЦИК» объявили о расстреле Государя… Газета сообщала также, что Государыня и дети живы и отправлены в другое место. Но – не верилось тому. Расстреляли… Тайком. Без предъявления обвинений. Почти две тысячи лет назад в Гефсимании никто не посмел наложить рук на голову Христа, свидетельствуя тем, по иудейскому обычаю, своё обвинение. Не посмел и Иуда, заменивший наложение рук подлым лобзанием. Вечная трагедия, сквозной линией пронзившая историю человечества! Лицемерные народные старейшины, предатели, трусы, отрекающиеся, бегущие и хранящие молчание страха ради иудейска, толпы, обезумелые, отдающие предпочтение разбойнику Варавве перед праведником… И горстка верных, но растерявшихся и потрясённых.
Никто не наложил рук и на Государя. Не предъявил обвинений. Никто не судил его (во Франции, в Англии хоть видимость соблюли). Вся вина его состояла в том, что он был и оставался русским Царём, Помазанником. Но какая иная вина могла быть больше, тяжелее в чёрном оке бесноватой, ненавидящей Россию власти?
В тот же день, когда получено было скорбное известие, Патриарх Тихон созвал совещание Соборного Совета и в церкви Епархиального дома, где заседал он, совершена была панихида по убиенному Императору.
И на литургии в честь Казанской, проходившей в Казанском соборе, подле Кремля, где заседали палачи, поминали Государя. Патриарх произнёс вдохновенную проповедь:
– Счастье, блаженство наше заключается в соблюдении нами Слова Божия, в воспитании в наших детях заветов Господних. Эту истину твёрдо помнили наши предки. Правда, и они, как все люди, отступали от учения Его, но умели искренно сознавать, что это грех, и умели в этом каяться. А вот мы, к скорби и стыду нашему, дожили до такого времени, когда явное нарушение заповедей Божиих не только не признаётся грехом, но оправдывается, как нечто законное. Так, на днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов, и высшее наше правительство – Исполнительный комитет – одобрило это и признало законным. Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падёт и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего Государя: беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит перед нелицеприятным судом Божиим. Но мы знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе… И вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России, небольшой кучкой людей, не за какую-то вину, а за то только, что его будто бы кто-то хотел похитить. Приказ этот приводят в исполнение, и это деяние, уже после расстрела, одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны Церкви. Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы всё это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего: Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие е!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?