Текст книги "Мортон-Холл. Кузина Филлис"
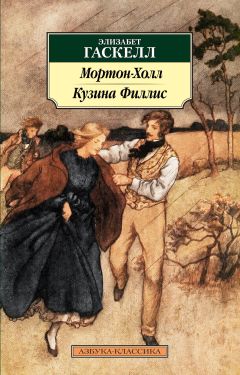
Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Возможно, Пол захочет съездить домой, – примирительно сказал пастор, словно бы желая остудить праведный гнев своей жены, хотя, полагаю, он тоже надеялся, что я встречу Рождество с ними.
Филлис устремила на меня долгий печальный взгляд. Кто смог бы противиться ее немой мольбе? Но я и не собирался противиться. При новом начальнике нельзя было рассчитывать получить в свое распоряжение столько дней, чтобы успеть съездить в Бирмингем и спокойно повидаться с родителями. А коли так, возможность провести денек-другой у родственников на ферме представлялась мне идеальным решением. Мы сговорились встретиться на праздничной службе в Хорнби; оттуда вместе пойдем к ним домой, и я останусь еще на день, если позволят обстоятельства.
В Рождество я, к стыду своему (хотя не по своей вине), опоздал на службу и сел на первое свободное место возле дверей. Когда богослужение завершилось, я вышел и стал на крыльце, чтобы не разминуться с Холменами. Возле меня собралась группа почтенных прихожан, которые раскланивались друг с другом и обменивались поздравлениями, прежде чем разойтись по домам. Неожиданно пошел снег, все немного замешкались и, слово за слово, от поздравлений перешли к пересудам. Я нарочно не вслушивался в разговоры, не предназначавшиеся для моих ушей, пока не уловил имя Филлис Холмен. Тут уж я, чего греха таить, навострил уши.
– …Ее не узнать! – сказала одна кумушка.
– Я прямо спросила миссис Холмен, здорова ли Филлис, – подхватила другая. – Говорит, недавно захворала, простудилась, обычное дело. В общем, не о чем беспокоиться.
– Напрасно они так уверены, – изрекла самая пожилая из прихожанок. – В их роду немногие дожили до старости. Взять хотя бы сестру ее матери, Лидию Грин – родную тетку Филлис: зачахла и померла ни с того ни с сего, а лет ей было примерно столько же – совсем молоденькая!
Мрачные домыслы прервало появление пасторского семейства – вновь раздались поздравления и благопожелания. Но я был так потрясен и встревожен услышанным, что дурное предчувствие камнем легло мне на сердце и помешало достойно ответить на радостные приветствия Холменов. Желая развеять сомнения, я бросил взгляд на Филлис. Мне показалось, что она еще больше вытянулась и стала вся как-то легче и тоньше, однако яркий румянец на ее щеках поначалу ввел меня в заблуждение, ибо я счел его свидетельством доброго здоровья. Но стоило нам войти в дом, как Филлис заметно сникла, побледнела и погрузилась в молчание; в провалившихся серых глазах на бескровном лице застыла печаль. При этом я не заметил большой перемены в ее поведении со времени моего прошлого визита, да и больной она тоже не выглядела. Все вроде бы подтверждало правоту миссис Холмен, которая заверила сердобольных приходских кумушек, что Филлис просто не вполне еще оправилась после сильной простуды.
Я уже говорил, что планировал заночевать у Холменов и провести с ними следующий день. Наутро все было уже белым-бело от снега, и, по мнению старожилов, конца снегопаду не предвиделось. Пастор кинулся проверять, вся ли скотина загнана в хлев и не нужно ли принять еще какие-то меры на случай затяжной непогоды. Работники кололи впрок дрова и возили зерно на мельницу, пока дороги не замело так, что на телеге не проедешь. Миссис Холмен и Филлис пошли на чердак укрывать яблоки, чтобы не померзли. А я с утра отправился на прогулку и вернулся за час до обеда.
К своему удивлению, я застал Филлис в общей комнате: она сидела возле буфета, подперев голову руками, и читала – во всяком случае, смотрела в книгу. Когда я вошел, она не подняла головы, лишь пробормотала, что матушка отослала ее вниз, подальше от холода. Уж не плачет ли она, отчего-то подумалось мне; должно быть, встала нынче не с той ноги. (И как только я мог заподозрить мирную, кроткую Филлис в глупых капризах? Бедная девочка!) Я нагнулся к камину поворошить угли и подбросить дров – за огнем явно никто не следил. И в ту же минуту странный звук заставил меня, в моем полусогнутом положении, замереть и прислушаться. Вот опять – судорожный вздох, выдающий безмолвные рыдания. Да, несомненно! Я резко выпрямился:
– Филлис!
Я устремился к ней с протянутой рукой, всем сердцем сострадая ее горю, каково бы оно ни было. Но моя кузина оказалась проворнее. Испуганно отдернув руку, пока я не успел схватить и удержать ее, она ринулась к двери.
– Не нужно, Пол! Я этого не вынесу! – сквозь слезы крикнула она и выбежала из дому на мороз.
Я стоял посреди комнаты в полном недоумении. Что это нашло на Филлис? Холмены жили в полнейшей гармонии друг с другом, тихая славная Филлис искренне почитала родителей, а те в своей единственной дочери просто души не чаяли: да узнай они, что у нее заболел мизинчик, места бы себе не находили! Может быть, я сам ненароком огорчил ее? Хотя нет, у нее глаза были на мокром месте еще до моего появления в комнате. Я заглянул в ее раскрытую книгу – очередная итальянская абракадабра, ни слова не разобрать; на полях карандашные пометки рукой Холдсворта.
Неужели?.. Неужели же в нем причина ее бледности и худобы, тоски во взоре, сдавленных рыданий?.. Догадка пронзила меня, как молния ночное небо, внезапно озарив картину с той предельной ясностью, которая навеки остается в памяти, даже после того как возвратившийся мрак вновь поглотит все вокруг. Я так и стоял с книгой в руке, когда на лестнице послышались шаги миссис Холмен. Говорить с ней мне сейчас не хотелось, и я, по примеру Филлис, стремительно вышел из дому.
На свежем снегу пролегла дорожка следов, поэтому установить, куда направилась моя кузина, труда не составляло; я также видел, что немного впереди к ней присоединился Бродяга. Следы привели меня в сад к большой поленнице у стены сарая, и я вспомнил, как в первый день нашего знакомства, когда мы с кузиной отправились в поле за пастором, она рассказывала, что в детстве облюбовала в дровянике укромное местечко, превратив его в свою тайную обитель, приют уединения, где можно было скрыться от всех с книгой или рукоделием, если домашние дела не требовали ее участия. Вот и теперь она воспользовалась своим детским убежищем, не подумав про следы на снегу.
Поленница была высокая, под самую крышу сарая, но сквозь просветы в кладке я легко отыскал Филлис, хотя и не понимал, как мне пробраться к ней. Она устроилась на толстом бревне, обняв верного пса за шею и прислонившись щекой к его голове. (Удобно и тепло, заметил я про себя, тут тебе и подушка, и печка в студеный зимний день.) До меня донесся протяжный тихий стон – так жалуется на боль бессловесная тварь. Или нет – так плачет вьюга за окном. Бродяга, польщенный лаской хозяйки и, вполне возможно, исполненный сочувствия к ее тоске, застыл как изваяние – только тяжелый хвост безостановочно стучал по земле. Но едва чуткие собачьи уши уловили мои шаги, Бродяга стряхнул с себя блаженное оцепенение и с отрывистым лаем вскочил, предупреждая, что он начеку и в любую секунду готов рвануться вперед. Я на миг остановился и затаил дыхание, пес тоже настороженно замер. Признаться, у меня не было уверенности, что я правильно поступаю, поддавшись сентиментальному порыву, но еще хуже было бы равнодушно смотреть, как страдание отравляет жизнь моей милой кузины, отнимает у нее покой и радость – страдание, которое я мог облегчить, если не полностью исцелить!.. Мне не удалось обмануть острый слух Бродяги, и пес вырвался из-под хозяйской руки, пытавшейся его удержать.
– Бродяга, куда же ты! Тоже бежишь от меня? – посетовала она.
Я заметил, откуда выскочил Бродяга, и завернул за угол поленницы.
– Филлис! – позвал я. – Филлис, выходите! Мало вам недавней простуды, что вздумали сидеть там на холоде! Не о себе, так о близких подумайте – какое огорчение вы доставите всем своей новой болезнью!
Она тяжко вздохнула, но вняла моим словам: пригнув голову, вышла из своего укрытия, распрямилась и стала напротив меня посреди затерянного в снегах голого сада. В лице ее было столько покорности и печали, что я пожалел о своем приказном тоне.
– Иногда мне так тесно и душно в доме! – призналась она. – В детстве я любила побыть здесь одна. Благодарю вас за заботу, но не нужно было идти за мной. Я редко болею простудой.
– И все-таки зайдемте лучше в хлев, Филлис, даже если мороз вам нипочем. Мне нужно кое-что сказать вам, а у меня от холода зуб на зуб не попадает.
Я видел, что ей хотелось бы вновь ускользнуть от меня, но недостало сил противиться, и она скрепя сердце последовала за мной. В хлеву было немного теплее, чем снаружи, и пахло коровьим дыханием. Я завел ее внутрь, а сам стал спиной к дверному проему, раздумывая, с чего лучше начать. В конце концов я решил не ходить вокруг да около.
– Я обязан оберегать вас от простуды, и не только ради ваших родных. Если вы сляжете, Холдсворт на том краю света будет с ума сходить от тревоги! – (Под «тем» краем света подразумевалась Канада.)
Она пронзительно взглянула на меня и тотчас отвернулась, едва заметно дернув плечом. Будь ее воля, она убежала бы прочь, но я предусмотрительно заслонил ей выход. «Ладно, была не была», – решился я и продолжил, не выбирая слов.
– Он только о вас и говорил перед отъездом – вечером того дня, когда мы в обеденный перерыв наведались к вам… и вы поднесли ему букетик. – (Она закрыла лицо руками, но уже не рвалась от меня, а слушала – вся обратилась в слух!) – Прежде он лишь изредка упоминал вас в разговоре, но этот нежданный отъезд словно бы отомкнул его сердце: он признался, что любит вас и по возвращении хочет просить вас стать его женой.
– Умоляю… – вымолвила или, скорее, выдохнула она то слово, которое раз или два порывалась сказать раньше, если бы голос не изменил ей.
Она стояла вполоборота ко мне, отворотив лицо и бессильно уронив руки; потом ее рука потянулась к моей и мягко сжала ее долгим благодарным пожатием. Не в силах дольше крепиться, Филлис облокотилась на деревянную перегородку, уткнулась в нее лбом и беззвучно заплакала. Я не сразу понял, чем вызваны эти новые слезы, и с ужасом подумал, что превратно все истолковал и своими речами еще больше расстроил ее. Я робко приблизился к ней.
– Ох, Филлис, простите!.. Я думал обрадовать вас. Он говорил с таким чувством, как может говорить только тот, кто влюблен, и я отчего-то возомнил, что вам отрадно будет это узнать…
Она подняла голову и посмотрела на меня. О этот взгляд! Ее блестящие от слез глаза светились почти неземным счастьем, на нежных девичьих губах играла блаженная улыбка, щеки вновь окрасил здоровый молодой румянец… Одно мгновение – и она снова спрятала от меня свое лицо, словно опасаясь, что оно слишком красноречиво поведает о ее чувствах, которые далеко не исчерпывались искренней признательностью, готовой сорваться у нее с языка. Я мысленно поздравил себя – моя догадка верна! – и попытался припомнить еще какие-нибудь ободряющие подробности своей беседы с Холдсвортом, но кузина оборвала меня все тем же коротким «Умоляю!..», по-прежнему пряча лицо в ладонях, и лишь спустя полминуты еле слышно прибавила:
– Прошу вас, Пол, не продолжайте, с меня довольно того, что я услышала… и за это я вам очень признательна, только… остальное пусть лучше он скажет мне сам, когда вернется.
Слезы вновь полились у нее из глаз, но то были уже иные слезы. Я послушно умолк и стал терпеливо ждать, когда она выплачется. Довольно скоро Филлис успокоилась, повернулась ко мне – все еще избегая встречаться со мной взглядом – и, взяв меня за руку, словно мы и впрямь были маленькие брат и сестра, сказала:
– Надо идти в дом, пока нас не хватились… По мне не видно, что я плакала?
– Видно, что вы простужены, – дипломатично ответил я.
– Пустяки, я здорова, только немного озябла. Пробегусь – согреюсь. Бежим вместе, Пол!
И мы, держась за руки, побежали к дому. Перед дверью Филлис остановилась:
– Прошу вас, Пол, не будем больше говорить об этом.
Часть четвертая
На Пасху те же приходские кумушки, которые три месяца назад обеспокоились здоровьем Филлис, окружили миссис Холмен и, позабыв о своих мрачных прогнозах, стали наперебой восхищаться цветущим видом ее дочери. И я не удивился их комплиментам, лишь только взглянул на Филлис. Мы не виделись с Рождества: через несколько часов после нашего разговора, вдохнувшего надежду и жизнь в ее сердце, я надолго покинул ферму. И теперь, глядя, как расцвела моя кузина, живо вспомнил сцену в коровнике. Едва наши глаза встретились, она угадала, о чем я подумал, и, вспыхнув, отвела взгляд. Еще некоторое время она пугливо сторонилась меня, к моему большому неудовольствию: не такой встречи я ожидал после долгой разлуки!
Дабы вернуть кузине душевный покой, я отступил от собственных правил. Не то чтобы я вероломно злоупотребил доверием друга – Холдсворт ни прямо, ни косвенно не просил меня хранить его признание в секрете. И все же временами мне делалось не по себе от мысли, что, может быть, я слишком далеко зашел в своем безудержном стремлении облегчить страдания Филлис. Я собирался тут же написать Холдсворту и все ему рассказать, но на середине письма споткнулся и надолго замер с пером в руке. Раскрыть Холдсворту заветную тайну кузины (насколько мне удалось в нее проникнуть) было бы еще более непростительно, чем передать несчастной девушке его слова, которые я слышал собственными ушами. Допустим, я убедился, что она всем сердцем любит его и от разлуки с ним едва не лишилась здоровья. Но какое право я имею докладывать ему об этом? А если не выдать ее потаенных чувств, как тогда объяснить, что сподвигло меня поведать ей о его признании? В конце концов я решил вовсе не трогать щекотливую тему. К тому же Филлис прямо сказала мне, что не желает выслушивать подробности любовного признания Холдсворта ни от кого, кроме как от него самого. Зачем же лишать его удовольствия самолично извлечь на свет нежную девичью тайну – первым услышать ее из невинных уст! Намного благоразумнее оставить при себе свои догадки и умозаключения, пусть даже граничащие с уверенностью, и обойти молчанием чувства кузины.
Вскоре после того как Холдсворт приступил к своим новым обязанностям, я получил от него два письма, полных энергии и энтузиазма; в обоих он настоятельно просил меня кланяться обитателям фермы и отдельно, хотя и вскользь, упоминал Филлис, как бы намекая, что в его памяти она занимает особое место. Письма Холдсворта я по прочтении пересылал мистеру Холмену – они, несомненно, заинтересовали бы его, даже не будь он знаком с автором: написанные умно, выразительно, сочно, они позволяли сельскому пастору, живущему безвыездно в английской глубинке, ощутить дыхание заморской жизни. Иногда я спрашивал себя, в каком деле, на каком поприще не преуспел бы пастор Холмен (материальную сторону я сейчас не беру в расчет), сложись его судьба иначе. Он мог бы стать замечательным инженером – поверьте мне на слово; хотя, как многих сугубо «сухопутных» жителей, его манили тайны бескрайних морей. А с каким наслаждением пастор изучал книги по юриспруденции! Однажды, раздобыв труд Делольма о британской конституции (если не ошибаюсь)[30]30
Имеется в виду книга швейцарского юриста и политического философа Жана Луи Делольма «Конституция Англии» («Constitution de l’Angleterre», 1771; «The Constitution of England», 1775).
[Закрыть], он в беседе со мной углубился в такие дебри законодательства, что я почувствовал себя полным невеждой. Но вернемся к письмам Холдсворта. Отсылая их мне обратно, пастор всякий раз прикладывал список вопросов, возникших у него по прочтении, каковые мне следовало переслать от его имени автору вместе со своим ответным письмом. Так продолжалось, пока я не додумался предложить своим друзьям сноситься друг с другом напрямую.
Вот как обстояли дела и какое место занимал в нашей жизни мой бывший начальник на тот день, когда я после пасхальной службы вновь оказался на ферме, уязвленный холодной отчужденностью Филлис. Неблагодарная, думал я. Ради нее я сделал то, чего делать, возможно, не следовало; возможно, с моей стороны это была ошибка, в лучшем случае – просто глупость. И вот результат – теперь она дичится меня как чужого!
Но я напрасно дулся: через несколько часов все вернулось на круги своя. Как только Филлис окончательно уверилась, что я ни словом, ни взглядом, ни намеком не собираюсь касаться предмета, занимавшего все ее мысли, она вновь стала прежней – моей милой сестрицей. И ей столько нужно было рассказать мне – за время нашей разлуки у них на ферме столько всего приключилось! Начать с того, что на Бродягу напала какая-то хворь и все страшно расстроились, и отец, посовещавшись с Филлис, решил за неимением иного способа помочь несчастному псу помолиться о его выздоровлении – и на следующий же день Бродяга пошел на поправку!.. В связи с этим чудесным исцелением кузине захотелось обсудить со мной такие злободневные темы, как наиболее подобающие варианты завершения молитвы, или прямые свидетельства Божьего промысла, или что-то еще в том же роде, только я заартачился, точь-в-точь как старая ломовая кляча, и наотрез отказался сделать хотя бы шаг в любезном ей направлении. А вот поговорить о разных куриных породах я был совсем не прочь, и Филлис указала мне самых примерных мамаш среди наседок и добросовестно описала характерные черты всех представителей птичьего племени, а я не менее добросовестно все это выслушал, ни секунды не сомневаясь, что ее слова опираются на опыт и знание. Потом мы пошли прогуляться по лесу за Ясеневым полем, высматривая на оттаявшей земле первоцветы и радуясь первым сморщенным листочкам.
С того дня она уже не боялась оставаться со мной наедине. Я никогда не видел ее счастливее и краше, чем в ту весеннюю пору. Сознавала ли она сама, отчего каждая ее минута наполнена безоблачным счастьем? Думаю, нет. Вот она стоит под какими-то серыми деревьями с набухшими цветочными почками (выше все подернуто нежно-зеленой дымкой, которая день ото дня становится гуще); легкий капор сполз с головы на шею, в руках трогательный букетик лесных цветов. Моего взгляда Филлис не замечает: она поглощена насмешливым щебетом какой-то пичуги в кроне соседнего дерева. Кузина бесподобно умела подражать пению птиц, в этом искусстве ей не было равных – она так досконально изучила их голоса и повадки, что легко могла «переговариваться» с ними. Еще прошлой весной я без конца просил ее продемонстрировать свое мастерство, но теперь она превзошла себя, от полноты своего ликующего сердца устраивая для меня настоящий птичий концерт с трелями, посвистом, воркованием, неотличимыми от репертуара пернатых.
Отец не мог нарадоваться на свою Филлис; мать, в молодости потерявшая малютку-сына, с удвоенной силой любила единственную дочь. Однажды я слышал, как миссис Холмен, посмотрев на Филлис долгим затуманенным взглядом, пробормотала, что девочка стала похожа на Джонни, потом горько вздохнула, подавив готовую сорваться с языка жалобу, и сокрушенно покачала головой, мол, ничего не поделаешь, уж видно, ей до скончания века не изжить боль утраты. Старые слуги преданно любили хозяйскую дочку, только по крестьянскому обычаю своей привязанности явно не выказывали. В общем, моя кузина Филлис напоминала прекрасную розу, расцветшую на солнечной стороне одинокого дома и надежно укрытую от злых ветров. В одной книжке стихов я прочел о девушке, жившей вдали от всех в пустынном краю: «Никто ее не воспевал, И мало кто любил»[31]31
Из стихотворения Уильяма Вордсворта «She dwelt among the untrodden ways» (1798), входящего в цикл «Люси».
[Закрыть]. Не знаю почему, эти строки всегда напоминали мне о Филлис, хотя их нельзя полностью к ней отнести. Конечно, никто не превозносил ее до небес, и домочадцев, искренне любивших ее, можно было сосчитать на пальцах одной руки. Но ее природный ум, доброта и чистота помыслов, безусловно, вызывали одобрение родителей, говорили они о том вслух или нет.
Когда мы оставались с Филлис вдвоем, ни один из нас не упоминал имени Холдсворта. Однако я, как известно, пересылал его письма пастору, и тот, после дневных трудов попыхивая трубкой, не раз заводил разговор о нашем отсутствующем друге. В такие минуты Филлис чуть ниже склонялась над шитьем и молча слушала.
– Мне не хватает его, не в обиду вам будь сказано, Пол, не хватает сильнее, чем я мог предполагать. Когда-то я выразился в том духе, что он действует на меня как дурман, но тогда я еще мало знал его и, возможно, самонадеянно присвоил себе право судить. Просто у некоторых людей ум так устроен, что им все видится необычайно ярко и выпукло, оттого и речи их звучат по-особому. Холдсворт из их числа. А я в своей обличительной гордыне возомнил, будто речи его легковесны; таковыми они и были бы – в моих устах, но не в устах человека его склада, иначе воспринимающего мир. Не далее как в прошлый четверг я на собственном опыте прочувствовал, что значит подходить к другому со своей предвзятой меркой. Представьте, заявляется ко мне брат Робинсон и обвиняет ни больше ни меньше в празднословии и насаждении язычества на том лишь основании, что я позволил себе в проповеди пустячную цитату из Вергилиевых «Георгик». А затем и вовсе договорился до того, что, изучая чужие языки, мы поступаем против воли Божией, недаром же строящих Вавилонскую башню Господь наказал смешением языков, «чтобы один не понимал речи другого»![32]32
Быт. 11: 7.
[Закрыть] Так чем я лучше брата Робинсона, когда осуждаю остроту ума, живость чувств и бойкость речей Холдсворта?
Первое облачко, смутившее мой покой, предстало в виде письма из Канады. Один пассаж не на шутку обеспокоил меня, хотя ничего особенного в нем вроде бы не было, если не искать в словах скрытого смысла. Приведу его целиком. «Я изнывал бы от скуки в своем канадском захолустье, если бы не свел дружбу с одним местным французом по фамилии Вантадур. Возможность коротать долгие вечера в его семейном доме для меня поистине спасение. Дети Вантадуров очень музыкальны, и слушать, как чудесно они поют хором, когда каждый ведет свою вокальную партию, – ни с чем не сравнимое удовольствие. А европейский шарм, сохранившийся и в повадках, и во всем домашнем укладе этой семьи, напоминает мне о счастливейших днях моей жизни. Люсиль, вторая по старшинству дочь Вантадуров, чем-то удивительно похожа на Филлис Холмен».
Напрасно я убеждал себя, что упомянутым сходством и объясняется, скорее всего, притягательность новых знакомых для моего одинокого друга. Напрасно пытался унять разыгравшуюся фантазию, вновь и вновь повторяя, что незачем делать из мухи слона и раньше времени бить тревогу. Меня не покидало дурное предчувствие, и никакие увещевания не помогали. Вероятно, для подобного предчувствия в душе моей имелась благодатная почва, давно усеянная зернами сомнений: я не был уверен, что правильно поступил, передав кузине прощальные слова Холдсворта. Радостное возбуждение, в котором она постоянно пребывала тем летом, ничего общего не имело с ее прежним состоянием нерушимого душевного покоя. И когда я, пугаясь этой метаморфозы, ловил ее взгляд, она заливалась краской и опускала глаза, словно стыдясь их блеска, причина которого была известна мне даже слишком хорошо. Я утешался лишь тем, что, быть может, мое воображение бежит впереди событий, иначе родители Филлис заметили бы столь разительную перемену в настроении дочери. А они явно ничего не замечали и никаких признаков беспокойства не выказывали.
Между тем перемена назрела в моей собственной жизни. В первых числах июля истекал срок моей работы в железнодорожной компании. Все запланированные линии были построены, и здесь меня больше ничто не удерживало: пришло время возвращаться в Бирмингем, чтобы занять приготовленную для меня нишу в преуспевающем предприятии моего отца. Подразумевалось, однако, что, прежде чем двинуться с севера на юг, я несколько недель проведу на ферме у родственников. Мой отец горячо поддержал эту идею, обо мне и говорить нечего, а что касается Холменов, то все последнее время они строили планы, чем мы будем заниматься и какие прогулки по живописным окрестностям совершать, чтобы разнообразить мои деревенские каникулы. Единственное, что омрачало предвкушение долгожданного отдыха, было «то самое», как я уклончиво именовал про себя свой глупый поступок, когда передал кузине слова Холдсворта.
Жизнь на ферме подчинялась простым, но незыблемым правилам, и мой приезд никоим образом не нарушал установленного регламента. У меня была своя комната в доме, я знал, что всегда могу воспользоваться ею – почти на правах хозяйского сына. Знал я и то, что каждый день здесь заранее расписан и мне, как члену семьи, надлежит придерживаться известного всем распорядка.
С наступлением лета в природе разлился дремотный покой. Теплый золотистый воздух наполнился мирным гудением насекомых; с окрестных полей иногда долетали людские голоса, а с мощеных дорог, пролегавших за несколько миль от пасторского дома, – отдаленный грохот колес. Птицы от жары смолкли, лишь изредка в тенистых кронах деревьев позади Ясеневого поля подавали голос лесные голуби. Коровы, зайдя по колено в пруд, беспрерывно отбивались хвостами от мух.
На покосе пастор, без шляпы и галстука, без сюртука и даже без жилета, остановился перевести дух с довольной улыбкой на лице. Ему помогала Филлис во главе цепочки работников, которые точными, размеренными движениями ворошили пахучее сено. Дойдя до края луга, упиравшегося в живую изгородь, кузина отбросила грабли и по-сестрински непринужденно приветствовала меня.
– Присоединяйтесь, Пол! – крикнул мне пастор. – Лишняя пара рук очень нам пригодится – надо спешить, пока светит солнце. Помните?.. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай»[33]33
Еккл. 9: 10.
[Закрыть]. Здоровый физический труд пойдет вам на пользу, молодой человек. Я давно убедился, что лучший отдых – это смена занятий.
Я охотно последовал его призыву и встал позади Филлис, согласно своему почетному статусу в примитивной иерархии (замыкал наш ряд крестьянский мальчишка, шугавший воробьев). Мы работали, пока красное солнце не закатилось за ели у дальней границы общинной пустоши. Только тогда мы воротились домой – поужинать, помолиться и лечь спать. До глубокой ночи за моим открытым окном распевала какая-то неугомонная птаха, а на заре раскудахтались курицы.
Собираясь на ферму, я взял с собой только самое необходимое, остальное должен был привезти на тачке носильщик, который не замедлил явиться с утра пораньше. Помимо вещей, он доставил мне письма. Я сидел в общей комнате, беседовал с миссис Холмен – ей непременно хотелось знать, как моя матушка выпекает хлеб, и она забросала меня вопросами, далеко выходящими за пределы моих скромных познаний. Наш разговор прервал работник. Сообщив, что прибыл мой багаж, он вручил мне два письма. Я вышел расплатиться с носильщиком и лишь затем взглянул на них. В одном конверте был счет для оплаты, в другом… письмо из Канады! Отчего в ту минуту я мысленно возблагодарил судьбу за то, что никто, кроме моей неприметливой доброй хозяйки, не видел, как мне вручили почту? Отчего поспешил спрятать письма в карман? Право, не знаю. На меня вдруг что-то нашло, какая-то странная дурнота, и на вопросы миссис Холмен я, кажется, стал отвечать невпопад.
Под предлогом, что мне нужно разобрать свой багаж, я поднялся к себе в комнату, сел на кровать и распечатал письмо от Холдсворта. Меня охватило такое чувство, будто я все это уже читал, слово в слово, будто наперед знал все, о чем собирается поведать мне мой далекий друг. Знал, что он хочет жениться на Люсиль Вантадур… что женился на ней! (Письмо пришло пятого июля, а свадьба, как он сообщил, была назначена на двадцать девятое июня.) Я наперед знал все его доводы и все восторги по поводу счастливой перемены в его судьбе. Мои руки, державшие письмо, безвольно опустились на колени, и я уставился в пространство перед собой. Однако способность наблюдать, вероятно, не окончательно покинула меня: я видел замшелый ствол старой яблони за окном, и гнездо зяблика, и птичку-мать, прилетевшую кормить своих птенцов, – видел и не видел, хотя впоследствии мне казалось, что я мог бы в точности воспроизвести на бумаге каждую травинку и мшинку гнезда, каждое птичье перышко.
Из оцепенения меня вывел гул оживленных голосов и стук башмаков на крыльце – работники вернулись с полей обедать. Я понимал, что должен спуститься к столу и что мне придется все рассказать Филлис: в постскриптуме Холдсворт, как законченный эгоист, помышляющий только о собственном счастье, зачем-то обещал, должно быть следуя дурацкому новомодному веянию, разослать свадебные карточки всем своим знакомым в Хорнби и Элтеме, включая меня самого и «добрых друзей с фермы „Надежда“» (он теперь не выделял Филлис из общего ряда «добрых друзей»).
Не знаю, чего мне стоило в тот день дождаться конца обеда. Помню, как через силу заставлял себя есть и что-то без умолку говорил – и как удивленно поглядывал на меня пастор. Он был не из тех, кто без веской причины думает дурно о ближнем, но иной на его месте решил бы, что я пьян. Когда я счел, что уже можно, не нарушая приличий, встать из-за стола, я извинился и вышел на воздух.
Пытаясь заглушить тревогу быстрой ходьбой, я шел куда глаза глядят, и ноги сами вынесли меня на незнакомую вересковую возвышенность. От усталости я замедлил шаг, и только тогда сообразил, что поросшая дроком общинная пустошь осталась далеко позади. Больше всего на свете мне хотелось повернуть время вспять и не совершить ужасной ошибки – чего бы я не отдал за то, чтобы несчастные полчаса, когда я распустил язык, были вычеркнуты из жизни! Я клял себя – и клял Холдсворта (несправедливо, каюсь). Целый час, если не больше, провел я на пустынной возвышенности, прежде чем повернуть назад с твердым намерением при первой же возможности все рассказать Филлис. Но одно дело решить, а другое – собраться с духом исполнить решение: когда я вошел в дом и увидел (из-за жары все двери и окна были распахнуты настежь), что Филлис в кухне одна, у меня от страха потемнело в глазах. Стоя возле буфета, кузина нарезала толстыми ломтями большую буханку хлеба: судя по низким грозовым облакам, затянувшим небо, в любую минуту могли явиться проголодавшиеся работники. Услыхав мои шаги, она обернулась.
– Что так рано? Отчего не помогаете убирать сено? – спросила она, и я подумал, какой у нее приятный спокойный голос. Подходя к дому, я слышал, как она тихонько напевает церковный гимн, и, очевидно, в душе ее разлилось благодатное умиротворение.
– Да, следовало бы помочь. Кажется, дождь собирается.
– Уже и гром погромыхивает. У мамы опять разболелась голова, она пошла к себе прилечь. Но раз уж вы здесь…
– Филлис, – прервал я ее, чтобы разом покончить с неизбежным. – Моя прогулка так затянулась, потому что из головы у меня не шло письмо, которое я получил сегодня утром, – письмо из Канады. Сказать, что оно огорчило меня, – значит ничего не сказать! – И я протянул ей письмо Холдсворта.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































