Текст книги "М.Ф."
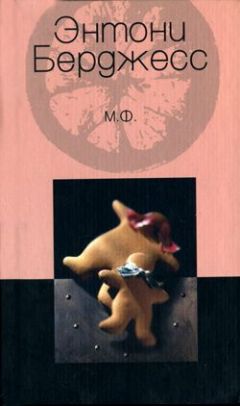
Автор книги: Энтони Бёрджес
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 6
Сента-Евфорбия, замученная при Домициане, трусцой бежала по Мейн-стрит или Стрета-Рийяль,[44]44
Центральная улица (язык сконструирован Берджессом на основе латыни и романских языков).
[Закрыть] восьми футов ростом, старательно вырезанная из мягкого дерева. Верный признак любительского искусства – слишком много деталей для компенсации чрезмерной безжизненности. На деревянные веки наклеены черные крашеные ресницы из свиной щетины; я видел пухлый розовый язык во рту, приоткрытом в последней боли, в первом проблеске кончины. Красное платье ее раздувалось, сплошь деревянное, кроме огромного фаллического гвоздя, орудия мученичества, кроваво приколотившего к телу погребальные одежды. Кровь присутствовала, любовно нарисованная, хотя раны были пристойно скрыты. Крепкий ее постамент был прочно установлен на носилках с четырьмя ручками; несли их четверо мужчин в бордовых одеяниях с капюшонами. Путь перед ней расчищал духовой оркестр, музыканты в темных балахонах, инструменты в серебристых вспышках, подобных внезапным уколам испытанной ею боли, играли избитый медленный марш с сентиментальной мелодией. За ней иноходью священники в стихарях, за ними ковыляли дети, тараща глаза, в какой-то скаутской форме. Рядом со мной всхлипывали две женщины, то ли над смертными муками святой, то ли над сладкой невинностью ребятишек, не знаю. Я был стиснут в толпе, пахнувшей чистым бельем, чесноком, мускусом.
Мне нужны были деньги; надо было где-то остановиться. От Пурта, где располагался причал для яхт, до центра Греисийты пришлось пройти милю; на паспорт мой просто кивнули, отсутствие багажа прошло незамеченным. Представители властей на причале сочли меня членом «Zagadki II», в том смысле, что «Zagadka II» послужила гарантом благонадежности в смысле благоплатежности. Аспенуолл и Ченделер это вроде бы подтвердили. С облегчением от расставанья со мной, помня, что высаженный на землю Иона был безобиден, как кит на мели, они мне помахали с готовностью, по без энтузиазма, который можно было б принять за прощальный. Как бы посулили потом еще встретиться. Но фактически они этого не желали, нет, ах нет. Фактическое прощание для этих двух голубков. И я пошел с возобновившейся под сильным солнцем головной болью прочь от моря и божьих тварей, по широкой дороге в Гренсийту, подмечая, что флаги, религиозные лозунги (Selvij Senta Euphorbia[45]45
Слава святой Евфорбии.
[Закрыть]), созвездия лампочек повреждены штормом, столь же сильным здесь, на побережье, как на море. Но теперь море было богородично-голубым, без единого облачка, над ним планировали промышлявшие чайки.
Теперь появился хор девушек брачного возраста, сплошь в белом, за исключением красного мазка спереди, вроде планшетки корсета, распевавших эту молитву. Это был древний язык Каститы, сложившийся из романского диалекта, на котором говорили первые поселенцы, вынужденные перебраться на кантабрийское побережье из какого-то безымянного средиземноморского местечка. Их поработили, но загадочная волна британских мусульман, колонизировавших и Охеду, освободила рабов и, ослабев в своей вере под здешним солнцем, растворилась на острове в христианстве, впрочем, после того, как вырубила из местного камня, застывшего меда, мечети. Процессия двигалась сейчас к Дууму – огромному собору – мечети на площади Фортескыо. Кто такой Фортескыо? Британский губернатор во времена британского владычества – rigija,[47]47
Правление.
[Закрыть] – ныне минувшие. От этого владычества остались, как я обнаружил, департамент общественных работ, английский язык, дебри законов, но не демократия.
К моему удивлению, но к радости всех прочих, процессия превратилась теперь в бесцеремонно мирскую. Произвел это преображение дисгармоничный аккорд – огромный деревянный фаллический гвоздь, окрашенный красным, как бы сочившимся из его шляпки, вроде студенистого карамельного крема, который держал в руках клоун вроде Панча,[48]48
Панч – персонаж английского кукольного театра, Петрушка.
[Закрыть] вилявший налево-направо, шаркая неуклюжими башмаками. За ним текли потоки с молодежными плакатами – Век Джаза (итонские стрижки, оксфордские сумки, мундштуки как у Ноэля Кауарда,[49]49
Кауард Ноэль (1899–1973) – английский актер, драматург, композитор, продюсер, автор оперетт, ревю, кинофильмов, сочетавших элементы комедии и мелодрамы.
[Закрыть] рогатый граммофон); Тюремная Реформа (каторжники, хлеставшие шампанское, держа на коленях тюремщиц в шелковых чулках); Сельское Хозяйство Каститы (рог изобилия из папье-маше, извергавший бананы, грейпфруты, ананасы, кукурузные початки и плоды хлебного дерева, с пухлыми девушками в потрясающих позах, в скудных одеждах Цереры); Дары Нашего Моря (Нептун со свитой, с гигантским уловом в сетях, включая еще шевелящегося осьминога); Дни Немого Кино (режиссер в бриджах с мегафоном, кинокамера с ручкой, Валентино, Чаплин и пр.); Благослови Боже Его Превосходительство (фотография крупным планом толстой симпатичной физиономии с умными, но неискренними глазами, окруженная флагами и салютующими детьми Руритании); остальное я, кажется, позабыл. Потом шел цирковой оркестр, наяривая пламенный марш с глиссандо тромбонов. Он не схлестнулся с прежним торжественным маршем, поскольку покорные оркестранты уже сложили инструменты у входа в Дууму, куда внесли Сента-Евфорбию и, наверно, спешили трусцой к алтарю. А потом слоны.
– Слоны? – изумленно вымолвил я. Повернулись веселые от души лица с разъяснениями:
– Цирк Элефанта, цирк Фонанта, цирк Атланта, цирк Бонанца.
Я так и не понял название. За слонами – Джамбо, Алисой, младенцем, державшимся гибким хоботком за хвост матери, – ковыляли фигляры и пара детенышей кенгуру, бившие в барабаны. Потом появились два льва в одной клетке и тигр с тигрицей в другой, грузовик с парой тюленей, дававших представление, балансируя полосатыми пляжными мячами, и прелестно бегущие белые пони с машущей балериной-хозяйкой. А потом толпа смолкла.
Высокая сухопарая женщина в терракотовом платье с лицом слабо светившимся, как бы от хны, шагала одна, с какой-то трагической гордостью. Над ее головой кружили, трепеща крыльями, птицы – майны, скворцы, попугайчики, – все трещали, пищали человеческим языком, обрывки слов тонули в шуме оркестра.
Видно, женщину окружала божественная или колдовская аура; отсюда молчанье толпы. Говорящая птица – нечто вроде зачарованного человека. Женщина сурово глянула на толпу, сперва налево, потом направо, взгляды наши, казалось, на миг встретились, и в ее глазах сверкнуло моментальное недовольное узнавание. Но она прошествовала дальше, а миг тишины и волнения улетел, изгнанный абсолютным демонстративным финалом, – футбольной командой Каститы, которая, как мне стало известно, победила венесуэльцев в финале кубка Центральной Америки. Они трусили, словно дорогу утаптывали, в оранжево-кремовой форме, ухмылявшийся капитан гордо, как дароносицу, пес серебряный трофей. Приветствие за приветствием за. Мы далеко ушли от Сента-Евфорбии.
Толпы зрителей хлынули теперь на улицу, став веселой волной карнавального шествия. Главным образом дети в потешных шляпах, с накладными носами, свистящими дудками и малиновыми свистками, гогочущие парни в джинсах с железными крестами и свастиками, болтавшимися на шее, хихикавшие девчонки в белом, желтом или голубом, как утиное яйцо. Люди постарше как бы улыбались и добродушно толкались на тротуарах по пути к площади Фортескыо или вливались в пивные. Мне тоже хотелось пить. У меня было всего девяносто американских центов.
Я зашел в подвальную пивную, длинную, узкую, как железнодорожный вагон. На этом острове с таким яростным солнцем выпивка всегда была темным делом: солнце в вине никогда не знакомилось с солнечным ликом на полных смеха бульварах. Почти ничего не видя, я пробирался сквозь пьяный шум, спотыкаясь об ноги. Один мужчина шумел громче любого другого:
– Как он на свое место пробрался, а? Всем чертовски хорошо известно, о чем я говорю, а если в тени шныряет какой-нибудь президентский шпион, пусть не старается. Я уже не боюсь. Ибо правда есть правда, ее не опровергнуть никакому официальному вранью, никаким интриганам наемникам.
– Ну, ладно, Джек, – сказал мужчина в белом фартуке, в темноте призрачный ниже пояса. – Кончай, чего у тебя там, да иди работай.
– Это не работа. Продажная фрагментарная правда, вот что это такое. Но никто никогда не задаст нужных вопросов, о нет. Чем наш любимый президент занимался с двумя маленькими девочками вечером 10 июня 1962 года в доме, который пусть останется без номера, на улице, которая пусть останется безымянной? Почему в таком скором времени после сбора по домам пожертвований в пользу сирот возникла целая флотилия «кадиллаков»? Почему Джеймс Мендоса Каллаген так внезапно и непонятно исчез осенью 1965-го? Вот эти и подобные вопросы – никогда, о нет. А я все ответы знаю, ребята, о да.
Теперь я его видел: плаксивый обломок интеллектуала в темпом костюме, дополненном жилетом, сидевший один за столом, с которого текло спиртное. Посетители перебивали его:
– Кончай, Джек, кругом полиция. Ладно, хоть сегодня не надо нам неприятностей. Господи Иисусе, зашел человек спокойно выпить. Умник, только посмотрим, куда ум его заведет.
Я стоял у стойки, заказывая бокал белого вина. И спросил мужчину в фартуке:
– О какой это он говорит продажной фрагментарной правде?
– А? Кто? Он? Ходит по городу в праздничные и в базарные дни и устраивает представления. Дон Мемория или мистер Мемори.
Потом мужчина в фартуке повернулся к нему, продолжавшему громкие бунтарские речи, и яростно рявкнул на первом или альтернативном языке острова:
– Chijude bucca, stujlt![50]50
Заткнись, дурак, пустомеля?
[Закрыть]
– Объясните также необъяснимое исчезновение редактора «Стейла дТренсийта» после выхода весьма деликатно отредактированной передовицы.
– Какие представления? – спросил я.
– Всем отвечает. Todij cwijstijoni.[51]51
На современные вопросы.
[Закрыть] Заткни свою жирную грязную пасть, провокатор. Или я вызову polijts.
– А то, что начальник полиции когда-то был мальчиком при его превосходительстве, подставлял ему задницу, это чистое совпадение?
– Tacija![52]52
Тише!
[Закрыть] Хватит! Вышвырните этого idijuta!
Мне показалось, будто, повернувшись от стойки, осматривая возмущенные лица, я увидал заглянувшую с солнца усмехавшуюся физиономию Ченделера и суровую Аспенуолла. Их было видно примерно секунду. В голове у меня вновь пульсировала боль. Потом на том месте встал, уже надолго, узнаваемый силуэт закона в рамке дверей на пороге, – тропический закон в накрахмаленных шортах, в рубашке с короткими рукавами; форма подчеркивала гибкость худого тела, обученного насилию. Кобура, руки в боки. Присутствовавшие, кроме Дона Мемории, умолкали, как будто серьезно слушали музыку.
– Спросите меня кто-нибудь, задайте вопрос, подобающий тошнотворному времени и прокаженному государству, где мы живем.
В ответ раздалось испуганное шиканье. Я поспешил вставить что-нибудь успокоительное:
– Чьим отцом было короткое яблочко?
– А? А, а? Если яблочко сорта пепин, то пепин – это Пипин Короткий, король франков, отец Шарлеманя. Семьсот четырнадцатый – семьсот шестьдесят восьмой, если вам нужны даты. Но такие вопросы бессмысленны в столь ужасные времена, как как как…
Я видел: он вглядывается в меня одним глазом, гадая, кто и что я такое, черт побери; густые грязно-седые волосы, тройной трясущийся подбородок. Силуэт в дверях шагнул внутрь в тяжелых ботинках, начали вырисовываться черты полицейского, словно в ванночке с проявителем.
– Давайте-ка еще послушаем про ужасные времена, – предложил полицейский.
– Жестокий лакей государства, президентский кулак, как сейчас там, в мире подкупа?
Я решил лучше уйти. Пока полицейского не интересовало мое задержание. Я обратился к жевавшему старику, перед которым па жирной бумаге лежало крошево из хлеба и свиного студня:
– Где он работает? Ну, вы поняли кто.
– На Дагобер-плейс, где ярмарка, – сообщил мужчина помоложе с дергавшейся левой рукой.
Полицейский уже более-менее поднял на ноги Дона Меморию, взяв одной рукой за воротник, а другой за штаны на заднице. Я вышел, слыша:
– Вернешься в участок, спроси, что там сделали с Губбио, с Витториии и Серано Старки. Кровавые репрессии, гвозди загоняют под ногти…
Потом я оказался на улице, щуря па солнце слепое лицо. Дагобер-плейс? Мне ткнул в нужную сторону пальцем или даже указал направление рьяный жандарм па посту у семафора. Услужливый народ, проявляющий массу энергии. Я пошел по булыжному переулку с закрытой газетной лавкой, свернул на улицу, где какие-то мужчины с песней сыпали зерна тмина на караваи, которые другие мужчины смазывали яичным белком; потом вышел на удлиненную пьяццу с двумя игравшими барочными фонтанами (каменные мышцы корчились, рты адски разевались, хватая в танталовых муках воду) и раскинутыми на время ярмарки прилавками. Продавались обычные вещи – детская одежда по сниженным ценам, футбольные бутсы, сласти; были тут наперсточники попытай-счастья и тиры. Веселые люди почти все смеялись в лицо зазывалам, прохаживались, облизывая конусы мороженого. Я высмотрел довольно тихий уголок и занял его. Требовалось нечто вроде платформы, поэтому я в немом представлении, ибо зазывала говорил исключительно по-каститски, выпросил взаймы три-четыре пустых крепких ящика из-под «Коко-кохо» (не такой уже новинки: напиток пришел на Карибы). И, поднявшись па свой постамент, объявил:
– Перед вами мистер Мемори-младший! Любые вопросы! Любыелюбыелюбые вопросы!
Робко хихикавшая россыпь юнцов вскоре оказалась со мной, и все-таки не со мной; они вполне могли быть как тут, так и в любом другом месте; ни один не смотрел мне в глаза, не бросал вызов. Потом мужчина средних лет, не совсем трезвый, крикнул издалека:
– Как сделать, чтоб жена меня не изводила?
– Закройте ей рот поцелуями, – крикнул я в ответ. – Утомите любовью.
Раздался смех. Толпа уплотнилась. Школьник попробовал что-то спросить, остальные не расслышали. Я крикнул:
– Юный джентльмен спрашивает, когда телевидение появилось. Если он имеет в виду первую общедоступную передачу, ответ – тринадцатого июля тридцатого года в Англии, благодаря системе Бэрда.
На самом деле мальчишка спрашивал дату открытия в Солсбери межрасового Университетского колледжа, но я не знал ответа. Приободрившись теперь, громкоголосые члены толпы предлагали вопросы: первое сообщение Морзе? (24 мая 1844 года); эвакуация из Дюнкерка? (3 июня 1940 года, в годовщину смерти Гарвея, описавшего систему кровообращения); древнее название столицы Болгарии? (Сердика, Триадица для византийских греков); двенадцатая годовщина женитьбы? (шелковая и льняная); краткая биография Че Гевары? (родился в Аргентине, сражался на Кубе, стал революционером в Гватемале); коктейль «Полуденная Смерть»? (шампанское и перно, хорошо охлажденные); рекорд по выпитому пиву? (Огюст Маффре, француз, 24 пииты за 52 минуты); 8 по Бофорту?[53]53
Бофорт Фрэнсис (1774–1857) – английский адмирал, картограф и гидрограф предложил названную его именем шкалу измерения силы ветра.
[Закрыть] (свежий ветер: ломает ветви деревьев; идти трудно); кто сказал, что англичане считают цивилизацией мыло? (немецкий философ Трейчке); артемизия? (полынь или старик); гуанако? (крупный вид ламы, использующийся как вьючное животное); международный генри?[54]54
Генри – единица индуктивности и взаимной индуктивности.
[Закрыть](= 1,00049 абсолютного генри); как понимать трипаносомоз? (заражение трипаносомами или Байер-205); как отчистить сажу и копоть? (попробуйте тетрахлорид углерода); второе имя Эдит Ситуэлл?[55]55
Ситуэлл Эдит (1887–1964) – английская поэтесса.
[Закрыть] (Луиза); победитель дерби 1958 года? (Крепкий Орешек, жокей К. Смирк).
Возможно, конечно, фактически задавались не эти вопросы, но вопросов было безусловно много, причем спрашивавший на каждый, как правило, знал ответ, поэтому и спрашивал. Я показывал около восьмидесяти процентов. А потом, к моему беспокойству, вопросы стали превращаться в загадки. Хихикавшая пухлая привлекательная молодая матрона спросила:
– Чего больше минуты не удержать, хотя оно легче пера?
Ответ простой. Потом морщинистая старуха сказала:
– В гостиной много стульев, посередине клоун танцует.
Молодой изможденный туберкулезник:
– Внутри тебя заперто, и все равно его могут украсть.
Дыхание у меня во рту скисло, сердце сильно билось. Может быть, надо было поесть. Ужасная головная боль. Потом кто-то сказал, я не мог разглядеть его четко:
Белая птица без перьев
Вылетела из рая,
Села на стену замка;
Пришел лорд Безземельный,
Поймал се, не хватая,
И поскакал без коня в белый зал короля.
– Да. Солнце, – сказал я. – Но откуда вам известно про снег?
А потом мужчина ученого вида в широкополой шляпе, в самоходном кресле-каталке, заговорил на языке, который я не ожидал услыхать на Карибах.
– Очень просто, – сказал я. – Слишком неприлично для такой смешанной аудитории. А теперь я хочу пустить шапку по кругу.
И сорвал с головы школьника кепку, улыбнувшись в ответ на неспрошенное разрешение. Кое-кто из толпы начал быстро рассеиваться. Но выступило неожиданное существо с криком: «Стой!» – и я замер в ошеломлении. Что это, головная боль искажает картину, солнце, голод? Львиная морда какого-то фантастического прокаженного на последней стадии, обрамленная иронически ухоженной пегой гривой. Тело маленькое, перекрученное, но неопровержимо человеческое. Руки как бы тянулись вперед дугой, чтобы лапами пасть на землю. Дешевый синий костюм тщательно отглажен к празднику, чистый воротничок, галстук с рисунком – собачьи розы. Существо выкрикнуло глухим лаем, как если бы его рот был набит песком:
– Отвечай, если можешь!
Я не хотел отвечать, хоть не знал почему. И крикнул в ответ:
– На сегодня представленье закончено. Попробуйте завтра.
Но толпа перестала рассеиваться, закричала, чтоб я отвечал. Существо подняло переднюю лапу, прося тишины, потом продекламировало свою загадку:
Входа пасть, язык, нос, зубы,
Вниз темнее адской глуби,
Осторожней в путь-дорогу,
Вдруг там львиная берлога.
– Я знаю ответ, – сказал я, – но меня могут арестовать за нарушение общественных приличий. Это часть той загадки про хрящик из студня. Нет, нет. Представленье закончено. Подайте, пожалуйста. Может, мозги у меня битком набиты, да карманы пусты. Подайте, пожалуйста, от щедрот бедному чужестранцу, оказавшемуся среди вас.
Человеклев поплелся прочь, ничего не дав. От остатков толпы я собрал – в мелочи, кроме цельной долларовой бумажки от ученого студня, – семь каститских долларов шестьдесят пять центов; каститский доллар, благодаря происхождению от старого британского полуфунта, стоил несколько больше своего американского кузена. Ответив на такую массу вопросов, я был вправе задать свой собственный: читатель знает какой. Мужчина-студень дал вежливый быстрый ответ. Теперь я заметил, что акцент у него французский или креольский. Левая рука затянута в хорошую кожу. Я поблагодарил и отправился искать дешевый отель.
Глава 7
На полочке у парадных дверей стоял телефон, и хорошенькая девушка в коротком платье – на груди аметист, «страж-привратиик» в виде помидорчика «бычье сердце», – говорила в трубку:
– Один-один-три. Один-один-три. Мистера Ар-Джея Уилкинсоиа.
А потом взглянула на меня так, как будто уже видела раньше и я ей не слишком понравился. Наплевать. Я пошел к администраторской стойке со своей новой бритвой и тремя новыми носовыми платками. Объяснил отсутствие прочего багажа, и хозяйка сочувственно причмокнула. Вот какие дела творятся в Нью-Йорке. В Индиях гораздо безопасней. Она втягивала губы до полного исчезновения, одновременно тряся головой. Это была женщина цвета мокко с пурпурными волосами, с белым, как выкошенная тропинка, пробором, одетая в кебайя. Три доллара за ночь – вроде бы не слишком.
– Запишите фамилию в книге. Ваш паспорт.
Отель назывался «Батавия», поэтому я так понял, что она, должно быть, из Индонезии или, скорее, из старой голландской Ост-Индии. Одна Индия другой стоит. Расписываясь, заметил у нее на стойке почти пустую пачку сигарет «Джи Сам Сой» с ароматом гвоздики, выпускаемых в Сурабае, и как бы двумя крепкими церебральными пальцами подавил свою ярость в связи с утратой синджантинок. И проворчал:
– Нью-Йорк.
– Да, да, ужас.
В маленьком фойе располагался жаркий, битком набитый пивной зал, увешанный почему-то вполне обыкновенными малаккскими корзинками для рукоделия. Крупные серые ящерицы шмыгали по стенам, прятались под картинами с изображеньями парусников, чмокали губами. Несколько мужчин играли в карты, одного, моргавшего в полной невнимательности, незлобиво обвиняли в жульничестве. Одинокий пьяница, закрыв один глаз, пробовал языком свою щеку; другой, из Ост-Индии, рассматривал календарь с картинками, изображавшими молодую коричневую пару, которая целовалась в губы, а на фойе шокированный консерватор постарше наполовину отводил глаза. Или консерваторша? Не припомню. Стоял приятный запах корицы и камфорного дерева. Большая открытая дверь вела в сад, где девушка вытряхивала накрахмаленные простыни, парень чистил водоем, бороздя воду палкой. Какой-то невидимый новичок неумело бряцал на чем-то вроде лютни – до ре фа ля. Похоже, хорошее место, можно остановиться.
Я понес ключ вверх по лестнице к номеру 8, отрыгивая рыбной похлебкой со специями, съеденной в каком-то сонном ресторане. Открытое окно с нейлоновыми занавесками, плясавшими от морского бриза, выходило на Толпин-стрит, полную веселого шума. Там была сапожная, кузница, лавка предсказателя судеб. В ветхом кинотеатре шел фильм «После послезавтра». Дальше море стояло стеной. Свободно колесили чайки. Прелесть. И пустая комната, обставленная в основном воздухом. А вода? Выйдя в коридор, я нашел рудиментарную умывалку – просто каменный пол, пара кранов. Выстирал рубашку куском жесткого синего мыла, но сперва, сложив чашечкой руки, запил купленные шесть таблеток аспирина. Шишка на голове уменьшилась, но боль еще толкалась и билась. Побрился вслепую, намылив подбородок голым куском мыла. Отложил то, что хотел сделать, должен был сделать, до завтра. А тем временем отдохнуть. Повесил рубашку на проволочный крючок под бриз и улегся меж грубыми чистыми простынями. «После послезавтра», сказал остаточный образ киноафиши. Нет, решительно завтра. Пораньше.
Сначала я не мог заснуть. Лежа на боку, впервые увидел тумбочку у кровати. Что там в ней? Ночной горшок, Библия Гидеона? Открыл, увидел книгу, слишком маленькую для Библии. Обложка стояла углом, словно крыша, с закладкой приличных размеров. Закладкой служил тяжелый блестящий свисток профессионального рефери, сама же книга оказалась сборником правил футбольной ассоциации. «Игрок считается в положении вне игры, когда находится ближе мяча к штрафной линии соперника и между ним и штрафной линией не находятся два соперника или не соперник ударил в последний раз по мячу». Мощно снотворная белиберда. Значит, здесь ночевал заезжий рассеянный рефери. Рассеянный, или в конце концов возненавидевший то, вот что превратилась игра, – в повод проламывать головы или швырять бутылки, не обращая внимания па судейские распоряжения. Надо отнести книгу и свисток вниз. Впрочем, нет. Свисток красивый, оставлю себе. Он производил приятное ощущение, свойственное любой твердой округлой металлической форме. Я коснулся лба маленьким дулом: оно холодило и гладило. На свистке была двойная длинная прочная петля. Я надел его талисманом на шею. Он как бы навеял на меня сон.
Снилась мне сестра, ставшая совсем маленькой, крошечной, скорей дочкой. Я нес ее по улицам Нью-Йорка под мышкой, как котенка, но, пока делал некоторые покупки, – вещи неясные, просто в виде громоздких пакетов, – она мне все больше мешала: под той и под другой рукой ей было тесно. Я бросил ее в Ист-Ривер, она обернулась рыбой. Глупый бессмысленный сои.
Проснулся без боли, застав быстрый закат. Что-то твердое, маленькое стукнуло в грудь, когда я вставал. Я опешил, потом вспомнил. Чувствовал голод. Рубашка высохла. Спустившись вниз, обнаружил пустой бар, кроме хозяйки. Она курила «Джи Сам Сой», запах гвоздики смешивался с корицей и камфорным деревом. Подняла глаза от переписыванья чего-то из маленькой книжки в большую, спросила:
– Вы долго пробудете?
– О, – сказал я, подумывая об отъезде, – о, до после послезавтра.
Она, видно, не поняла глупого намека. И сказала что-то вроде «слишком поздно».
– Почему слишком поздно?
– Я сказала tulat.[57]57
По-английски «слишком поздно» – too late
[Закрыть] В день после для после дня завтрашнего конкретный опытный работник будет нести у себя на плече некую ношу на некой палке, поддерживая ее другой палкой, переброшенной через другое плечо.
– Простите?
– На этом примере, – сказала она, улыбнувшись теперь, – нам в школе когда-то показывали, что в английском языке нужно слишком много слов, чтобы сказать очень простые вещи. На моем языке, именуемом бахаса, хватит всего трех.
– Правда?
– Tulat tukag tuil. Tulat: слишком поздно послезавтра и так далее. Tuil: слишком трудно нести и так далее. Может быть, так вы запомните эти слова.
– Но я не предполагаю никакой возможности испытывать когда-либо необходимость…
– При чем тут предположение?
На это нечего было ответить. Она собрала свои книжки, а потом сказала, как бы лишь для смягченья того, что могло показаться отпором моей юной дерзости:
– Доктор Гоици приглашает вас с ним пообедать. Сказал, в любое время с шести тридцати. В «Пепегелыо».
– Кто такой доктор Гонци, откуда он знает, что я здесь, зачем приглашает меня, где…
– Сколько вопросов. «Пепегелыо» рядом, за Толпин-стрит. Доктор Гонци сказал, что сегодня уже с вами виделся. Заходил сюда выпить. У него создалось впечатление или что-то вроде. Здесь это называется uspijtelijtet.[58]58
Гостеприимство.
[Закрыть] Он обидится, если вы не придете. Нехорошо обижать доктора Гонци.
Она кивнула и пошла в кабинетик за стойкой. Открыла дверь, вырвался едкий дым, словно смесь от астмы, послышался разговор, звяканье тихой выпивки. Вошла и закрыла дверь.
Таким образом, я шел по Толпин-стрит, вынюхивая чеснок и горячее масло. Лавки, кино, лавки, лавки. Кто же такой доктор Гонци? Ученый студень? Едва ли… Но кем-то ведь он должен быть. На ходу я услышал с темной боковой улочки карканье как бы попугая: «Крааааааа-ах», – а потом говор Нового Южного Уэльса: «Ellow, Cocky». Постой, «пепегелью» должно означать «попугай», правда? Я пошел вниз по улице, дошел до четкого запаха жареной рыбы, и правда, там был ресторан. Маленький открытый дворик с полудюжиной столиков, на них стеклянные подсвечники, кусты в кадках. Крытая кухня с дверью-турникетом. С какой-то виселицы свисала клетка с красно-синим попугаем с глазами фигляра, вцепившимся в прутья. Прямо позади шипело море. А за столиком сидел в одиночестве, я должен был догадаться, человеклев. Перед ним стояла хорошо ополовиненная бутылка клейдхемского виски. Увидев меня, он выхлебнул полный стакан и нетвердо поднялся.
– Доктор Гоцци?
– Удивление в вашем тоне, словно высокие академические почести считаются несовместимыми с… с… Ну, не важно. Хорошо, что пришли. Неплохо справлялись сегодня. Большие запасы абсолютно бесполезных познаний. Мне это нравится.
– Значит, вы не доктор медицины, сэр?
Мы сели, я с большим беспокойством. Лицо его жутко выглядело при свечах. «Погладь Коки, агагагага. Краааааах». Других посетителей не было.
– Философии. Истинной философии. Ее утешительность сильно переоценена. Боэций. Метафизика, устаревшее и не принятое во вниманье исследование. Я писал о епископе Беркли. Назовите меня идеалистом. Возможно, вы, зная столько ненужных вещей, знакомы с моим изданием «Альсифрона, или Обстоятельного философа».
В голосе тот же вчерашний глухой резонанс, хотя виски обострило согласные. Я сказал:
– Меня этот тип философии фактически не привлекает. Я хочу сказать, думаю, внешний мир существует.[59]59
По утверждению английского философа Джорджа Беркли (1685–1753), внешний мир не существует независимо от восприятия и мышления.
[Закрыть]
– Думаю, говорите вы, думаю. Позиция вполне берклианская. А теперь, может, подумаем что-нибудь съесть?
Он щелкнул когтистыми пальцами. Попугай ответил безобразным весельем, потом вышел маленький усатый креол в белом костюме.
– Позвольте мне, – сказал доктор Гонци. – Я думаю, раковый суп, а затем иллюзия жареной летучей рыбы с перцами. Что думаете пить, виски?
– С удовольствием.
– Думаете. Вы думаете, что, возможно, я занял идеалистическую позицию, не желая, не имея возможности выносить внешний мир, где существует вот эта прискорбная маска и столь смехотворное тело. Чем больше иллюзий, тем лучше. Да? Реальность – душа. Сексуальный аппетит – иллюзия, подобно прочим аппетитам, отражение моего лица в чужих глазах – фокус кривого зеркала. Дети не пугаются по-настоящему, души их не волнуются. Знаю, что вы думаете. Но сегодня мне все равно.
– Нет, нет, в самом деле. Я хочу сказать, меня так занимают недостатки собственного тела. Понос, боли, болезни. Нет, серьезно.
– Можно сделать болезнь романтичной, сексуально привлекательной. Это вам должно быть известно. Безобразие определяется в понятиях красоты, верно? Но когда кто-то по генетическому капризу как бы изгоняется из собственного царства, когда все нормальные эстетические стандарты становятся неприменимыми… Я понятно выражаюсь? Да? Выпейте виски.
Лапа цапнула бутылку, свеча отрыгнула золотой свет, канувший в моем бокале.
– Лишь войдя в миф, – сказал он, – можно прийти к примирению. Понимаете? Я долго ждал появленья кого-нибудь вроде вас. Мои слова имеют для вас какой-то смысл?
– Фактически, не совсем, пока нет.
Официант принес рыбный суп, в котором плавал бренди, поджег наши тарелки тонкой свечкой, зажженной от нашей свечи. Доктор Гонци взглянул на меня через стол в краткой вспышке адского пламени. Я был очень взволнован, только точно пока не знал чем.
– Неплохая иллюзия добродетели, да?
Рыбный суп без сомнения был хорош: горячий, греющий душу, вкусный. Я сказал:
– Беркли все толковал про смоляные воды, правда? О предполагаемой добродетели смоляных вод.
– Чепуха. Ничего нет хорошего в смоляных водах.
Он как бы мрачно задумался о смоляных водах, черпая ложкой свой суп. Потом сказал:
– Кентавры и тому подобное. И разумеется, Пан, великий бог. Паника.
– Что вы хотели сказать, говоря, будто долго ждали? Кого-нибудь вроде меня, я имею в виду.
– Определенного сочетания безумного таланта и ощущенья вины. Да, вины. Вы так скорбно отвечали на все те вопросы. Ах, вот и летучая рыба. Прискорбно, прискорбно, кончены их игры в морской пене. Улеглись с фаршированным перцем. Мог ли когда-нибудь даже пригрезиться летучей рыбе фаршированный перец? Человек, человек, великий скорбный сопоставите ль несопоставимого. Еще бутылочку того же самого, а?
Он пил и все больше пьянел. Но с большой охотой ел рыбу, суетливо выплевывая из надутых губ случайные косточки. Ему как бы хотелось продемонстрировать, что он, невзирая на внешность, не плотояден. Я тоже ел рыбу, чересчур сухую. Перец был фарширован рисом, сваренным в рыбном бульоне. Виски оказалось изысканно мягким, и я сказал об этом.
– Ах, хорошо, сегодня мы должны себя побаловать. Никакой диспепсической чепухи-требухи. Нынче особенный вечер. Как я уже говорил, мне пришлось долго ждать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































