Читать книгу "Зеро"
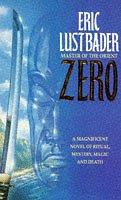
Автор книги: Эрик Ластбадер
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Хироси Таки мастерски владел холодным оружием.
Катана – большой самурайский меч Зеро – устремился в грудь Хироси, но тот, отражая удар, взмахнул рукой, поймал его между лезвием и выступом гарда своего дзитте и повернул рукоятку. Лезвие меча оказалось зажатым, и Хироси рванул его на себя и в сторону. Зеро не смог удержать рукоять меча, и тот вонзился в футон сбоку от сидящего Хироси.
Хироси мгновенно освободил дзитте и попытался ударить, направив его в горло врага. Но убийца резко ударил Хироси ребром ладони по запястью, одновременно выдергивая другой рукой катану. Меч просвистел перед самым лицом отпрянувшего Хироси.
Готовый к такому повороту событий, Хироси снова попытался применить кинжал, чтобы на этот раз сломать клинок захваченного меча. Но противник вовремя разгадал его намерение и отвел руку. Дзитте только лязгнул по мечу, но не захватил его в тиски. Хироси сделал отчаянный выпад, снова целясь в горло, уже уверенный, что не промахнется, и это был его последний выпад.
Встречным ударом, слишком стремительным даже для глаз Хироси, Зеро выбил оружие у него из рук, и кинжал, пролетев через всю комнату, со звоном упал на пол.
Воспаленным взглядом следил Хироси за сверкающим клинком Зеро, пересекающим столб лунного света. Полыхнуло холодное пламя. Хироси закричал.
На его теле появилась единственная, но глубокая ранка, словно молниеносный надрез, сделанный искусным хирургом. Кровь брызнула из ранки фонтаном, а Хироси все кричал, глядя на скрытое повязкой лицо. Он еще боролся, пытаясь достать его рукой, но Зеро с нечеловеческой силой пригвоздил предплечье Хироси к полу.
Хироси, охваченный безумием обреченного, напрягся и, закусив губу от дикой боли, встал. Сквозь хлынувшие из глаз слезы увидел свое неестественно вывернутое плечо и выпирающую из сустава кость.
– Кто? Кто ты? – выдохнул он, потом взмахнул здоровой рукой, рассек ее об обоюдоострое лезвие меча и, не замечая боли, вцепился в черный плащ, силясь проникнуть взглядом сквозь мрак ночи.
– Кто ты?
За миг до смерти ему было необходимо во что бы то ни стало сбросить покров с этой тайны. Ему показалось, что он узнал...
И снова раздался короткий, леденящий душу смех.
– Зеро.
Когда разбуженные люди Хироси, схватив оружие, прибежали из других частей дома в спальню хозяина, они нашли там только два бездыханных тела. В крыше зияла дыра, луна заливала комнату мертвенным светом и отражалась в остекленевших глазах покойников. Зрелище было столь жутким и произошло все так быстро, что слугам в суеверном ужасе сначала показалось, будто на дом обрушилась карающая десница самого Будды.
Наше время, весна
Париж – Токио – Вашингтон – Мауи
Майкл Досс начал Сюдзи Сюрикэн на рассвете. Буквально эти слова означают «высечь на камне девять иероглифов», но могут быть переведены и как «девять сабельных ударов». На самом деле это дыхательные упражнения с повторением на выдохе девяти магических слов-идеограмм. Столетиями некоторые буддийские секты передавали своим ученикам эзотерические, доступные лишь посвященным, традиции и навыки, включавшие в себя искусство фехтования кэндзитсу и многое другое.
Как обычно, Майкл начал с того, что вообразил, будто слышит звуки японской бамбуковой флейты, под которую когда-то проходило большинство его тренировок. Пронзительно чистые, нежные ноты, звучащие только в его мозгу, позволяли ему забыть, где, в каком городе и в какой стране он находится, забыть любой язык, любые обычаи и условности и помогали достичь состояния сосредоточенности и слияния с некоей глубинной сущностью бытия. Без сосредоточенности и слияния Сюдзи Сюрикэн невозможно. Просто произнести девять магических слов-заклинаний недостаточно, их необходимо наполнить жизнью и, совершив это, обращаться с ними сугубо осторожно и с неусыпным вниманием.
В сущности, эти действия – своего рода древнее и могучее искусство особого рода волшебства.
Сидя со скрещенными ногами под колышущимися ветвями платана, Майкл вытянул правую руку вперед ладонью к земле.
– Уу, – сказал он. Бытие.
Он повернул руку ладонью кверху.
– My. – Небытие.
Его рука опустилась и спокойно легла на колено. Париж пробуждался, верхушки облаков над пестрыми крышами окрасились в розовый цвет зари.
– Суйгетсу. – Лунный свет на воде.
Прямо за спиной Майкла в небо вздымались математически совершенные параболы черных опор Эйфелевой башни, как будто впитавшей в себя весь мрак уходящей ночи. Пастельный фон остального города нереально, чудовищно приближал ее на расстояние вытянутой руки, и ажурная, издали такая легкая конструкция казалась неуклюжей и тяжеловесной.
– Дзё. – Внутренняя искренность.
– Син. – Сердце – хозяин разума. Первые лучи солнца внезапно брызнули на верхушку башни, и показалось, будто в нее ударила молния.
– Сэн. – Мысль предшествует действию.
– Синмиокэн. – Там, где находится острие меча. Снизу донеслось шарканье метлы, поднимающей пыль с тротуара, потом послышались короткая возбужденная перепалка мадам Шарве со своей дочерью и визгливый лай собачонки с покалеченной лапой. Началась повседневная шумливая суета соседей.
– Кара. – Полая оболочка. Ее заполняет то, что выберет сам Майкл: Добрая сила.
– Дзэро. – Ноль, пустота, зеро. Место, где Путь не имеет власти.
Майкл встал. Он бодрствовал уже два часа, начав с фехтования, которому обучался в школе Синкагэ. Кагэ – «отклик» – это основа всего, чему его учили, принцип, согласно которому следует не действовать, но реагировать на внешние воздействия, защищаться, а не нападать.
Через застекленную высокую дверь Майкл прошел с балкона в прохладный полумрак квартиры, расположенной на верхнем этаже серого каменного дома на Елисейских Полях. Он сознательно выбрал это место из-за его близости к башне и своеобразного освещения, создаваемого раскинувшимся у ее подножия садом Марсова Поля. Подходящее освещение было крайне важным, даже непременным требованием, предъявляемым Майклом к своему жилью.
Он сбросил традиционный японский фехтовальный костюм ги, который состоял из хлопчатобумажных шаровар, распашной рубахи и черной куртки, перетянутой на поясе черным же поясом. Цвет пояса указывал степень фехтовального мастерства его обладателя.
Майкл принял душ, натянул линялые джинсы, заляпанные краской, и белую сорочку без воротника с закатанными рукавами, влез в мексиканские гуарачи и бесшумно прошел в кухню, где налил себе чашку зеленого чая. Открыв холодильник, зачерпнул пригоршню холодного клейкого риса и, жуя на ходу, с чашкой в руке направился в длинную захламленную гостиную.
Хотя Майкл Досс был владельцем одной из лучших полиграфических фирм в мире, в контору он наведывался в лучшем случае раза два в неделю. Да и то лишь затем, чтобы приглядеть в лаборатории за соблюдением технологии производства патентованных фирменных красителей собственного изобретения. Благодаря этим красителям фирма снискала себе превосходнейшую репутацию. Несмотря на сложность видоизмененного Майклом полиграфического процесса и связанную с этим ограниченность тиражей, музеи, галереи и наиболее престижные современные художники не гнушались стать в очередь на издание репродукций своих собраний и работ – настолько яркими и близкими к оригиналу получались передаваемые цвета.
В дальнем конце огромной гостиной Майкл распахнул настежь двустворчатую дверь, и солнечный свет резко высветил его глубоко посаженные оливковые глаза и черные волнистые волосы, имевшие тенденцию быстро растрепываться, когда их надолго оставляли без внимания, как сейчас. Черты его лица – выпирающие скулы, чуть тяжеловатая линия подбородка, узкий лоб – казались почти библейскими. На людей Майкл производил впечатление сурового, неулыбчивого и не прощающего обид человека, но те, кто поддавались этому впечатлению, заблуждались. Майкл был добродушен и ценил шутку.
Он потянул за шнур, и в комнату через потолочное окно хлынул поток света. Собственно, это помещение неправильно было называть комнатой – в центре огромного пространства с голыми стенами, где не было никакой мебели, стоял лишь большой деревянный мольберт, испещренный цветными пятнами, да рядом, на стуле, – початая коробка красок, накрытая палитрой, и стакан с кистями. На спинке стула висела ветошь.
Майкл пересек мастерскую и стал перед мольбертом с натянутым на него холстом. Продолжая прихлебывать зеленый чай, он принялся скользить по картине придирчивым взглядом. На холсте были изображены две мужские фигуры – юноши и старика. Яркое небо Прованса подчеркивало контраст между ними.
Майкл принялся анализировать композицию. Он считал важным не только изображенное на картине, но и то, чего на ней нет явно, но подразумевается. Он вглядывался в краски, придирчиво отыскивая признаки дисгармонии в цветных полутенях и оттенках зелени. «Яппари аой куни да! – так говорят японцы летом. – Этот зеленый мир!»
Вскоре Майкл пришел к выводу, что вот здесь чересчур много зелени леса, а там – недостаточно зелено яблоко. В целом же картина тяжела, решил он. Теперь понятно, почему вчерашняя работа оставила в душе осадок неудовлетворенности.
Не успел Майкл взять первый тюбик и выдавить краску, как зазвонил телефон. Майкл обычно не подходил к нему во время работы и услышал звонок только потому, что забыл плотно закрыть дверь ателье. Секунду спустя включился автоответчик. Но не прошло и пяти минут, как телефон зазвонил опять. Когда он затрезвонил четвертый раз подряд, Майкл отложил палитру и подошел сам.
– Oui. – Он машинально заговорил по-французски.
– Майкл? Это я, дядя Сэмми.
– О, черт, простите, – извинился Майкл, переходя на английский. – Это вы сейчас названивали?
– Мне непременно нужно было до тебя добраться, Майкл, – ответил Джоунас Сэммартин. – До живого, а не до твоего магнитофонного голоса.
– Рад вас слышать, дядя Сэмми.
– Да, давненько мы не общались, сынок. Я звоню, чтобы попросить тебя вернуться домой.
– Домой? – Майкл не сразу понял, о каком доме идет речь. Его дом давно был здесь, на Елисейских Полях.
– Да, домой, в Вашингтон, – со вздохом произнес Сэммартин и прокашлялся. – Тяжело, но надо. Твой отец умер.
* * *
Масаси Таки терпеливо ждал, пока Удэ прокладывал ему путь в битком набитом зале. Опорами перекрытия зала служили грубо обтесанные кипарисовые балки, кедровые панели стен источали хвойный дух. В зале не было окон, поскольку он находился в центре огромного дома Таки-гуми, расположенного в токийском районе Дэйенхофу, где до сих пор сохранились обширные усадьбы с особняками. С потолка свисали ряды знамен, вышитых древними иероглифами. Знамена придавали залу вид средневековый и церемониальный.
По традиции здесь созывались общие сборища клана Таки – крупнейшего и самого могущественного из всех семей якудзы.
«Якудза» – общее название разветвленной сети подпольных гангстерских организаций. В последние годы, благодаря гению Ватаро Таки их деятельность приобрела международный характер. Отдельные крупные организации пока соперничали или действовали недостаточно согласованно, но Ватаро Таки делал все, чтобы прекратить распри, окончательно объединить якудзу и считался ее признанным патриархом и «крестным отцом». Японская мафия внедрилась в законный бизнес в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, стала управлять целыми поместьями, отелями и курортами на Гавайских островах. И вот патриарх скончался, и теперь предстояло избрать нового главу Таки-гуми.
Тихий шепот прокатился по толпе «лейтенантов» и кобунов – глав дочерних кланов, входящих в состав Таки-гуми, и рядовых членов семьи, которые в конечном счете составляли ее плоть и кровь.
Масаси был младшим из сыновей Таки. Худой и смуглый, он очень напоминал молодого Ватаро Таки. Удлиненная, словно у волка, челюсть и нетипичные для Японии, торчащие скулы придавали его лицу сходство с обтянутым кожей черепом, и Масаси, стараясь усилить это устрашающее впечатление, приучил свои лицевые мышцы сохранять прямо-таки скульптурную неподвижность.
Телохранитель Удэ, который расчищал Масаси дорогу в противоположный конец зала, обладал двумя милыми сердцу японца достоинствами – дородностью и недюжинной силой. Помимо обязанностей телохранителя он выполнял еще и функции карающей десницы своего господина.
Пока они проталкивались к помосту, Масаси успел несколько раз внимательно взглянуть на своего старшего брата Дзёдзи, уже занявшего почетное место перед стилизованным колесом с шестью спицами – большим фамильным гербом Таки-гуми. Герб этот, одно из нововведений старого Ватаро, был позаимствован из книги о феодальном прошлом Японии. В прежние времена каждый самурайский военачальник имел свой геральдический знак. В жилах Таки не текла благородная самурайская кровь, однако Ватаро тем не менее присвоил себе герб и психологически возвысил свой клан над остальными кланами якудзы.
Дзёдзи, как и Масаси, унаследовал от отца сходство с волком, но если младший брат казался зверем сильным и жестоким, то средний выглядел поджарым и облезлым. Дзёдзи и впрямь рос болезненным ребенком, мать любила его до безумия и вечно с ним нянчилась. Да и потом он превратился в хилого, вялого подростка. Но правдой было и то, что, повзрослев, он окреп, никогда не болел и редко уставал. При звериной выносливости и необычайной работоспособности Дзёдзи неплохо шевелил мозгами и, пока был жив отец, вел всю бухгалтерию клана. Это означало, что он посвящен во все семейные тайны и ничто на свете не может заставить его выдать их.
Черные, глубоко посаженные глаза Дзёдзи воззрились на младшего брата, шествующего сквозь толпу с победоносным видом триумфатора. Хотя Масаси в последнее время частенько открыто перечил отцу, ему было не занимать обаяния, умения привлечь людей на свою сторону и повести их за собой. Логично предположить, что «лейтенанты», взвинченные последними событиями и озабоченные своим будущим, охотно потянутся за ним, и Масаси станет правой рукой Дзёдзи.
Дзёдзи подождал, пока брат доберется до помоста, и поднял руку, призывая к молчанию.
– Наш оябун умер, – без вступления начал Дзёдзи. – А теперь вот и Хироси, любимый наш брат, удостоенный чести стать новым оябуном Таки-гуми, безвременно вырван из лона нашей семьи. Отныне я, как следующий по старшинству, буду делать все, что в моих силах, дабы сохранить наследие и претворить в жизнь мечту Ватаро Таки. – Он склонил голову и на мгновение застыл, прежде чем удалиться.
И тут он с удивлением увидел, что на его место выходит Масаси.
Тот выступил вперед и обратился к собранию.
– Когда мой отец, Ватаро Таки, скончался, об этой утрате скорбела вся нация, – начал он. – Во время похорон проститься с ним пришли тысячи людей. Дань уважения отдали главы государств, министры, президенты корпораций и политические лидеры. Присутствовал даже посланник самого императора. – Масаси обвел взглядом слушателей, обжигая горящими глазами то «лейтенанта», то кобуна. – Почему они это сделали? Потому что мой отец был выдающимся человеком, столпом власти, к которому любой член нашей большой семьи мог обратиться за поддержкой и защитой. Враги же боялись его пуще смерти, с ними он был свиреп, как лев.
Теперь он нас покинул, и я прошу вас задуматься над тем, какое будущее нас всех ожидает. Мы осиротели. К кому обратиться за советом и помощью в эти тревожные времена? Кто даст гарантию, что враги будут, как прежде, держаться на почтительном расстоянии?
Я говорю не только о соперничающих с нами кланах. Исторически сложилось так, что Таки-гуми всегда первым вставал на защиту Японии от русской экспансии. От нас до Советского Союза меньше сотни миль. Советы относятся к нам с опаской и недоверием и, как некогда американцы, выискивают возможность подчинить нас своему влиянию и поработить. Вот против чего мой отец боролся всю жизнь. Мы должны продолжить его дело.
Взор Масаси блуждал по залу, он пристально и проникновенно вглядывался то в одного слушателя, то в другого. Голос его, будто у искушенного оратора, грозно понижался, а потом нарастал и начинал звенеть с призывным пафосом.
– Весь вопрос в том, сумеет ли Таки-гуми сохранить первенство среди кланов якудзы? Или нас окружат многочисленные, алчущие добычи враги и будут вырывать у нас кусок за куском, пока не отберут все, сведя на нет наш некогда гордый род?
Смею утверждать, что ответ для вас уже очевиден. Обеспечить прекрасное, мудрое руководство делами клана, не отступая от пути и традиций Ватаро Таки, был способен мой возлюбленный брат Хироси. Но Хироси умер. Пал от руки наемного убийцы по кличке Зеро. Кто из наших врагов нанял негодяя? Кому понадобилось в час тяжкого семейного горя добавить нам скорби и страданий, чтобы, цинично воспользовавшись нашей слабостью, урвать себе кусок пожирнее?
Так вот, я утверждаю, что сейчас наша самая насущная задача состоит в том, чтобы обеспечить будущее Таки-гуми. Либо мы, расколотые и ослабленные врагами, вскоре погибнем, либо, сплотив свои ряды, став более воинственными и беспощадными, лишим сил и подавим тех, кто в противном случае сокрушит нас.
Мы вступаем в полосу кризиса. Наступают отчаянные времена, как для якудзы, так и для всей Японии. Наша семья, гордость якудзы, должна стремиться занять подобающее ей место в международном бизнесе. Будучи японцами, мы обязаны добиваться равенства нашей нации с остальными нациями мира, равноправия, в котором великие державы всегда отказывали жителям наших крошечных островов. Я призываю вас присоединиться к борьбе за будущее, в котором нас ждут лишь слава и процветание! И к такому будущему наш дом может привести только один оябун – это я, Масаси Таки!
Лицо Дзёдзи посерело, он был ошеломлен и оглушен восторженным ревом и рукоплесканиями, которыми общее собрание клана ответило его брату. Дзёдзи слушал его слова со смешанным чувством изумления и ужаса, и теперь, скованный страхом, безвольно смотрел на этих людей, в едином порыве вскочивших с мест, словно войско пехотинцев по сигналу к выступлению.
Он перестал слышать звуки, перед глазами все смешалось, завертелись искаженные безумным исступлением лица с разинутыми ртами...
Очнувшись, Дзёдзи Таки торопливо покинул зал. Он сгорал от стыда и унижения.
* * *
Строго говоря, Джоунас Сэммартин не был дядькой Майкла Досса. Во всяком случае, по крови. Но благодаря многолетней дружбе с отцом Майкла он стал Филиппу Доссу даже более близким человеком, чем кровные родственники, от которых тот в свое время отдалился.
Филипп Досс любил Джоунаса, как брата. Он доверил ему благополучие своей семьи и собственную жизнь. Вот почему не мать или сестра, а именно дядя Сэмми позвонил Майклу в Париж. А возможно, еще и потому, что Сэммартин был шефом Филиппа Досса.
Так или иначе, дядю Сэмми любили все члены семьи.
Филипп Досс нечасто бывал дома, так что Джоунас Сэммартин во многом заменял его детям отца. В свои редкие и всегда неожиданные наезды домой отец никогда не забывал привезти из стран, по которым ему доводилось путешествовать, подарки детям, но воспитанием и учебой его сына ведал Джоунас. Дядя Сэмми играл с Майклом в ковбоев и индейцев, когда тот был совсем ребенком. Они часами выслеживали и подстерегали друг друга, оглашая округу дикими воплями и завываниями. А когда Майкл отправился учиться в Японию и взял за правило хотя бы раз в год приезжать домой, именно дядя Сэмми всегда приходил к нему на день рожденья.
Так было всегда, сколько Майкл помнил себя. И в детстве, и в отрочестве он часто задавался вопросом, что значит иметь настоящего отца, который всегда с тобой, с которым каждый день можно поиграть в мяч или обсудить важные дела. Теперь, подумал он, ему этого уже никогда не узнать.
Самолет пошел на снижение над Международным аэропортом. Сверху Вашингтон казался серым. Майкл не был здесь всего десять лет, но впечатление возникало такое, будто минула целая вечность.
Пройдя таможню и иммиграционный контроль, Майкл получил багаж и взял напрокат автомобиль.
По дороге он сам себе удивлялся: городская планировка была настолько свежа в памяти, что он безо всяких усилий находил дорогу. Не домой, как сказал по телефону дядя Сэм-ми, а всего лишь к дому родителей.
До Даллеса было далеко. Майкл решил ехать по Литтл-ривер Тэрнпайк, а не по прямому Южному шоссе. Его путь лежал мимо Фэрфакса, где работал отец и где дядя Сэмми, должно быть, восседал в своем чиновном кресле. Сэммартин был директором правительственного агентства под скромной вывеской МЭТБ – «Международное экспортно-торговое бюро».
Кроме того, подумал Майкл, неплохо прокатиться вдоль берегов Потомака, полюбоваться вишневыми деревьями в цвету, которые так напоминают о сельской Японии, где он учился фехтованию и живописи.
Конечный пункт своей поездки он увидел издали – дом, покрытый свежей белой краской, стоял на окраине Беллэйвена, на западном берегу реки южнее Александрии. Дядя Сэмми выразился вполне в своем духе: «Домой, в Вашингтон». Не в Беллэйвен, а в Вашингтон. Для него это название олицетворяло державную власть и величие.
Дом Доссов всегда, даже когда в нем жили дети, казался чрезмерно большим для их семьи. Чего стоил один помпезный портик с дорическими колоннами! Под ним, должно быть, все так же гуляет звонкое эхо, хотя некому уже хлопать в ладоши и перекликаться.
Здание высилось над Потомаком на пригорке, по которому взбегала лужайка, обсаженная по краям березами и ольховником. Ближе к дому росли две старые плакучие ивы, на одну из которых Майкл в детстве любил забираться и сидеть там в развилке ствола, словно в гигантском шалаше.
По обе стороны от портика буйно цвели азалии, но время жимолости и ложных апельсинов еще не подоспело.
Когда Майкл направился от ворот к дому по дорожке, вымощенной красным кирпичом, дверь открылась, и он увидел мать. Она была бледна, одета, как всегда, безупречно и со вкусом – в черный костюм-тройку с бриллиантовой брошью, скреплявшей воротник шелковой блузки.
Следом за ней из-под сени портика показался дядя Сэмми. Поседел он давным-давно, еще в молодости.
– О, Майкл! – воскликнула Лилиан Досс, когда он целовал ее, и обняла сына так порывисто, что он удивился. Майкл даже почувствовал, что его щека увлажнилась от ее слез.
– Хорошо, что ты приехал, сынок, – сказал дядя Сэмми, протягивая руку. Пожатие его было сухим и твердым рукопожатием политика. Рельефное загорелое лицо Джоунаса всегда напоминало Майклу Гарри Купера.
В доме царили тишина и полумрак, будто в похоронном бюро. Смерть главы семьи была тут вовсе ни при чем – с самой юности Майкла здесь ничего не изменилось. В гостиной он как будто снова стал маленьким мальчиком. Она, как и прежде, осталась обителью взрослых, и Майкл остро чувствовал, что ему тут не место. Домой... Нет, это не его дом, не был он никогда его домом.
Своим домом он считал холмы в японской префектуре Нара, потом были Непал и Таиланд, Прованс и Париж. Но только не Беллэйвен.
– Выпьешь чего-нибудь? – предложил Джоунас, подходя к бару красного дерева.
– "Столичной", если есть. – Майкл увидел два уже приготовленных мартини. Один бокал дядя Сэмми протянул Лилиан, другой взял себе. Он налил Майклу водки и поднял стакан.
– Твой отец ценил хорошую, крепкую выпивку, – сказал дядя Сэмми. – «Спирт, – говаривал он бывало, – очищает нутро». За него. Ему сам черт был не брат.
Дядя Сэмми, как всегда, выступал в роли патриарха семьи. И это выглядело естественно, тут было его семейство, пусть даже только по доверенности. Другим он так и не обзавелся. Сильный духом, закаленный в передрягах и невосприимчивый к стрессам, дядя Сэмми стоял, как надежная екала в клокочущем житейском море, за которую могли уцепиться слабые и утопающие. Майкл был рад, что дядя здесь.
– Через несколько минут подадут ленч, – сказала Лилиан Досс. Многословие и раньше не входило в число ее недостатков, теперь же, со смертью мужа, она как будто целиком ушла в свои мысли и лишь с усилием заставляла себя произносить какие-то слова. – Будет ростбиф с овощами и яйцом.
– Любимое блюдо твоего отца, – со вздохом прокомментировал дядя Сэмми. – Что ж, раз вся семья в сборе, самое время подкрепиться.
Словно в ответ на его слова в проеме французского окна появилась Одри. Майкл не виделся с сестрой почти шесть лет. В последний раз она переступила порог его парижской квартиры с кровоподтеком на лице: это украшение Одри получила от своего дружка-немца, без всякой радости воспринявшего известие о двухмесячной беременности возлюбленной. До этого парочка провела полгода в Ницце, но немец так и не выказал намерения вступить в брак и сгоряча решил проучить Одри за глупость и попытку его окрутить. Вопреки желанию сестры Майкл тогда же посетил ее бывшего любовника и потолковал с ним по-свойски, после чего Одри, как бы нелепо это ни выглядело, возненавидела брата и перестала с ним разговаривать. Они не виделись с того самого дня, когда Майкл отвез ее в клинику на аборт. Вернувшись туда за сестрой, он не застал ее на месте: Одри уже покинула клинику своим ходом и исчезла с горизонта так же внезапно, как возникла на нем.
Лилиан подошла к дочери, зачем-то увела ее в отцовский кабинет, и Майкл получил возможность расспросить дядю Сэмми.
– Вы сказали, что отец разбился на машине, – тихо заговорил он. – Как это произошло?
– Не сейчас, сынок, – мягко осадил его дядя Сэмми. – Тут не место и не время. Не будем расстраивать твою мать, ладно? – Он вынул из кармана маленький блокнот, что-то нацарапал в нем тонким золотым пером и сунул вырванный листок Майклу в руку. – Встретимся по этому адресу завтра в девять утра, и я расскажу тебе все, что знаю. – Он грустно улыбнулся. – На Лилиан все это очень тяжело отразилось.
– Это тяжкий удар для всех нас, – скупо обронил Майкл. Дядя Сэмми кивнул, повернулся и направился к женщинам.
– Одри, малышка моя, как ты?
Лилиан Досс и в нынешнем своем возрасте оставалась стройной и гибкой; Одри была вылеплена по тому же образцу. Глядя на дочь, легко было представить, сколь потрясающе красива была в молодости мать. Правда, в лице дочери отражались также твердость и решительность, унаследованные от отца, поэтому многие считали ее гордячкой. Сейчас, однако, это отчасти высокомерное выражение лица совершенно не вязалось с печалью в глазах. Майкл впервые видел Одри с короткой стрижкой. Ее рыжие волосы стали светлее, чем золотисто-каштановые волосы Лилиан.
Одри выросла в доме, где властвовало мужское начало и присущие слабому полу черты поведения были не в чести, а поэтому в детстве она, как могла, тянулась за старшим братом, пытаясь соперничать с ним на равных. Но из этого ничего не вышло – в Японию отправился один Майкл, без нее, а Одри с тех пор стала часто замыкаться в себе.
Холодные голубые глаза сестры теперь изучали его издали, из противоположного конца скромного кабинета, несущего нестираемый отпечаток личности хозяина. Филипп Досс поставил здесь японские ширмы, устланные футонами кушетки – Лилиан вечно жаловалась на их неудобство – и резко выделяющийся черной лакировкой японский письменный стол. Полупрозрачные сёдзи из рисовой бумаги на окнах расписали потолок и стены замысловатыми узорами света и тени, отчего комната казалась больше, чем была на самом деле.
Вдоль стен тянулись застекленные книжные полки, заполненные обширным собранием книг по военной истории, стратегии и тактике. Неуемный энтузиазм, с которым Филипп Досс отдавался постижению хитростей и премудростей военного искусства, мог соперничать лишь с его блестящими способностями к иностранным языкам.
В простенках между стеллажами висели офорты, гравюры и живописные изображения кумиров хозяина кабинета – Александра Великого, Иэясу Токугавы и Джорджа Паттона.
И еще на полке блестела небольшая стеклянная шкатулка. Сейчас она стояла пустой, обычно же Филипп Досс, когда жил дома, хранил в ней фарфоровую чайную чашечку. Он ценил ее куда больше, чем все свое дорогостоящее имущество, поэтому часто брал с собой в поездки за границу, а в кабинете держал на почетном месте как памятный сувенир, напоминавший о тех временах, когда он жил в послевоенном Токио.
Майкл почти физически ощутил присутствие отца. Здесь царил его дух. Каждая подушка, каждая книга, каждая картина впитала в себя частицу Филиппа Досса. Вещи ждали его, неподвластные ни старости, ни смертельным болезням.
На мгновение Майкла охватило странное чувство. Нечто подобное он испытал, наткнувшись в своих скитаниях на мастерскую кого-то из великих художников – то ли Матисса, то ли Моне – ощущение прикосновения к великому, но недоступному наследию, опередившему свое время.
Несколько ошеломленный, охваченный возвышенным чувством (через некоторое время человеку начинает казаться, что он был смешон), Майкл порывисто двинулся через комнату к сестре.
– Удивляюсь, как ты соизволил приехать, – встретила его Одри. Все это время она ни на минуту не спускала с него глаз.
– Ты несправедлива, – ответил он. Она разглядывала его по-кошачьи, с этаким неуловимо презрительным любопытством.
– В тот день в Париже, когда я вернулся за тобой, мне сказали, что ты уже ушла. Почему ты меня не дождалась? Я не хотел оставлять тебя одну.
– Не надо было разыскивать тогда Ганса. Я ведь просила не делать этого.
– После того, как этот подонок с тобой поступил...
– Ни к чему напоминать мне об этом, – холодно перебила его Одри. – Между нами было и многое другое. Ты и понятия не имеешь, каким он бывал чудесным.
– Он тебя ударил, – возразил Майкл, – и будь он хоть какой расчудесный, это уже не имеет значения.
– Для меня имеет.
– Тогда ты еще большая дура, чем я думал.
– Таковы, надо полагать, нравственные правила Майкла Досса? – едко спросила она. Потом ее тон вновь стал бесцветным. – Никто в мире не разделяет твоих строгих представлений и не следует твоей дурацкой морали. Все, чем тебя напичкали в Японии, неприменимо к нормальным людям. Нам не нужна полиция нравов, и мы не блюстители собственной внутренней добродетели, или чему ты там поклоняешься. Мы обыкновенные люди, в нас уживается и хорошее, и дурное. Ты этого не приемлешь, вот и остался ни с чем.
Майкл заметил, что Одри задрожала, стараясь обуздать свои чувства. Некстати они начали выяснять отношения в отцовском кабинете, почитавшемся всегда чуть ли не святилищем.
– А заодно оставил ни с чем и меня. Как ты считаешь, много ли в наше время свободных мужчин? Да, было у меня несколько романов, только все с женатыми, с людьми, которые дают невыполнимые обещания. Ганс – тот хотя бы был волен остаться. Мы бы с ним вместе что-нибудь придумали, я точно это знаю. Он бы исчез на неделю-другую, а потом снова вернулся. Он всегда возвращался. Но только не после расправы, которую ты над ним учинил. Знаешь, куда я поехала, когда выписалась из больницы? Снова в Ниццу, искать Ганса. Только его там уже не было.









































