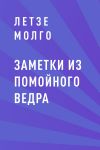Читать книгу "Заметки млекопитающего"

Автор книги: Эрик Сати
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Наём прислуги
Аттестат: Не все животные являются домашними… слугами (как говорит Лев).
Трюк с передником: «Парижский конгресс» – это не собрание прислуги (как говорит «вышеупомянутый»).
Лакейство: Г-н Озанфан не несет ответственности за действия своей прислуги (Парижский конгресс).
Жилет в полоску: Г-н Андре Бретон не является слугой г-на Озанфана (как он говорит).
Каков хозяин, таков и слуга: Хорошая прислуга должна быть плоской – по крайней мере, сплющенной (Парижский конгресс).
Старый лакей: Г-н Озвьейяр хороший хозяин для своих слуг – как и для Живописи (как говорит г-н Жаннере).
Требуется: Молодой слуга, чтобы Продырявить еще одну Картину кисти Того же Художника, что и в прошлый раз (Новый дух).
Директор конторы
Эрик Сати
Книжности
Продавать и покупать книги – какое это должно быть наслаждение! И как мне приятно навещать своих подруг Адриену Монье и Сильвию Бич!
Первая основала свой книжный магазин в разгар войны (Первой мировой), вторая два года назад обосновалась под сенью великого Шекспира. На мой взгляд, обе являют пример истинного мужества.
Часто я забегаю к ним поздороваться – мимоходом – на «пять минут» (и сижу часами!). Это напоминает мне очаровательную лавку моего приятеля Байи на улице Шоссе-д’Антан (книжный магазин Независимого Искусства).
Давнее, но сколь приятное воспоминание.
Да, милый книжный магазин Независимого Искусства.
Его посещала «молодая литература» того времени, по-дружески поболтать заходили музыканты: среди прочих – Дебюсси, Шоссон. Мы не сомневались, что там нас примут как можно обходительнее, и я никогда не забуду эту душевную обитель Книги, как никогда из моей памяти не изгладится образ славного человека, которым был «добряк Байи».
Когда мой приятель Пьер Тремуа объявил, что открывает книжный магазин, я подпрыгнул от радости – и чуть не стал отбивать чечетку. Для меня это была хорошая, очень хорошая новость, и я представил себе, какое блаженство можно получить в результате фланирования среди книг.
Разве книжный магазин, хотя бы немного, не Храм Праздного Гуляния? Думаю, собрание книг как раз и побуждает к задействованию – или по меньшей мере к освобождению – этого «раздела» Бессознательного.
Странное наваждение! Ведь перед ящиками букинистов останавливаются в непогоду, на ветру, иногда прямо посреди лужи!
Ну и пусть! Книги перед нами, они предлагают нам отдохнуть, приласкать их ладонью и взором, блаженно забыться в них, презреть узы, связующие нас с извечной человеческой Нищетой.
Мой приятель Пьер Тремуа любит книги, он знает их заслуги и по достоинству оценивает их личные качества. Его совершенно непредвзятая симпатия распространяется как на старые, так и на совсем юные творения, едва появившиеся на свет. И для любителя, желающего с ним посоветоваться, он окажется верным проводником.
Его обитель будет, в зависимости от времени года, прохладной и тенистой или теплой и уютной, там будет вспоминаться Прошлое и предугадываться Будущее.
«Мой дорогой Тремуа, я буду часто заходить к вам», – говорю я.
О чтении
Существует несколько способов чтения: для себя одного, для других или, по крайней мере, для кого-то другого.
Чтение «для себя одного» – внутреннее, самое что ни на есть внутреннее. Чтение «для других» – или для кого-то другого, – практикуемое (как правило) вслух – внешнее, самое что ни на есть внешнее.
Чтение для себя – это игра: особого искусства в нем не требуется. Чтение же вслух, напротив, неимоверно сложно.
Давайте рассмотрим вторую, весьма интересную категорию.
Не многие умеют читать вслух: это, между прочим, самое настоящее искусство. В качестве отступления: меня всегда интересовало, как читает читатель – рецензент театра «Комеди Франсэз». Как хорошо он, должно быть, читает, этот бесценный сотрудник! Авторитетно, разумеется. Но… читает ли он вслух? Все дело в этом.
В начале карьеры чтецу лучше иметь лишь одного слушателя – пусть даже глуховатого – или хотя бы чуть туговатого на ухо. Так, чтец сможет набраться смелости, некоей «дерзости»; перед «нейтральным» слушателем с ограниченными возможностями его уверенность только вырастет.
В этом случае хороший чтец следит за тем, чтобы не отпугнуть своего единственного слушателя. Он, наоборот, будет привечать его, говорить с ним вежливо, без раздражения, и всячески расхваливать произведение, которое соберется читать. Хладнокровно подготовит своего противника к «удару отца Франсуа» – славного отца Церкви.
Я бы не советовал читать вслух текст, написанный на языке, непонятном слушателю. Это проявление дурного вкуса, да и эффект от такого чтения – нулевой.
Поупражнявшись несколько раз перед единственным слушателем, чтец может претендовать на более значительную аудиторию. При одаренности он – быстро – заставит слушать себя тысячи слушателей: это всего лишь вопрос диапазона – диапазона голоса, естественно.
Издания
При издании своих произведений сочинители музыки не имеют тех же преимуществ, которыми пользуются сочинители литературы.
Публикация литературная кажется более блистательной, более закономерной, более «истинной», нежели соседствующая с ней публикация музыкальная. Да.
Творение из букв представлено лучше; впоследствии обнаруживается целый ряд привлекательных черт, составляющих его индивидуальность; чаще всего его ценность имеет склонность к увеличению, к прибавочной стоимости, к «редкостности».
Одним словом, книга – это предмет «конкретный», нечто вроде драгоценного украшения, своеобразного произведения искусства. Оно завершено.
Музыкальное же произведение не обладает ни одним из этих ценных внешних признаков: оно сродни школьному учебнику, которому приходится как бы братом… двоюродным братцем… двойным уродцем.
Я сошлюсь на Альберика Маньяра, который опубликовал целый ряд значительных произведений в виде «атласов». Прошу заметить, что я нисколько не критикую его за это. Сей пример совершенно «осознанного» выбора доказывает, какое небольшое значение он придавал «внешнему оформлению» своей мысли, и подчеркивает разницу, существующую между литературными и музыкальными изданиями.
Но есть еще и другое отличие. В чем оно заключается? Особенность в том, что книги и музыкальные партитуры изготавливают разные руки; печатают люди разного ремесла: литературное произведение – типографским методом, музыкальное – гравировальным. К тому же книга имеет великолепное «историческое» прошлое, которого нет у музыкального альбома. У них различная «патина», поскольку «изменчивость» музыкального письма вредит «патине» музыкальных нот. Время стирает «знаки»: ключи, альтерации и т. д., и в большей части старых партитур гармонию создает лишь простая партия basso continuo[2]2
Basso continuo – непрерывный бас (итал.), базовый голос многоголосного музыкального произведения (генерал-бас).
[Закрыть] с цифровыми обозначениями, – наивный прием, который оставляет слишком много места для «фантазии» читающего исполнителя. Чтение таких партитур оказывается самым настоящим переводом, который может по меньшей мере исказить творческую волю композитора. Да.
Из-за этого оригинальные издания произведений музыкальных Мэтров и классиков утратили, так сказать, свою «практическую» пользу. Их уже не выискивают.
В Музыке, чем свеже́е издание, тем оно имеет больше шансов оказаться «доведенным до ума». Лишь такое издание сможет быть полезным и указующим для исполнения.
Боюсь, что Музыка никогда не сможет иметь те же «издательские» качества, что и Литература. Возможно, в типографском виде она была бы представлена совсем иначе.
Несомненно, «Гравировка» утяжеляет ее физически.
Будущее покажет. Да.
Бедные музыканты! Для них не все так радужно на этой Земле, воистину юдоли скорби, несмотря на ее кружащуюся округлость.
Очень старый литератор
Я не могу пройти мимо восхитительной башни Святого Якова, не подумав о старом эрудите, который в XV веке зарабатывал на жизнь ремеслом писаря-каллиграфа, профессией, кажется, довольно прибыльной. Я имею в виду Никола Фламеля, парижского нотабля, брата и благодетеля приходской церкви Сен-Жак-ла-Бушри (эта церковь, разрушенная во время Революции, располагалась на улице дез Арси и была заложена еще в XII веке – как я сумел заметить, не подавая вида). Да…
В наши дни по соседству с указанной древней обителью Бога (обителью, о которой я только что рассказал) две улицы напоминают о самом Фламеле и о его жене Пернелле: они образованы на месте домов, некогда стоявших по улицам Сэнк-Дьяман и Мариво (согласно плану Тюрго).
Как вы можете предположить, я не знал Никола Фламеля лично, – по многим причинам, – но воспоминания о нем мне всегда были приятны. Его репутация колдуна мне, так сказать, симпатична, поскольку она щекочет мое любопытство и даже возбуждает его (в рамках благопристойности, разумеется). Да.
Я не знаю, какие произведения он переписывал. Я знаю, что он пользовался уважением и был известен своей активной, весьма значительной благотворительностью, его щедрость позволяет предположить, что он владел крупным состоянием, хотя легенда связывает это с умением изготавливать золото – в слитках или в каком-то ином (на его усмотрение) виде.
Согласно тому, что Дюлор рассказывает в своей «Истории Парижа», Никола Фламель любил сочинять тексты для надписей, которые сам вырезал на городских стенах. Он выбивал их повсюду, и ими заполнено то, что осталось от его дома (1407 года) на улице Монморанси, рядом с улицей Сен-Мартен. Да.
Можете убедиться в этом сами.
Как поэт Фламель не очень известен. Однако Дюлор в своей «Истории Парижа» цитирует две следующие строчки:
Я вышел из праха и возвращаюсь в прах,
Душу несу к тебе, И. Х., спасающий и прощающий нас во грехах.
Вторая строчка примечательна своей чрезмерной длиной. Во всяком случае, это одна из самых длинных поэтических строк, которые существуют. Вне всякого сомнения, стихи колдуна или каллиграфа. Я рад, что она мне известна.
Дюлор добавляет, что над ней был выгравирован скелет: тут уж не до веселья – не правда ли?
Мучительные примеры
Кабаре с дурной репутацией, к которой уже нечего прибавить, играло – и продолжает играть – весьма значительную роль в Литературной и Художественной жизни. Увы! в настоящее время мы видим, как интеллигенция не боится – по меньшей мере – показываться в кафе и сидеть там (причем даже на террасе) у всех на виду, забывая о сдержанности, которую приличный человек должен проявлять по отношению к себе самому – и, хотя бы немного, по отношению к другим. Разве не оскорбляют Мораль все эти демонстративные аперитивы? Эти публичные вакханалии? Эти ужасные возлияния?
Разумеется, и мне случается заходить в пивную, однако я таюсь – не из позорного лицемерия, а из чувства предусмотрительной сдержанности – и думаю лишь о том, чтобы меня не увидели. Я бы устыдился, если бы меня заметили, ибо, как говорил Альфонс Алле, «это может сорвать брак».
Некогда я бывал в «Ша Нуар», – как, впрочем, и Морис Доннэ, – и часто посещал «Оберж дю Клу», но, разумеется, тайком, и заходил туда лишь в часы между трапезами, – которые устраивал себе в другой близлежащей таверне.
В общем, я не завсегдатай Кафе. Я предпочитаю им Пивные. Да.
Прежние Кафе весьма отличались от современных: это были скорее кабаре, и напитки не имели ничего общего с теми, которые нам предлагаются сегодня в барах, кабачках, «tea-rooms» или в винных погребках, встречающихся во время наших прогулок по городу. Там пили «крепко», очень «крепко». В своих «давних воспоминаниях» один из моих предков – долгое время служивший лейтенантом копьеносцев-протазанщиков – рассказывал, что нередко осушал «зело много чарок» вместе с Рабле в «Пом де Пен», знаменитом кабаре на углу улиц Копо и Конрескарп-Сен-Марсель, за воротами Борде (в 1853 году улица Копо была переименована в улицу Ласепед).
Какое красивое кабаре! Вийон в нем бывал задолго до Рабле, который встречался там с Деперье, Доле, Маро и моим предком.
Мой предок – как и все бравые вояки – предавался невообразимо длительным попойкам, при этом рассказывая уйму историй, из-за острой пикантности коих его горло пересыхало, и рука все время тянулась за кружкой. Досадно, что ему не довелось знать Вийона: тот мог бы изрядно «поднабраться», – позволю себе заметить.
К сожалению, с какого-то момента Вийон «помертвел» – и уже не думал выпивать, даже маленькими глоточками; да и мой предок родился спустя много лет после смерти Вийона. Довольно веские причины, которые не позволили им сблизиться. Да.
Курьезные были времена, когда поэт мог вести такую сомнительную жизнь, не теряя ни таланта, ни достоинства. Религиозные писатели следующих веков показывались в кабаре не очень часто. Боссюэ и Массийон, кажется, подобных мест сторонились. И, вне всякого сомнения, правильно делали. Возможно, их произведения от этого пострадали бы, а их слава наверняка поблекла. Да.
Буало, Расин, Фюретьер, Лафонтен, Шапэль, адвокат Мовийэн, советник Брийяк и другие прекрасные умы назначали друг другу встречи в «Бутэй д’Ор» на площади Симетьер-Сен-Жан (на этом месте сейчас находится казарма Лобо). В этом кабаре Расин написал «Сутяг». Даже трудно представить, не правда ли?
Вот кто в наши дни знает, что такое «ходить в кафе», так это Рауль Поншон. Я видел его там очень часто; он же, напротив, меня не видел: я удачно скрывался.
Невозможно – как вы догадываетесь – перечислить всех моих знакомых, которые захаживают в кафе. Не думаю, что ходить в кафе или в любое другое заведение подобного рода – дурно само по себе. Я, признаться, там много работал и полагаю, что знаменитые персонажи, побывавшие там до меня, также времени не теряли. Там происходит обмен мыслями, который может только благоприятствовать творчеству – если, конечно, оставаться незамеченным.
Однако дабы продемонстрировать свои моральные качества и придать себе респектабельности, скажу: «Молодые люди, не ходите в кафе: слушайте степенный голос человека, который бывал там, по его мнению, слишком часто… но который об этом не сожалеет!» Экий монстр!
Новый сезон
Вопрос «учебников», который г-н Фернан Вандерем так уместно поднял в «Ревю де Франс», – знак времени; он показывает нам педагогов такими, какие они, бедолаги, есть: противными, насколько это возможно… и даже более того.
Педагогика проникла во все сферы мысли Человека, – как Мужчины, так и его подруги Женщины. Мы, музыканты, знаем об этом немало: разве не являются педагогами многие из наших дорогих Критиков? Разве они это не демонстрируют?
Во всяком случае, они постоянно нас дрессируют с целью «приучить» и «проучить», причем сурово!
Славный – достославный – Наполеон (Первый) не любил идеологов; я же, я не люблю педагогов: я слишком хорошо их знаю. Это они своими смехотворными, но губительными взвешиваниями, измерениями и дозировками (не колеблясь) запутывают и портят все, к чему прикасаются.
Война (первая мировая и последняя французская) хоть в чем-то оказалась полезной: она показала, как устарели многие «привычки» и окончательно завяли искусственные цветы, она сплотила разные «колебания» и дала им стойкую надежду.
Зато сколько просчетов и разочарований! М-да.
Г-н Анри Лаведан жалуется, что куда-то подевалась прежняя публика, та самая, которая существовала до войны – такой мировой, такой великолепной. Еще бы! Черт возьми! Как он мог предположить, что публика никогда не омолаживается? Если наш почетный академик в это действительно верил, значит, он не очень прозорлив. Какое заблуждение! Впрочем, это меня ничуть не удивило; на мой взгляд, г-н Лаведан стал жертвой педагогов, которые «забили ему голову чепухой» – позволю себе выразиться – и заставили поверить, что его поклонники несметны, покорны и вечны.
Разумеется, жаль, что это не так, но, к несчастью, неблагодарность публики остается безмерной. Это весьма прискорбно, постыдно и, вне всякого сомнения, неприятно.
Да, это правда: публика уже не та. Пусть гг. авторы «учебников» и г-н Лаведан наберутся терпения, ибо вскоре увидят «еще и не то» и услышат «еще и не такое». Несомненно, публика устала от их «штучек» и, кажется, решила образовываться по своему вкусу, обновляться по своему желанию.
Имеет ли она на это право? Возможно, она им злоупотребляет? Возможно, но я ничего с этим поделать не могу.
Не будем оплакивать планиду – копченую пеламиду – этих г-д педагогов и Ко. Все они нашли хорошие места – тепленькие местечки – для своих славных задниц. Г-н Лаведан обеспечен удобным креслом в особняке на берегу Сены, остальные занимают пространные кафедры, с причитающимися окладами и довольно выгодными «дополнительными премиями», что бы они ни говорили.
Если они так ненасытны, тем хуже для них! А как же «пояс»? Почему бы им не затянуть его потуже, хотя бы на одно деление?
В настоящий момент перст Божий направлен на них с явным неодобрением. И пусть в ответ не тычут пальцами в небо.
Преуспеть?
«Преуспевающие» мне вовсе не антипатичны. Их целеустремленность мне даже импонирует. Но вот цель, которую они стремятся достичь, заставляет меня задуматься и вызывает некоторое (впрочем, весьма слабое) беспокойство. М-да…
Я просто задумываюсь и очень вежливо спрашиваю себя:
– Куда они хотят успеть? Успеть сделать что? Успеть прибыть во сколько? Успеть оказаться в каком месте?
Я начинаю остерегаться и даже бояться за них.
Лично я никогда не был «преуспевающим» и надеюсь никогда им не стать. Однако я прекрасно понимаю, что другие желают посвятить себя этому занятию, несмотря на его неопределенность и явную хлопотливость (для них самих).
М-да…
За сорок лет мне довелось повидать «успешных», и тогдашние были такими же «ловкими», как и нынешние.
Так вот все они – слышите? – все они «успели» что? Ничего… и даже менее того.
Хотя некоторые из них «успели» в разные академии и прочие… весьма дурные… места… М-да.
Для умов честных и здравых «преуспевать» – значит «стремиться к совершенствованию», «расти» (разумеется, не в весе).
Увы! Для остальных это не так. Для них «преуспеть» – значит «раздобреть», «облысеть» и т. д.
Поговорим тихо
Я бы хотел, чтобы мои противники, эти славные люди, знали меня лучше, чем они меня знают. То они делают из меня сумасшедшего, то представляют существом, чья заурядность может сравниться лишь с их собственной. Возможно, они ошибаются.
Музыкальными достоинствами, которые у меня могут быть, я обязан обучению и заложенному от рождения здравому смыслу. Я никогда не боялся применять на практике истины своего учителя г-на де ла Палиса. Эти истины – которые, кажется, ничего собой не представляют – служат основой для разума, умеряют дешевый восторженный романтизм, которого в каждом из нас – увы – хватает.
Благодаря г-ну де Ла Палису мне удалось инвентаризировать уголок – совсем маленький уголок – человеческого и, быть может, животного Существования.
Так, я робко отметил, что наши Критики не всегда благоразумны, как подобало бы. Недавно я нашел этому пример в стихотворении (?) из «Падмавати» г-на Л. и Лал. а, знаменитого критика, которым мы все восхищаемся.
Почему г-н Л. и Лал. а – обычно столь утонченный и изысканный (как и все желтокожие, в частности, китайцы) – сочинил это стихотворение (?), художественные достоинства которого поражают своей почти скелетной худосочностью и плоской – как у центрального плоскогорья – банальностью?
Это тем более удивительно, что г-н Л. и Лал. а был одним из критиков, которые упрекали меня в тех же самых неискоренимых пороках… Неужели в его лице я обрел последователя? Ученика Л. и Лал. а? В общем-то, возможно и такое. Но тогда, если мне будет позволено, я дам ему – причем бесплатно – один совет: пусть перечитает свое стихотворение (?) и… засунет его в… нижний ящик своего письменного стола. Тем самым сделает красивый, да еще и бескорыстный жест. М-да.
Сколько поводов для злословия дадут наши критики этой зимой. Группа «Шести» (какой ужас!) устроит несколько «выступлений» с музыкой и барабанной дробью. М-да.
По поводу «Шести» – о распаде, смертельном распаде которых уже неоднократно заявляли, – я должен признать, что как группа они не существуют. В общем, группы «Шести» уже нет.
Но… есть просто шестеро музыкантов, шестеро талантливых независимых музыкантов, индивидуальное существование которых не подлежит сомнению, что бы против них ни говорили и ни делали (лялякали всякие Лал. а Л.и).
Это естественное разъединение полностью соответствует моим пожеланиям. Разве я его не предсказал? Во всяком случае, исчезновение «Шести» как группы проясняет сегодняшнюю ситуацию: оно восстанавливает однородность в нравственном «отношении» Молодой Музыки и позволяет повторить – почти торжествующе – то, что я всегда говорил: «Шестеро» – это Орик, Мийо и Пуленк.
Появление четырех новых музыкантов, гг. Анри Клике-Плейеля, Роже Дезормьера, Максима Жакоба и Анри Соге – которых я имел честь представить в Коллеж де Франс – лишь укрепит нашу эстетическую позицию. Эта молодая группа молодых людей называет себя Аркёйской Школой, из симпатии к одному старому другу, который живет в указанном населенном пункте и очень их любит.
Этой зимой публика их узнает и сможет оценить (не хуже, впрочем, любого критика). Она – я в этом уверен – защитит их от нападок противников и – снисходительно и по справедливости – окажет им столь необходимое и жизненно важное доверие.
Следующий сезон будет богатым на новинки. Серж де Дягилев организует в Монте-Карло цикл примечательных спектаклей; Жан Вьенер отважно возобновляет свои концерты при сильном неудовольствии г-на Фл…а Шм…а (Первая Римская премия, Директор Лионского Кредита Музыки Лиона и Роны), а в Бельгии наш друг Поль Коллер продолжает представлять нас своей публике с «упрямством», которое «изумляет» г-на В…моза и «треплет ему нервы до глубины желудка». М-да.
Все вроде бы складывается не очень плохо и не очень противно, говорю я сам себе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!