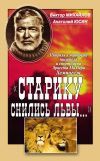Читать книгу "Праздник, который всегда с тобой"

Автор книги: Эрнест Хемингуэй
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
1
Хорошее кафе на площади Сен-Мишель
Потом погода испортилась. Так в один день кончилась осень. Ночью ты закрывал окна от дождя, и холодный ветер обрывал листья с деревьев на площади Контрэскарп. Размокшие листья лежали под дождем, ветер охлестывал дождем большой зеленый автобус на конечной остановке, кафе «Дез аматёр» было забито народом, и окна запотевали от тепла и дыма внутри. Кафе было печальное, паршивое, там собирались пьяницы со всего квартала, а я его избегал из-за запаха немытых тел и кислого перегара. Женщины и мужчины, собиравшиеся там, были пьяны все время или пока хватало денег – большей частью от вина, которое брали литровыми или полулитровыми бутылками. Там предлагали разные аперитивы со странными названиями, но позволить их себе могли немногие – да и то в качестве фундамента, на котором потом надстраивали винную пьянку. Женщины-пьянчуги назывались «poivrottes».
Кафе «Дез аматёр» было отстойником улицы Муфтар, чудесной узкой людной торговой улицы, которая вела к площади Контрэскарп. Низенькие туалеты старых домов – по одному возле лестницы на каждом этаже, с двумя цементными приступками в форме подошвы по сторонам от очка, чтобы locataire[6]6
Жилец (фр.).
[Закрыть] не поскользнулся, – опорожнялись в отстойник; ночью их откачивали в цистерны на конной тяге. Летом, при открытых окнах, ты слышал звук насосов и очень сильный запах. Цистерны были окрашены в коричневый и шафрановый цвет, и в лунном свете, когда они обрабатывали улицу Кардинала Лемуана, эти цилиндры на колесах напоминали живопись Брака. А кафе «Дез аматёр» никто не откачивал, и его пожелтелый плакат с расписанием штрафов за пьянство в общественных местах был так же засижен мухами и никому не интересен, как постоянна и вонюча была клиентура.
Вся печаль города проявлялась вдруг с первыми холодными зимними дождями, и не было уже верха у высоких белых домов, когда ты шел по улице, а только сырая чернота и закрытые двери лавок – цветочных лавок, канцелярских, газетных, повитухи второго сорта – и гостиницы, где умер Верлен, а у тебя была комната на верхнем этаже, где ты работал.
До верхнего этажа было шесть или восемь маршей лестницы, и я знал, сколько будет стоить пучок прутиков для растопки, три перевязанных проволокой пучка сосновых щепок длиной в половину карандаша и вязанка коротких полешков, которые я должен купить, чтобы согреть комнату. Я перешел на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, дымят ли на мокрой крыше трубы и как сносит дым. Дыма не было, и я подумал, что дымоход, наверное, отсырел, тяги не будет, комната наполнится дымом, дрова пропадут впустую, а с ними деньги, – и пошел под дождем дальше. Я прошел мимо лицея Генриха Четвертого, мимо старой церкви Сент-Этьен-дю-Мон, по продутой ветром площади Пантеона, свернул направо и вышел наконец на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и по нему, мимо Клюни и бульвара Сен-Жермен, добрался до площади Сен-Мишель, где знал хорошее кафе.
Это было приятное кафе, теплое, чистое, приветливое, и я повесил свой плащ сушиться, положил свою поношенную шляпу на полку над скамьей и заказал кофе с молоком. Официант принес кофе, я вынул из кармана блокнот и карандаш и начал писать. Я писал о Мичигане, и, поскольку день был холодный, дождливый, ветреный, такая же погода была в рассказе. И в детстве, и в юности, и взрослым я видел, как кончается осень, и писать об этом в одном месте было лучше, чем в другом. Это называется пересадить себя, так я думал, и людям иногда это так же необходимо, как другим растущим организмам. Но в рассказе ребята пили, мне тоже захотелось, и я попросил рома «Сент-Джеймс». Он показался вкусным в этот холодный день, и я продолжал писать, мне было хорошо, и добрый мартиникский ром согревал тело и душу.
В кафе вошла девушка и села отдельно за столик у окна. Она была хорошенькая, со свежим, как только отчеканенная монета, лицом, с гладкой благодаря дождю кожей и черными как вороново крыло волосами, наискось срезанными над щекой.
Я смотрел на нее, она меня беспокоила и очень волновала. Мне хотелось поместить ее в рассказ или еще куда-нибудь, но она села так, чтобы наблюдать и за улицей, и за входом, – я понимал, что она кого-то ждет. И продолжал писать.
Рассказ писался сам собой, и мне было трудновато поспевать за ним. Я заказал еще рома «Сент-Джеймс» и посматривал на девушку всякий раз, когда отрывался от письма или затачивал точилкой карандаш, с которого на блюдце под моим стаканчиком опадала кудрявая стружка.
Я увидел тебя, красотка, думал я, и теперь ты моя, кого бы ты ни ждала, и пусть я больше никогда тебя не увижу, ты принадлежишь мне, и Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и этому карандашу.
Я вернулся к письму, глубоко погрузился в рассказ и потерялся в нем. Теперь писал я, он не сам писался, и я уже не отрывал глаз от бумаги, забыл о времени, о том, где я, и больше не заказывал рома «Сент-Джеймс». Потом рассказ закончился, и я почувствовал сильную усталость. Я прочел последний абзац, поднял голову и посмотрел, где девушка, но ее уже не было. Надеюсь, она ушла с хорошим человеком, подумал я. Но мне было грустно.
Я закрыл блокнот с рассказом, засунул во внутренний карман и попросил у официанта дюжину португальских устриц и пол-графина сухого белого вина. Дописав рассказ, я всегда чувствовал опустошенность, было грустно и радостно, как после любви в постели, и я не сомневался, что получился очень хороший рассказ, хотя окончательно в этом уверюсь, когда прочту его завтра.
Я ел устрицы, отдающие морем, со слабым металлическим привкусом, смывая его холодным белым вином, так что оставался только морской вкус сочного мяса, пил сок из раковин и его тоже запивал прохладным вином; чувство опустошенности исчезло, я повеселел и стал строить планы.
Теперь, когда погода испортилась, мы могли на время уехать из Парижа туда, где вместо дождя будет падать снег между сосен, покрывать дороги и высокие склоны, и мы будем слышать его скрип под ногами, возвращаясь вечером домой. Под Лез-Аваном есть шале с чудесным пансионом, мы будем там вместе, с нашими книгами, и по ночам нам будет тепло в постели при открытых окнах, под ясными звездами. Вот куда мы можем поехать.
Откажусь от комнаты в гостинице, где я пишу, и останется только символическая плата за квартиру на улице Кардинала Лемуана. Я писал корреспонденции для газеты в Торонто и ожидал оттуда чеков. Писать для них я мог где угодно и в любых условиях, а деньги на поездку у нас были.
Может быть, вдали от Парижа я сумею писать о Париже, как писал в Париже о Мичигане. Не знаю только, не слишком ли это рано, потому что знаком с Парижем недостаточно. В любом случае мы можем по ехать, если захочет жена, – я прикончил устрицы и вино, расплатился и кратчайшей дорогой пошел домой, на холм Сен-Женевьев, под дождем, который был теперь всего лишь погодой, а не менял твою жизнь.
– По-моему, это будет чудесно, Тэти, – сказала моя жена. У нее была красивая лепка лица, и, когда она принимала решение, глаза ее загорались, а лицо освещалось улыбкой, словно она получила дорогой подарок. – Когда мы выезжаем?
– Когда хочешь.
– О, я хочу прямо сейчас.
– А когда вернемся, может быть уже холодно и ясно. Хорошо, если установится холодная ясная погода.
– Не сомневаюсь, так и будет, – сказала она. – И какой ты молодец, что придумал уехать.
2
Мисс Стайн наставляет
Когда мы вернулись в Париж, там было ясно, холодно и красиво. Город приспособился к зиме, на складе напротив нас продавали хорошие дрова и уголь, многие приличные кафе выставляли жаровни, так что ты не мерз на террасах. И в нашей квартире было тепло и уютно. Мы клали на дрова boulets – яйцевидные комья прессованной угольной крошки, и улицы были красивы в зимнем свете. Ты уже привык к виду голых деревьев на фоне неба, и приятно было гулять по промытым гравийным дорожкам Люксембургского сада под резким свежим ветром. Деревья без листьев казались красивыми, когда ты примирился с их наготой, и зимние ветра морщили при ярком свете воду в прудах и развеивали струи фонтанов. После гор все расстояния в городе казались короткими.
После тамошних высот здешние склоны были незаметны и даже доставляли удовольствие, и на верхний этаж гостиницы, где я работал, в комнату, откуда открывался вид на крыши и дымоходы с высоты холма, я тоже поднимался с удовольствием. Тяга в камине была хорошая, работать – тепло и приятно. Я приносил с собой жареные каштаны и мандарины в бумажных пакетах, ел каштаны, когда был голоден, ел маленькие оранжевые фрукты, бросая кожуру в камин и туда же выплевывая зернышки. А голоден был постоянно – от ходьбы, от холода и от работы. В комнате у меня была бутылка вишневой водки, привезенная с гор, и я наливал себе, подходя к концу рассказа или под конец рабочего дня. Закончив работу, я убирал блокнот или бумаги в ящик стола, а несъеденные мандарины – в карман. Если оставить их в комнате, они за ночь замерзнут.
Чудесно было спускаться по длинным лестничным маршам с сознанием, что сегодня поработал удачно. Я всегда работал до тех пор, пока что-нибудь не сделаю, и останавливался, когда еще знал, что будет происходить в рассказе дальше. Так я мог быть уверен, что смогу продолжить завтра. Но иногда, начиная новый рассказ, я не мог сдвинуться с места, и тогда садился перед камином, выжимал мандариновые корки в огонь и наблюдал, как вспыхивают голубыми искрами брызги. Вставал, глядел на парижские крыши и думал: «Не волнуйся. Ты мог писать раньше и теперь напишешь. Надо только написать одну правдивую фразу. Напиши самую правдивую, какую можешь». В конце концов я записывал одну правдивую фразу и от нее двигался дальше. И это уже было легко, потому что всегда находилась одна правдивая фраза, которую ты знал, или видел, или от кого-то слышал. Если я начинал писать замысловато, или к чему-то подводить, или что-то демонстрировать, оказывалось, что эти завитушки или украшения можно отрезать и выбросить и начать с первого правдивого, простого утвердительного предложения. Там, у себя наверх у, я решил, что напишу по одному рассказу о каждом предмете, про который знаю. Так я старался делать все время, когда писал, и это была строгая, полезная дисциплина.
В этой же комнате я приучил себя, закончив работу, не думать о том, что пишу, покуда не сяду завтра за продолжение. Так мое подсознание будет работать над этим, а я тем временем, надеюсь, смогу слушать других людей, и все замечать, и что-то новое узнавать, надеюсь; и я читал, чтобы не думать о своей работе, чтобы на другой день не оказаться перед ней бессильным. Радостно было спускаться по лестнице с сознанием, что ты хорошо поработал – а для этого требовались и дисциплина, и удача, – и теперь можешь гулять по Парижу где угодно.
Во второй половине дня я ходил разными улицами к Люксембургскому саду и, пройдя его насквозь, заходил в Люксембургский музей, где висела замечательная живопись, теперь по большей части перенесенная в Лувр и в «Же-де-Помм». Я ходил туда чуть не каждый день ради Сезанна, Мане, Моне и других импрессионистов, с которыми познакомился в Чикагском художественном институте. У живописи Сезанна я учился тому, что недостаточно писать простыми правдивыми фразами, если хочешь придать рассказу глубину, к которой я стремился. Я очень многому учился у него, но затруднялся объяснить это словами. Кроме того, это был секрет. Но если в саду уже смерклось, я шел через него на улицу Флерюс, где в доме 27 жила Гертруда Стайн.
Мы с женой ходили к Гертруде Стайн; она и подруга, жившая с ней, были очень приветливы и сердечны, и нам полюбилась их большая студия с прекрасными картинами. Она напоминала один из лучших залов в хорошем музее, с той разницей, что там был большой камин, было тепло и уютно и вас угощали вкусной едой, чаем и водками из красных слив, желтых слив или малины. Эти бесцветные ароматные напитки разливались из хрустальных графинов по рюмкам, и, будь то quetsche, mirabelle или framboise, все отдавали теми плодами, из которых их гнали, они слегка жгли и развязывали язык, согревая тебя.
Мисс Стайн была крупна, хоть и невелика ростом, сложена по-крестьянски плотно. У нее были красивые глаза и четкое лицо немецкой еврейки или жительницы Триеста, и одеждой, подвижностью лица, густыми блестящими непослушными волосами, которые она зачесывала наверх, как, наверное, делала еще в колледже, она напоминала мне крестьянок северной Италии. Говорила она все время и поначалу – о людях и разных местах.
У ее компаньонки, маленькой, очень смуглой, горбоносой, с прической как у Жанны д’Арк на иллюстрациях Буте де Монвеля, был очень приятный голос. Когда мы впервые пришли к ним, она вышивала и по ходу дела угощала нас едой и вином и беседовала с моей женой. Беседовала сама, слушала беседу соседней пары и часто прерывала ту, в которой не участвовала. Позже она объяснила мне, что беседует всегда с женами. Жен, как мы с женой поняли, тут терпели. Но мне понравились и мисс Стайн, и ее подруга, и хотя подруга внушала страх, картины, пирожные и eаu-de-vie[7]7
Водка (фр.).
[Закрыть] были великолепны. Хозяйкам мы тоже, кажется, понравились; с нами обходились как с хорошими воспитанными умненькими детьми, и я чувствовал, что нам прощают то, что мы любим друг друга и женаты – с этим время разберется, – и когда жена пригласила их к нам на чай, они согласились прийти.
Когда они пришли к нам, мы, кажется, еще больше им понравились; впрочем, возможно потому, что квартирка была маленькая и мы были гораздо ближе друг к другу. Мисс Стайн села на постель, устроенную на полу, попросила показать ей мои рассказы и сказала, что некоторые ей нравятся, только не тот, который называется «У нас в Мичигане».
– Он хорош, – сказала она. – Тут нет вопросов. Но он inaccrochable[8]8
Букв.: невывешиваемо (фр.).
[Закрыть]. То есть он как картина, которую художник написал, а на выставке не повесил: никто ее не купит, потому что не может повесить у себя дома.
– Но если он не похабный, а ты просто пытаешься употреблять слова, которые на самом деле употребляют люди? Если только эти слова могут правдиво прозвучать в рассказе и ты должен их использовать? Они нужны тебе.
– Вы меня не поняли, – сказала она. – Нельзя писать то, что inaccrochable. Это бессмысленно. Это неправильно и глупо.
– Понимаю, – сказал я. Я был с ней не согласен, но это была ее точка зрения, а я не считал возможным спорить со старшими. Я предпочитал их слушать, и Гертруда говорила много умного. Она сказала, что рано или поздно я должен отказаться от журналистики, и тут я был совершенно с ней согласен. Сама она хочет печататься в «Атлантик мансли», сказала она, – и будет там печататься. Она сказала, что я недостаточно хороший писатель, ни там, ни в «Сатердей ивнинг пост» меня не возьмут, но, возможно, я писатель нового типа, со своим стилем, и первое, что надо запомнить, – не писать рассказов inaccrochable. Я не спорил и не стал объяснять еще раз, что я пытаюсь делать с диалогом. Это было мое личное дело, и гораздо интереснее было послушать ее. В тот день она объяснила нам еще, как покупать картины.
– Вы можете покупать либо одежду, либо картины, – сказала она. – Очень просто. Не очень богатые люди не могут позволить себе и то и другое. Не обращайте внимания на свою одежду, не заботьтесь о моде, покупайте удобную и носкую, и тогда у вас будут одежда и деньги на покупку картин.
– Но если я больше никогда ничего не куплю из одежды, – сказал я, – на Пикассо, которого я хочу, у меня все равно не хватит.
– Да. Пикассо не про вас. Покупайте сверстников, людей своего призыва. Вы их узнаете. Познакомьтесь с ними где-то по соседству. Всегда есть новые хорошие и серьезные художники. Но дело даже не в вашей одежде. А в одежде жены. Женская стоит дорого.
Я заметил, что жена старается не смотреть на странную, третьесортную одежду мисс Стайн и ей это удается. Когда они уходили, мы, кажется, еще не потеряли их симпатий и были снова приглашены на Флерюс, 27.
А позже мне предложили заходить в студию зимой в любое время после пяти. Я встретил мисс Стайн в Люксембургском саду. Не помню, прогуливала она собаку или нет, да и была ли у нее тогда собака, не помню. Знаю только, что прогуливал себя, потому что мы не могли себе позволить ни собаку, ни даже кошку, а из кошек мне знакомы были только те, что жили при кафе и ресторанчиках, да еще замечательные кошки, красовавшиеся в окнах консьержек. Впоследствии я часто встречал мисс Стайн с собакой в Люксембургском саду, но, наверное, в тот раз она еще не завела собаку.
Не важно, с собакой или без, приглашением я воспользовался и стал частенько заходить в гости; она всегда угощала меня натуральной eaude-vie, настаивая на второй рюмке, а я смотрел на картины, и мы разговаривали. Картины были изумительны, и разговор хорош. В основном говорила она: рассказывала о современной живописи и о художниках – больше как о людях, чем об их картинах, – и рассказывала о своей работе. Показала мне много рукописей – написанное ею компаньонка ежедневно печатала. Она испытывала счастье от того, что каждый день писала, но, узнав ее лучше, я понял, что для счастья ей нужно, чтобы эта ежедневная выработка, менявшаяся по объему в зависимости от ее энергии, но регулярная и потому огромная, – чтобы она публиковалась и получила официальное признание.
Когда я с ней познакомился, этот вопрос так остро еще не стоял – она опубликовала три повести, понятные каждому. Одна из них, «Меланкта», была очень хороша; так что хорошие образцы ее экспериментальной прозы были опубликованы в книжном виде и расхвалены критиками, которые ее знали или встречались с ней. Личность ее была настолько притягательна, что, если она хотела привлечь кого-то на свою сторону, устоять было невозможно, и критики, познакомившись с ней и увидев ее коллекцию картин, принимали ее непонятные произведения на веру, потому что восхищались ею как человеком и не сомневались в ее суждениях. Но помимо этого она внесла много нового в области ритма и повторов, основательного и ценного, и интересно говорила об этом.
Но чтобы по-прежнему писать каждый день, не утруждая себя правкой и не заботясь о том, чтобы быть понятной, а только наслаждаться счастьем чистого творчества, все настоятельнее становилась потребность в публикации и официальном одобрении – особенно невероятно длинной книги «Становление американцев».
Книга начиналась великолепно, продолжалась на большом протяжении очень хорошо, местами блестяще, а потом сваливалась в бесконечные повторения, которые более добросовестный и менее ленивый писатель выбросил бы в мусорную корзину. Я очень хорошо узнал эту книгу, поскольку убедил Форда Мэдокса Форда печатать ее фельетонами в «Трансатлантик ревью» – правильнее сказать, заставил, понимая, что журнал скончается раньше, чем кончится книга. Я слишком хорошо был осведомлен о финансах журнала и вдобавок вынужден был вычитывать все гранки за мисс Стайн, потому что это занятие не делало ее счастливой.
Но до этого еще оставались годы, а в тот холодный день, когда я прошел мимо будки консьержки и через холодный двор и очутился в тепле студии, мисс Стайн наставляла меня относительно секса. К тому времени мы уже очень расположились друг к другу, и я уже усвоил, что в том, чего я не понимаю, может быть свой смысл. Мисс Стайн считала меня профаном в вопросах секса, и должен сознаться, что к гомосексуализму я относился предвзято, поскольку сталкивался с более примитивными его проявлениями. Я знал, почему ты должен был носить нож, если ты подростком находился среди бродяг в те дни, когда «кобель» означало только «бабник». Я знал много inaccrochable слов и выражений с тех времен, когда жил в Канзас-Сити, и нравы некоторых районов этого города, и Чикаго, и озерных судов. Подвергнувшись допросу, я пытался объяснить мисс Стайн, что, если ты мальчик и находишься в обществе мужчин, ты должен быть готов убить взрослого, уметь убить и знать, что сделаешь это, если на тебя покусятся. Это слово как раз accrochable. Если ты знаешь, что убьешь, другие это быстро почувствуют и оставят тебя в покое; и все равно есть такие ситуации, которых надо избегать, – ты не должен позволить, чтобы тебя в них загнали или заманили. Я мог бы объясниться более внятно, воспользовавшись inaccrochable присказкой судовых коблов: «Баба – это хорошо, но черный месяц лучше». Но в разговорах с мисс Стайн я всегда выбирал выражения; подлинные лучше выразили бы или объяснили мою предвзятость.
– Да-да, Хемингуэй, – сказала она. – Но вы вращались в среде преступников и извращенцев.
С этим я не стал спорить, хотя считал, что жил в таком мире, каков он есть, населенном самыми разными людьми, и я старался понять их, но некоторых полюбить не мог, а некоторых до сих пор ненавидел.
– А что вы скажете о старике с прекрасными манерами и прославленной фамилией, который приходит к тебе в госпиталь в Италии, приносит бутылку марсалы или кампари и ведет себя безукоризненно, а потом, в один прекрасный день, ты вынужден просить сестру, чтобы она больше не пускала его в палату? – спросил я.
– Эти люди больны и ничего не могут с собой поделать – их жалеть надо.
– И такого-то я должен жалеть? – спросил я и назвал имя, которое он сам с таким удовольствием называет, что приводить его тут нет нужды.
– Нет. Он порочен и зол. Он совратитель и по-настоящему порочен.
– Но считается хорошим писателем.
– Нет, – сказала она. – Для него главное – быть на виду, он совращает ради удовольствия совращать и приобщает людей еще и к другим порокам. К наркотикам например.
– А человек в Милане, которого я должен жалеть, – он не пытался совратить меня?
– Не глупите. Как он мог надеяться совратить вас? Можно ли совратить молодого человека, подобного вам, пьющего водку, бутылкой марсалы? Нет, это несчастный старик, который не может совладать с собой. Он болен и ничего не может с этим поделать, и вы должны его жалеть.
– Да я и жалел, – сказал я. – Но был разочарован – уж очень прекрасные были у него манеры.
Я еще глотнул водки, и пожалел старика, и посмотрел на обнаженную девушку с корзиной цветов кисти Пикассо. Не я затеял этот разговор, и кажется, он принимал немного опасный оборот.
– Вы, Хемингуэй, ничего об этом не знаете, – сказала она. – Вы общались с заведомыми преступниками, больными и порочными людьми. Суть в том, что гомосексуальный акт, совершаемый мужчинами, безобразен и мерзок, и после они сами себе отвратительны. Они пьют, принимают наркотики, чтобы это заглушить, но акт им отвратителен, они непрерывно меняют партнеров и не могут быть по-настоящему счастливы.
– Понимаю.
– У женщин все наоборот. Они не делают ничего отталкивающего, ничего такого, что им отвратительно, и после они испытывают счастье и могут счастливо жить вдвоем.
– Понимаю, – сказал я. – А как же такая-то?
– Она порочна, – сказала мисс Стайн. – Она глубоко порочна и не может быть счастлива иначе, чем с новыми людьми. Она совращает людей.
– Понял.
– Уверены, что поняли?
В те дни мне надо было много чего понять, и я обрадовался, когда мы заговорили о других предметах. Парк был закрыт, пришлось идти вдоль него на улицу Вожирар и по ней вокруг нижней стороны. Грустно выглядел закрытый и запертый парк, и грустно было идти в обход него, а не сквозь, чтобы поскорее попасть домой, на улицу Кардинала Лемуана. А начался день так радостно. Завтра надо как следует поработать. Работа почти от всего излечивает, думал я тогда – да и сейчас так думаю. Наверное, по мнению мисс Стайн, излечиться мне надо было только от молодости да от любви к жене. Мне совсем не было грустно, когда я пришел домой, на улицу Кардинала Лемуана, и поделился новообретенным знанием с женой, и ночью мы были счастливы нашим собственным знанием, тем, которое у нас уже было раньше, и тем новым, которое приобрели в горах.