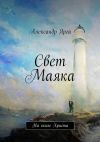Текст книги "Преодоление идеализма. Основы расовой педагогики"
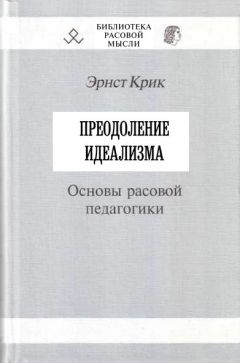
Автор книги: Эрнст Крик
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Метафизика
Много раз я критически перепахивал со своими учениками «Пролегомены» Канта и каждый раз обнаруживал при этом червей. До сих пор остается неясным, видел ли Кант в своей трансцендентальной философии только критическую основу будущей научной метафизики или хотел раз и навсегда заменить ею любую метафизику. Несмотря на все оговорки, философия Канта – часто против его воли – плыла к тем же берегам, к которым потом на всех парусах устремились Фихте и Гегель: к замене подлинной действительности рожденным чистым разумом аподиктическим, общезначимым понятием, к объявлению мира, данного нам в ощущениях, видимостью, действительностью второго или третьего сорта, ненастоящей действительностью. Мир, таким образом, сводился к рациональной формалистике. Примечательно, что в поисках непоколебимой, прочной скалы, которая могла бы стать основой его аподиктической, трансцендентальной философии Кант, в конце концов, пристал к логике Аристотеля и при этом чувствовал себя революционером наподобие Коперника!
Для Фихте и Гегеля уже не было никакого удержу: понятие – настоящая действительность, сущность метафизики. Поэтому для Гегеля все разумное действительно, поэтому он возродил онтологическое доказательство бытия Божия. Гегель был человеком реставрации, который втайне радовался падению Бастилии, был врагом Империи и приверженцем Наполеона. С помощью своего знаменитого метода он мог сделать из чего угодно что угодно и всегда делал то, что в данный момент было целесообразно и имело спрос на рынке. Поэтому гегельянцы и сегодня с помощью этого метода могут приспособиться к чему угодно. Они, как еж из сказки, всегда «уже здесь». Блаженны гегельянцы, ибо могут стать кем угодно.
Кант остался во всех отношениях внутренне противоречивым. Прежде чем он начал в свой критический период превращать универсальную действительность в формализм понятий, он, как радикальный бюргер, был полностью согласен с формулой Ньютона, которую он и в «Критике способности суждения» еще считал основой познания мира: Мир это механизм. Метафизика это или нет? А если я скажу иначе: Мир это вселенская жизнь, будет ли это тоже метафизика? Обе формулы соответствуют стремлению объяснить мир с помощью единого принципа, но они еще не ведут поиски за пределами этого мира, не объявляют его видимостью, а некую иную действительность – настоящей. Но когда Шеллинг говорит об одушевленности Вселенной, он уже, несомненно, выходит за рамки этого мира и ищет там стоящее за ним, отдельное от него начало, истинную действительность, которую он по старинке называет душой, и которая, если она имманентна миру, должна быть его двигателем, творцом, смыслом. Душа противостоит видимому миру, жизнь – его начало. Две первые формулы, наоборот, не содержат в себе первоначально ничего подобного. Из наличия мирового механизма еще не следует вывод о существовании мирового механика, часовщика, архитектора, демиурга.
Метафизика это рационализированный миф о творении, даже в тех случаях, когда Кант и Геккель говорят о «естественной истории творения». Кант в своих «Критиках» просто оставил эти вещи в антиномии. Но они остаются метафизикой и тогда, когда они выдаются за «чисто формальные» идеи, имеющие условное значение, если делаются выводы о том, сотворен мир или вечен, все ли в нем причинно или существует также свобода и т. д.
Гипотетически можно использовать миф и метафизику (т. е. рационализированный миф) в целях формирования мировоззрения на базе единого начала, только нужно всегда помнить, что это гипотезы. Гипотеза это не вера, а вспомогательное средство познания мира. Но метафизика не хочет быть гипотезой, она хочет быть последней, единственной и непоколебимой истиной, всеобщим, исключительным средством познания подлинной действительности, хотя она, наподобие церковной догмы, наследницей которой она является, почти ежедневно меняет кожу, так что в процессе этих изменений не остается ничего постоянного, кроме самих изменений.
В этом проявляется истинная природа метафизики: это эрзац догмы, как догма – эрзац живой веры. И метафизика, и догма претендуют на звание истины в последней инстанции. Разум, природа, механизм, жизнь, мир, душа, все посюсторонние понятия этого мира сразу же становятся метафизическими, как только к ним приплетают Бога и воображают, что познают Бога. Настоящая вера это не познание и не знание, ни метафизическое, ни догматическое, ни, тем более, гипотетическое. Настоящая вера это переживание, придание смысла, направление, воля, двигатель, а не инвентарная опись жизни, мира и действительности. Метафизика и догма «возвышают» веру до уровня разума, знания и тем самым удушают ее. Вера творит историю; метафизика никогда не творила историю, а хотела остановить ее, заморозить, отменить.
Кант в предисловии ко 2му изданию «Критики чистого разума» обронил ставшую знаменитой фразу: «Я вынужден был потеснить знание, чтобы дать место вере». Странная вера! Поскольку Бог, свобода и бессмертие не могут быть доказаны, поскольку этим метафизическим рациональным идеям не соответствуют никакие реалии, поскольку они по отношению ко всей действительности имеют лишь формальное, регулятивное значение, их можно все же «принять» для практического использования. Такой «как бы Бог» нужен тем, кому недостаточно разума как единственного двигателя (не регулятора!) нравственных действий, при чем дозволяется каждому считать чистый практический разум Богом, т. е. законодателем мира и нравственности. Это уже отдает Талмудом! В метафизике всегда один шаг от законодателя к автономному закону, от создателя мировой машины к мировой машине, которая создает себя сама.
Эту свою метафизику философы назвали потом своей религией! А кто-нибудь знает, что такое религия? Я вот до сих пор не знаю. Поскольку мне не нужна метафизика, значит, у меня нет и религии. Но я знаю, что такое вера, в той мере, в какой имею ее, в какой чувствую, что должен достичь определенной цели. Это нечто иное, чем формальный «категорический императив», который, несмотря на свое «делай так», в действительности ничего мне не приказывает. Все это одна видимость.
Некогда я думал, будто знаю, что такое религия. В моих первых работах я упорно называл мой неоидеализм моей религией, хотя совесть подсказывала мне, что все это, в сущности, лишь болтовня, эрзац. Сегодня, когда я изжил свой неоидеализм, радикально освободился ото всякой метафизики вместе с идеалистической теологией, исторической теологией, религиозной философией, это означает, что у меня вообще нет больше религии. Взамен, вместо какого-либо эрзаца, у меня есть живая вера, не метафизика, не теология и не философия, а просто вера. Вместо какой-либо философии я обрел немецкое мировоззрение, которое включает в себя знание мира и человека, природы и истории. Это чисто посюстороннее, обусловленное кровью мировоззрение, основанное на созерцании и восприятии. Но через центр этого мировоззрения проходит ось. Это не знание, а вера, которая указывает на мое предназначение в жизни, но не имеет и не хочет иметь ничего общего с метафизикой, догмой и «религией». Это было мое самое главное преодоление: я преодолел философию и понял ее недостаточность во всех отношениях.
О вере, как творческой, движущей силе истории можно, зная о ней по своим переживаниям, говорить отстраненно и объективно. Ее можно сделать предметом познания. Вера это не знание, но она может стать предметом антропологического и исторического знания. Зато нет никакого знания о Боге; связь человека с живым, вечным Богом это только живая, вечная вера.
В философии понятие, понимание это только средство, способ познания, но не предмет познания и не может рассматриваться как настоящая действительность в противоположность видимой. Суверенность и автономия понятия, именуемого также разумом или духом, это принцип существования и одновременно первородный грех любой философии со времен Парменида и Гераклита.
Между созерцанием природы, восприятием других людей и верой в Бога понятие это только вспомогательное средство, промежуточное звено, но не принцип существования. Это конец философии.
Считая когда-то неоидеализм своей религией, я видел одновременно в классическом идеализме наряду с музыкой и поэзией высшее духовное проявление немецкого характера. Сегодня я могу это повторить лишь с оговоркой: это было самовыражение немцев в эпоху отсутствия Империи, надлома национального характера и сильных чужеродных влияний. О музыке я и сегодня прежнего мнения, она, действительно, апогей немецкого духа. Относительно поэзии у меня уже больше оговорок, но больше всего их касается философии. Я и сегодня не отрицаю в философском идеализме немецкий характер подхода к проблемам. Но нельзя говорить о его немецком своеобразии и в тех случаях, когда он сам хотел быть не немецким, а универсальным. Универсализм и гуманизм были его целью, а путь к ней вел через абсолютизм, универсализм и реализм понятий, т. е. через замену живой действительности понятием, логосом, рацио. Немецким оставался лишь способ, которым шли по этому пути Лессинг, Кант, Фихте и Гегель. Гете как минимум в одном пункте пошел гораздо дальше философов, когда он противопоставил их универсализму понятий натурализм, причем его натурализм, в отличие от аналитически-механистического и формалистического натурализма Ньютона, Кювье и прочих, был типично немецким. Пока философы равнялись на Декарта и Ньютона, Гете отвергал их спекуляции.
Когда я противопоставил универсализму понятий созерцание живой действительности, рационализированной религии – веру, метафизике – мировоззрение, бытию – жизнь как принцип, гуманизму – расу как природную основу, короче, когда передо мной рассеялся весь туман неоидеализма, я одновременно заново и глубоко пережил германские корни и основу во всем немецком: в народе, восприятии природы, общественной жизни, способа мышления, взгляде на мир, личности, вере, счастье, судьбе, творчестве, искусстве. Я почувствовал большую близость и любовь ко всему германскому, к Лютеру, Дюреру, Грюневальду, Парацельсу, ко всей непрерывности немецкой истории, проходящей через этих людей XVI века. Борьба со всем чужеродным позволила мне понять, что во всем германском уже заключено свое, готовое мировоззрение, которое сильней чужой, универсальной философии, всегда только сдерживавшей развитие всего своеобразного. Развитие германского мировоззрения сегодня возможно и необходимо. Я посвятил этому мою «Национально-политическую антропологию», а также книги «Жизнь» и «Человек в истории». Непрерывность германского наследия доказывается в книге «Национальный характер и осознание своей миссии. Политическая этика Рейха».
И здесь круг опять замыкается. Я всегда был верен всему германскому, некогда я считал идеализм высшим проявлением германского духа. Маленьким мальчиком я читал все, что попадалось под руку. Выбор был небогат. Но три книги, которые достались мне «случайно», определили мои наклонности. Это были сочинения Шиллера, популярное жизнеописание Лютера и 4 тома иллюстрированной немецкой истории швабского демократа Циммермана, известного своей историей крестьянской войны. Оба шваба, Шиллер и Циммерман, указали мне на эпоху немецкого пробуждения с 1800 по 1830 год, к которой я сегодня обратился снова, но не к идеализму, а к пробуждению немецкого национального самосознания в студенческих корпорациях, которое было задушено прусской реакцией и снова направлено по западному фарватеру.
Сегодня мы опираемся на три эпохи немецкой истории: эпоху великих императоров, эпоху Лютера и эпоху пробуждения молодой Германии после наполеоновских войн. Тогда пробудились чувство расы и вера, национальное самосознание, тогда возник немецкий натурализм и биология стала одним из творений германского духа. Тогда пробудилось и германское историческое сознание, поскольку в мировоззрении не требовалась больше метафизика. Оно заполняет пространство между верой и единым вселенским началом, которое называется жизнью, и как таковое в природе и в истории, в расе, народе и творческой личности обретает свою высшую форму и свое последнее воплощение.
Наука о воспитании
Хотя я стал учителем по призванию, я испытывал антипатию к педагогике, которая жила традициями Песталоцци. Я произвел революцию в науке о воспитании вопреки тому, что был школьным учителем, а не потому, что им был. Я занимался многими науками, но избегал педагогики, кроме тех случаев, когда она мне просто мешала в моей профессиональной деятельности, за что я ей потом отплатил. Я немного почерпнул из того теоретического, идеологического и технологического вклада в учительское ремесло, который называется педагогикой.
При взгляде на народ и государство в аспекте естественной смены поколений, исторического становления, самопроявления их сути и воплощения их смысла проблема воспитания выглядит столь же необходимой, как и проблема политики, и обе они неразрывно связаны одна с другой. Эта тема была затронута уже в «Личности и культуре» и развита в «Немецкой государственной идее». Основы новой науки о воспитании изложены в «Философии воспитания», «Формировании человека» (1925), «Национально-политическом воспитании» (1932) и «Национал-социалистическом воспитании» (1933). Подход этот, в сущности, не нов. Он есть уже в государственной философии Платона, его сознательно применяли прусские короли, и поднял на новый уровень барон фон Штейн.
Рожденная в эпоху Просвещения и сформированная под влиянием идеализма ремесленная педагогика, которая со времен Гербарта отождествляет воспитание с преподаванием, существовала параллельно с государственной педагогикой без связи с ней. Чтобы взорвать ее схематизм понятий, который был заимствован у идеализма и служил обоснованием претензий педагогики на звание науки, нужно было преодолеть идеализм. Это было сделано в первых главах «Философии воспитания», где критиковались индивидуализм, интеллектуализм, психологизм и эволюционизм. Позже к этому добавилась критика абсолютизма понятий и универсализма, ведущих к отрыву от природы, народа и истории. Все это вместе составляет идеализм, от которого нужно избавиться, чтобы создать настоящую науку о воспитании, прочно стоящую на своих ногах на твердой почве действительной жизни.
Правда, ни Платон, ни прусская государственная педагогика не рассматривали воспитание в историческом становлении. Для этого само государство должно полностью избавиться от идеальных конструкций естественного права. Этому способствовала мировая война…
Преобразование науки о воспитании исходит из познаний, которые противоречат образу человека согласно теории естественного права. Это образ человека «в естественном состоянии», живущего одиноко, животной жизнью, но вдруг, благодаря своему разуму, создающего общество со всеми его атрибутами (языком, государством, правом, экономикой, техникой и т. д.). На этой противоречащей всем данным истории и этнографии фикции основывались все науки буржуазной эпохи, которые имели отношение к общественной жизни.
Знание того, что человек – общественное существо от природы, что первобытное сообщество становится народом только благодаря разумному управлению им, при чем есть заданное раз и навсегда число основных функций, жизненных потребностей человека, к которым относится язык, техника добывания пищи, а также воспитание и право, подготовило для науки о человеке новый фундамент и указало новый путь. Создание новой науки о воспитании на этом фундаменте стало началом общей революции в других науках. Одна наука за другой должна была делать выводы из того, что человек – общественное существо от природы, а не становится им только после заключения какого-то выдуманного «договора». Вырисовывается совершенно иной образ человека.
Правда, ссылаются на Наторпа и через него на того же Песталоцци, которые будто бы положили идею общества в основу воспитания и педагогики. В отношении Наторпа это неверно, в отношении Песталоцци верно лишь наполовину. В учении Наторпа человек – общественное существо, но не от природы. В своих исходных тезисах Наторп, в принципе, не отличается от Руссо, Гербарта и прочих теоретиков естественного права.
Для всей теории естественного права человек изначально противостоит вещам, природе, как субъект объекту. Отсюда вытекает вся теория познания буржуазной эпохи. Но если человек изначально находится в общественной связи с другими людьми, то и теория познания приобретает совершенно новый облик.
Для новой педагогики из этого следовало, что воспитательное воздействие одного человека на другого, в частности, взрослых на детей, это не только помощь, но и непременное предварительное условие созревания. Это правило действительно и для других жизненно необходимых основных функций общества.
Эти функции возникли вместе с человеком, но не созданы человеком, они не имеют начала в истории, но являются постоянной предпосылкой всей истории. Создание языка, права, политического строя, техники, медицины, воспитания не может быть локализовано во времени, не имеет абсолютного начала, но является движущим фактором во всех областях общественной жизни.
На учительских семинарах нам когда-то вдалбливали методический схематизм Гербарта и Циллера. Все это очень быстро от меня отскочило. Но кроме методики была и педагогическая теория или идеология. Эти призраки понятий, шелуха без зерна, повторение задов Гербарта были мне не менее отвратительны. Они уводили учителей от реалий их профессии в идеологический туман…
Тогда я не знал того, что и сегодня еще осознал не в полной мере: что педагогика делает лишь то, что обязана делать любая наука: отвлекать внимание от действительности и обманывать. Разве сегодня физика, соревнуясь с онтологией и забыв Гете, не занимается своим традиционным делом – уничтожением природы, по крайней мере, ее искажением? Тем более удивительно, что мне удалось, правда, после жестокой борьбы, опрокинуть веками стоявшее, хотя и на шатком фундаменте понятий, многоэтажное здание научной «педагогики» и построить на его месте новое здание на основе национально-политической действительности. И должны рухнуть еще несколько старых знаний, чтобы произошла та революция в науке, которую я предрекал в 1919 году.
Политика
На Гете произвели большое впечатление слова, сказанные Мерком в 1774 году: «Твое неизменное направление – придавать действительности поэтическую форму: другие пытаются воплотить в действительность поэтическое, воображаемое, и ничего, кроме глупостей, не получается». Если подставить на место поэзии понятия, то задачи науки – познать действительность с помощью понятий. Я никогда не мог довольствоваться философией, которая подменяла действительность понятиями или объявляла ее простой видимостью, отождествляя мышление с бытием, разумное с действительным.
Чувство действительности рано толкнуло меня в сторону политики и истории. Я признал политику силой, формирующей историю, а политику и историю вместе – действительностью высшего ранга по сравнению с «культурой» и «духом». Так вместе с позитивизмом были преодолены идеализм и рационализм.
Проблема политического была поставлена уже в «Личности и культуре», когда я обратился к конкретному человеку, а не лежащему в основе идеализма «абсолютному Я», всеобщему субъекту познания. Философия, построенная на основе понятий, неизбежно бегает по кругу, как гиена в клетке, в тюрьме понятий.
Творческий человек, это не только гений поэзии, искусства, науки, философии и германский человек, право которого предопределено его расой и призванием, который сам устанавливает законы и ценности, придает форму тому, что потенциально заложено в обществе. Это судьбоносный герой, политический вождь.
Как крестьянский юноша из Фёгисхайма пришел в политику? Стремление заглянуть за кулисы происходящих процессов это не политический дар. Интерес к политике возник у меня из стремления познать действительность.
Я уже писал о том, сколь скучной и неинтересной была политическая жизнь Германии после Бисмарка. Я никогда не мог понять, чем англичане превосходят нас, немцев, и на чем основывают свои притязания на первенство. Меня они возмущали.
Я никогда не был политиком в собственном смысле слова, у меня не было задатков вождя, и я не претендовал на эту роль. Если я стал политическим борцом и мыслителем, то только болея о своем народе, ради высших целей. Хотя я вел свою борьбу преимущественно в культурно-политической области, смысл ее всегда был один и тот же: единая и великая Германия, народ, Империя, немецкое будущее и мировое значение немецкой мысли.
И все же я не могу сказать, что именно толкнуло меня в юношеские годы в политику. Я был молодым, очень одиноким, погруженным в книги учителем со скудным жалованием. Честолюбивых мечтаний у меня не было. Моим единственным желанием было оставить после себя что-нибудь сопоставимое по значению с трудами Шопенгауэра (но иного направления). Это была моя мечта.
Ницше сказал о Шопенгауэре, что тот «не был ничьим подданным». Но Шопенгауэр мог быть независимым, будучи наследником значительного состояния; он вырос в духовной атмосфере Иены и Веймара и был аполитичным. Ницше, базельский профессор на пенсии, мог фантазировать в долинах Энгадина и в Италии о воле к власти и сверхчеловеке, но все время боязливо косился на «базельских господ», как бы они не лишили его пенсии.
А кем был я? Маленьким школьным учителем, который не кончал университетов, происходил из низов, не имел состояния, которого в любой день могли вышвырнуть на улицу вместе с женой и ребенком. Ни в батраки, ни в журналисты я не годился. В чем же я нашел опору? Откуда у меня взялась воля к свободе, к независимости? К политической борьбе? Я не знаю. Но когда я ставил перед собой какую-либо задачу, я всегда шел до конца. Только поэтому даже в период самой тяжелой политической борьбы, когда дело доходило до суда, а до 1924 года еще и работая в школе по 28–30 часов в неделю, я смог написать такие основополагающие работы как «Философия воспитания», «Формирование человека», «Системы образования культурных народов», которые требовали сбора большого количества материалов. Я не знаю, как это было возможно, помню только, что я работал непрерывно и должен был работать, потому что не мог жить без этого.
Вскоре после того, как я сдал две политические программные статьи в сборник, который готовился для Национального собрания в Веймаре (1919 г.), я провел лето, поскольку у меня подозревали туберкулез – я весил 115 фунтов при росте 1 м 80 см, у себя на родине. Под впечатлением этого я написал статью «Родная Алемания».
В те годы против меня не раз выступали «красные» и «черные», потому что я призывал превратить юго-западную Германию в духовный бастион борьбы протии вторжения с Запада и обвинял католическую партию Центра в сепаратизме. Я боролся в одиночку, без чьей-либо помощи и поддержки, но власть имущие были не настолько сильны, чтобы уничтожить маленького школьного учителя.
Политическая наука существует со времени «Политеи» Платона, но обычно она вырождается в политическую идеологию. Эта наука ни у кого не была столь тесно увязана с действительностью, как у меня в «Национально-политической антропологии». Поэтому меня так ненавидит немецкий научный мир. И сегодня в науке и высшей школе под лозунгами «объективности» продолжают задавать тон ученые Веймарской эпохи. Меня называют «трехсотпроцентным национал-социалистом» именно те профессора, которые очень хорошо знают, что их наука – продажная девка, в то время как я, хотя никогда не мог жить независимо, а всегда зарабатывал на жизнь тяжелым трудом, с большим основанием, чем Шопенгауэр и Ницше, могу сказать о себе, что не был ничьим подданным.
Когда печаталась моя «Личность и культура», союз учителей Мангейма вовлек меня в борьбу вокруг т. н. «мангеймской школьной системы» и поручил мне руководство оппозиционной газетой «Фольксшульварте». Тогда я получил первые навыки борьбы. В Веймарские времена я продолжил ее на более широкой основе вместе с моими друзьями Лакруа и Хёрдтом в газете «Бадише Шульцайтунг». Поскольку баденский союз учителей не удалось свернуть с демократического пути, я повел борьбу против него со страниц перешедшей в мои руки газеты «Фрайе Дойче Шуле» (Вюрцбург), но ее редактор был против того, чтобы газета стала целиком национал-социалистической.
«Черно-красно-желтые» ненавидели меня не только за мою культурно-политическую борьбу, но и за мои выступления против сепаратизма, который они поддерживали, в Дармштадте, Карлсруэ и т. д. Я печатался в разных газетах, но иногда у меня оставалась только «Фрайе Дойче Шуле», выходившая раз в две недели. С 1924 по 1928 гг. «красные» и «черные» не раз выступали против меня в Бадене и прилегающих областях. Не забыть статьи против меня во «Франкфуртер Цайтунг». То, что ее издателем был Парвус (Гельфанд), один из самых грязных еврейских спекулянтов, какие когда-либо жили на свете, я тогда, правда, не знал. Но в политической борьбе всегда можно вляпаться в какую-нибудь грязь. Однако я вел борьбу, чтобы влиять на политику и влиял. Приходилось использовать те возможности, какие есть. Почему меня ненавидят «черно-красно-золотые», понятно, и я этим горжусь. Почему у меня так много врагов среди национал-социалистов, понять трудней, вероятно потому, что для меня и после 1933 года главное – истина.
Во время войны я использовал для пропаганды своих идей газету «Ойропеише Штаас-унд Виртшафтсцайтунг». В связи с полемикой в этой газете я на Троицу 1917 года встретился при драматических обстоятельствах с Максом Вебером. Когда я летом того же года впервые приехал в Берлин, я понял, каким грязным делом может быть политика. Настроения в Берлине были ужасные. Я сказал тогда одному сотруднику, что если в Берлине действительно произойдет революция, юго-западная Германия ее раздавит. Я был плохим пророком.
Моя первая статья, опубликованная в Берлине, была в поддержку Гинденбурга и Людендорфа против Бетмана. За эту статью газета была временно запрещена. Так я получил первый урок практической политики. Я понял, что объективность, как в политике, так и в науке это лишь проявление слабости.
Когда я увидел, что политический мир, начиная с моей газеты, состоит из одних евреев и интриганов, я вернулся как провалившийся кандидат и как мокрая курица в мою школу в Мангейме. И когда я там в 1918 году прочел условия перемирия, я зарыдал. После меня уже ничто не удивило, ни Веймар, ни Версаль.
С тех пор я стал толстокожим, как носорог, и это помогло мне в последующие годы. Когда в конце 1923 года депутат Рейхстага социал-демократ Гекк со своей сворой пытались принудить меня с помощью клеветы к капитуляции, после длившегося 11 месяцев процесса, во время которого Гекк все время прятался за свою неприкосновенность, он потерпел политическое и моральное поражение. На какое-то время они успокоились, но в 1928 году на меня напал прелат Шофер, и я вынужден был уехать из Бадена, однако в Пруссии попал из огня в полымя. Против меня было возбуждено дело с целью увольнения меня со службы, но через несколько месяцев прусское правительство кануло в небытие.
Но что общего у всего этого с «изжитым неоидеализмом»? Революция 1848 г. была неудачной попыткой воплотить идеализм в жизнь. Послевоенная система носила имя немецкого города Веймар, где мелкие обыватели охотно воображали себя великими за спиной Гете. Веймарская система сознательно связала себя с неоидеализмом. Конституция и «свобода» были воплощением неоидеализма. У этой системы были свои профессора, идеологи и литераторы типа братьев Манн. Университеты и наука до сих пор остаются крепостью неоидеализма.
Борьба против Веймара и неоидеализма была внутренней борьбой за политическую действительность великого германского Рейха. В высших школах и науке мы еще очень далеки от этой цели.
Политическая борьба часто ведется не на жизнь, а на смерть. Сегодня все выглядит бледновато и не очень возвышенно. У меня нет призвания к мученичеству, равно как и к тому, чтобы стать святым или сверхчеловеком. Поэтому я выразил бы смысл этой брошюры словами «Homo sum», а не «Ессе homo», как Ницше.