Текст книги "Другая Музыка"
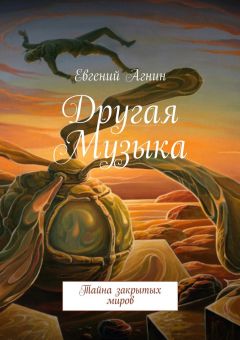
Автор книги: Евгений Агнин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
глава 8
Я вошел в огромное помещение, напоминавшее заводской цех. Путь был один: вперед вдоль расположенных слева и справа от меня движущихся линий какого-то адского производства. Слева конвейерная линия двигалась медленно навстречу мне, поворачивала налево, и уходила вглубь пространства. Расстояние до этой движущейся ленты было метра три-четыре и было плохо видно какие именно компоненты этого загробного производства транспортируются на конвейере. Освещение здесь было слабоватое для нормального современного производства. Для морга конечно в самый раз. Я приблизился к этой ленте, сам продолжая идти вперед, почти не сбавляя хода, поскольку за мной шли, и не было большой надежды на то, что намерения их в отношении меня окажутся очень уж благодушными. Легкий холодок гулял по спине и заставлял меня быстрее двигаться вперед. Но желание разглядеть поближе то, что переправляется на конвейере было непреодолимым. Я приблизился настолько, что смог удовлетворить свое весьма неуместное в данной ситуации любопытство и так, что дальше предпочел двигаться уже не глядя по сторонам. На ленте конвейера навстречу мне плыли части человеческих тел, причем освежеванных и нещадно препарированных. Я хорошо разглядел распротрошенную грудную клетку и следующую за ней голову с открыти глазами, которая лежала на боку и спокойно смотрела, как казалось, прямо на меня. Вот тут-то я и отвел взгляд. Я пошел быстрее, глядя себе под ноги, и только косвенным взглядом, боковым зрением контролировал происходящее вокруг. Справа тоже двигалась лента конвейера и тоже перемещала по цеху какие то объекты, но я не мог их разглядеть, хотя улавливалось, что многие из них гораздо больше человеческого тела. Туши животных? Но я уже был готов оставить эту тайну неразгаданной, и единственное, что меня интересовало, это возможность своего собственного спасения.
Впереди что-то стрекотало, стучало и лязгало, работал какой-то большой станок, который громадной тенью возвышался на моем пути. Станок не был похож на современный, а представлял собою скорее несусветную пародию на архаичность в механике. Это был сложный и примитивный механизм, напоминающий часовой, но вскрытый, как под скальпелем. Разного рода приводы, шестеренные передачи, рычаги, прочая начинка препарированной полости механизма – жила своей жизнью: двигалась, лязгала и скрежетала. Справа и слева стояли два больших колеса, пока неподвижные, но вот вот готовые двинуться и придать работе всего нелепого механизма осмысленный вектор. На высоте около двух метров от пола была полочка, на которой было установлено нечто, напоминающее электрический стул. Кто то отключил двигатель и безобразный, как внутренности гигандского паука механизм замер. Двое санитаров (если это санитары) усаживали на этот стул тело человека. Оно плохо поддавалось их действиям, совершая странные неуклюжие выверты то ногой, то рукой. Лицо неподвижно и бессмысленно смотрело на меня. Я понял, что это труп. Наконец его усадили и закрепили в вертикальном положении, привинтив запястья разведенных в стороны рук к неподвижной части механизма. Что-то присоединяли за его спиной, прилаживали. Наконец, спрыгнули вниз, закурили и скрылись за станком, который напоминал теперь некий дикий трон, в безумии своего величия превышающий любое больное воображение зашедших далеко средневековых и, вообще. любых прочих маньяков инквизиторов. Фигура, восседающая на адском троне, вообще не оставляла воображению никаких укромных уголков для успокоения. Труп, приоткрыв немного черную щель рта, смотрел упорно на меня раскрытыми глазами и пронзал душу навек своей бессмысленностью и сосредоточенностью.
Я не мог и пошевелиться, тело наливалось холодом, тоже, будто коченело, а воля слабела почти до немощи парализованного. Но там, с другой стороны станка врубили мотор и с равномерным омерзительным гудением большие колеса медленно стали вращаться. Восседающий в кресле затрепетал, весь затрясся как на вибропанели.
Я не помнил, что такое вибропанель, но это слово закрутилось почему-то у меня в голове. «Как на вибропанели». А еще в голове словно разряд электрический дернул, засветилась вывеска: «Жилы тянут».
Как загипнотизированному мне непреодолимо хотелось смотреть на все это, погружаясь в леденящий холод и взгляда не отрывать, но какая-то теплая волна из души вдруг меня отогрела в один миг. Внутренний, неслышный приказ заставил двинуться на ватных ногах в сторону работающей как прежде конвейерной линии, той что справа. Оказавшить совсем близко я увидел, что предметы, которые перемещаются на ленте этого конвейера более чем странные. Это были вовсе даже и не компоненты этого загробного производства а … – я наверное уже начал сходить с ума – музыкальные инструменты. В основном это были барабаны разных размеров и конфигураций, а так же бубны и цимбалы. Изготовлены они были, как видно, грубым кустарным способом. Рабочая часть обтянута грубой кожей, явно свежевыделанной. Двигались на довольно большом расстоянии одно от другого. Видно фабрика не торопилась завалить своей эксклюзивной продукцией прилавки музыкальных магазинов. Здесь видно качеству отдавали предпочтение, а не количеству.
Лента медленно двигалась. Вот какой-то большой предмет приблизился ко мне. С удивлением я распознал в нем нечто похожее на контрабас. Сделан он был грубо. Весь обшит кусками кожи. Много мелких элементов, колки, например, удерживающие струны, лады на грифе, изготовлены из натуральной, по видимому кости. И кость эта была вряд ли слоновая…
Я оперся руками о край движущейся ленты и лег на нее рядом с контрабасом. Но почему-то оказался на другой его стороне, ближе к противоположному краю ленты. Из памяти стерлись те фрагменты реальности, в которых я перемещался через контрабас. Или опползал его вокруг, чего не помню. Видно я находился на грани потери сознания. Да и чертовы транквилизаторы, наверное, все еще давали о себе знать. Я помнил только, что невероятно хотелось поскорей оказаться за контрабасом, залечь за него, как за надежное укрепление в бою, и чтобы никто меня не смог увидеть. И инстинктивный порыв бросил мое тело, как призрачную тень туда, куда необходимо было, затмив способность разума протоколировать все мелкие фазы действия. Я мышью затаился, остановив дыхание и самое сердце, пока лента конвеера, по пути повернув два раза на девяносто градусов, не унесла меня в глубь адского цеха, в совсем почти неосвещенную его часть. И когда я оказался совсем близко к кирпичной неоштукатуренной стене, то обнаружил, что лента уходит в черный квадратный проем куда-то в неизвестное пространство. Но видимо, я истратил весь свой волевой потенциал на данный момент, поэтому впал в ступор и не мог принять никакого решения. Когда до черного проема в стене оставалось не меньше метра, и я уже смирился с неизбежностью быть поглощенным надвигающимся зевом тьмы и неизвестности, чьи-то сильные руки стащили меня на бетонный пол. Я открыл глаза и увидел перед собой знакомое уже лицо, с приложенным к губам указательным пальцем.
Все пять чувств у меня будто отключились, ничего ни ощущать, ни воспроизводить никаких сигналов в качестве обратной связи я был не в состоянии, и только наблюдатель, который есть в каждом человеке и никогда не дремлет, отстраненно воспринимал происходящее.
На лице моего спасителя была аккуратная невеликая борода с небольшой сединой и, пронзительно успокаивающие, серые глаза. Это был тот самый священник, который занимался вязанием в «зале ожидания». Я не мог рассуждать о том, как он здесь мог оказаться, и именно в этот важный момент, я просто воспринимал все как должное. Священник слегка тряхнул меня, взяв за плечи и движением головы приказал следовать за ним.
Пригнувшись, мы пошли вдоль стены, и скоро попали на лестницу, уводящую вниз. Лестница была в один проем, и упиралась в квадратную площадку со стороной не более трех метров. Здесь находилась дверь, тоже обшитая лоскутами кожи. Священник толкнул эту дверь ногой, и мы проникли в узкий коридор, который вообще не освещался, и двинулись по нему.
Он – впереди, а я – за ним, стараясь не отставать ни на шаг.
глава 9
Коридор вел себя, как ход лабиринта: поворачивал бессчетное количество раз. Священник не зажигал ни фонаря, ни лучины какой, ни факела. Он будто видел в темноте, – настолько уверенно шел вперед. Мои глаза постепенно привыкали к темноте, и я начал различать темное пятно фигуры священника. Через некоторое время и стены стали просматриваться. Это был узкий коридорчик с низким потолком. По обеим сторонам прямо под потолком тянулись трубы, с которых во многих местах свисали клочья обмотки, и иногда казалось, что и шевелился кто-то, может быть крысы.
Впереди нас появились тени наших фигур. Они менялись в рамерах и трепетали, словно от порывов ветра. Кто-то преследовал нас, и нацелил нам в спины лучи фонарей. Мы прибавили, и почти перешли на бег. Справа попалась дверь, и священник открыл ее. Взял меня твердою рукою за шкирку, как напаскудившего кота и потянул к двери. Вытолккнул за дверь и сказал совершенно бесстрастным голосом: «Не жди меня. Отваливай». А сам опять нырнул в черноту обратно и резко захлопнул за собой дверь. Его действия и звучание голоса гипнотизировали, но я продолжал уносить ноги, для чего кинулся на лестницу, которая кстати оказалась здесь, да еще была освещена тусклым светом допотопных ламп, покрытых сначала белыми матовыми колпаками, а поверх и черными кружевами неизбежной паутины.
Преодолев несколько пролетов лестницы и проникнув в первую попавшуюся приоткрытую дверь, я оказался в коридоре клиники, тоже тускло, но все же освещенном. Направился вперед, минуя двери кабинетов или больничных палат. А может быть и камер пыток, и дьявольских лабораторий, во всяком случае, я шел мимо них с внутренней мольбой: только бы не одна из них не открылась. Этого не происходило и я опять привычно блуждал по лабиринту, надеясь, что ситуация как-то сама собой изменится в лучшую сторону.
Я думал о проводнике-священнике. «Кто он такой», – спрашивал я себя, но я не имел душевных ресурсов, чтобы ломать голову над ответом. Кто надо. Тем более, я не знал, ответа на самый фундаментальный вопрос: кто я сам? Моя система памяти пришла в негодность. Материнская плата полетела. Только, непонятно зачем, остались файлы, в которых надежно покоилась информация об «испытательных полетах».
Я стал с удовольствием вспоминать свою волшебную капсулу. Она могла испариться в самый неподходящий момент и оставить меня в свободном парении, созерцающим неповторимые ландшафты сномира, а затем вновь материализоваться в каком нибудь измененном виде. Но самым притягательным был каскад ощущений свободного парения, в котором можно было довольно искусно лавировать в воздушных потоках, менять высоту полета, а так же набирать скорость до тех пределов, которые сам способен перенести. Сладостное чувство настоящей свободы! Вот бы здесь поиметь тех возможностей хотя бы малую толику. Хорошо, что я помню об этих снах. Иначе вряд ли я бы смог сохранять остатки разума и самообладания в почти безысходном положении, в которое некая неумолимая сила вколотила меня одним жестоким ударом, каким железный молот вбивает дюбель в бетонную стену по самую шляпку.
Я шел по темному коридору почти уже бесцельно, лишь бы куда-то двигаться. Из самой глубины темного чрева этого адского строения доносились звуки, напоминающие музыкальные. Как будто настраивался симфонический оркестр. Кто-то пробовал на звук смычком струны. Звуки были похожи на виолончельные, хотя возможно, что это был контрабас. Скрипучие и заунывные были эти звуки, но все же узнаваемые. Также доносились отдельные гулкие раскаты барабанных палок с мягкими набалдажниками-глушителями, слегка прогуливающимися по звучным кожаным поверхностям барабанов разных диаметров. Мурашки пробежали у меня по спине: все эти звуки и пугали и манили одновременно. Оказывается и такая жизнь здесь существует? Скорее всего кто-то проверяет на качество звучания те дикие инструменты, которые я видел в подвале. В одних заведениях психи тапочки шьют, а здесь, видимо, далеко пошли по пути побочной коммерции: целую производственную линию наладили, подключив все ресурсы человеческие, по безотходному методу, как на живодерне. Очень весело.
Я шел навстречу звукам. Пространство, будто повинуясь моему сильному желанию его преодолеть, вдруг сформировалось таким удобным образом, что долго по коридорам мне блуждать не пришлось. Передо мной возник вход в некий холл, который был проходным, более менее освещен, и вел он как раз туда, где звучала музыка, вернее звучал настраивающийся оркестр. Звуки были все отчетливее и громче. Осталось миновать только этот холл, вход в который даже никакая дверь не преграждала, только вывеска висела, грубо, сугубо одной лишь черной краской начертанная, видимо, плакатными перьями. Надпись гласила не более не менее как: «Галерея искусств».
Ну что ж, выходит, что экскурсия продолжается.
Я пошел через эту галерею навстречу звукам неведомового оркестра. На стенах «галереи искуств» висели картины от которых сразу же обдало волной странной, непривычной энергии, не просто мрачной, но совсем какой-то чуждой, самозатворенной, будто бы авторы и не помышляли найти понимание у зрителя, более того, последний повидимому и не предполагался. Сгустки душевной муки и затхлой безысходности, превращенные в больные, искаженные образы, с использованием немыслимых сочетаний цвета и линиий, так и вопиели со стен! Даже пейзажи не оставляли уголка для живой, откликающейся души. Душа здесь уже и не молила о выходе, об исходе и спасении. Она молча, безлико и безответно блуждала в лабиринте навязчивых и непроницаемых иллюзий, в свинцовом тумане погибели и безотрадности. Порой и безобразное пленяет, но эти картины вызывали только содрогание душевное, и отвращение из за полнейшего отсутствия каких бы-то ни было точек соприкосновения с неизлечимо больным духом породившим сие.
Я смотрел на картины. Я их разглядывал, хотя и старался глубоко в них не погружаться.
Справа на стене меня поразил пейзаж, выполненный акварелью, небольшого размера, очень простой по композиции. Покосившийся деревянный ветхий домишко сиротливо притулился в ненастную погоду под деревом, почерневшим от дождей, согбенном, скрюченным и уже полностью лишенном листьев. На ветке сидела ворона, сжавшаяся в комок, ощетинившаяся перьями в ответ на порывы промозглого ветра и уколы ледяного ноябрьского дождя, но не куда не спешащая улететь, будто мир закончился и приюта не сыскать нигде: ни в небе не на земле.
Домишко – совсем потерянный, и тяжело придавленный безжалостным космосом. Может быть тело его обитателя еще лежало на старом диване под пледом, но душа уже испытала свободу полета, и поднялась над домишком, над деревом и над вороной. Душа кружила вокруг и даже пролетала прямо над трубой, сковозь дым, разрываемый в клочки злым ветром, но не чуяла ни гари, ни едкого дыма, ни ранящего дождя. Душа не знала, возвращаться ли ей под плед к брошенному телу, либо продолжить свое существование в блужданиях и приключениях свободного полета…
Эта картина отличалась от других, и позволила мне на время согласиться с возможностью существования остальных, и даже бегло осмотреть их. Заполнилась еще картина, вернее черно-белый рисунок, на котором изображены были люди, разгуливающие парами; головы у них были отрезаны и лежали на детских колясках, которые эти пары чинно катили перед собой. Это было напрочь больное, но все же остроумие. Так я тогда подумал и сам ужаснулся своим мыслям. Я сплюнул и выругал себя за то, что стал разглядывать этот рисунок. Дальше шли все сплошь картины подобного содержания.
Одна картина сильно привлекла мое внимание и я остановился перед ней, чтобы повнимательнее ее рассмотреть. Что-то знакомое для меня было в этом изображении. Я не сразу понял, что неизвестный и несомненно душевнобольной художник запечатлел какую-то древнюю пытку. Человек был спиной прикреплен к какому то странному станку. Два больших колеса справа и слева сообщали, повидимому, импульс всему механизму. Колеса крутили два человека облаченных в странные халаты, опоясаные широкими ремнями, бритые наголо, и с лицами, выражение которых трудно было прочитать; непонятные, неизвестные для нормального человека чувства и мысли были отражены на них. Я разглядывал подробности этой картины, которые были приведены художником с маниакальной дотошностью, и уже не сомневался, что передо мной изображение древней пытки, заключающейся в вытягивании жил.
Именно этот процесс я наблюдал в помещении морга. Я не мог оторвать взгляд от картины и чувствовал, что тело мое замерло и наливается тяжестью окаменения. В то же самое время, боковым зрением, я видел, что несколько впереди по этой же стене, к одной из картин подошол какой-то человек, остановился и молча стал разглядывать картину. И продолжалось так минуты две, пока я не пришел в себя. Я стал рассматривать этого человека. Это был тот монах, или кто он там на самом деле. Волосы его были заплетены в косу, достающую до пояса. Но одет он был не в рясу, а скорее в черный халат, напоминающий в кимоно. Руки он сложил на груди. Я мог наконец разглядеть, что он был высок, поболее метра восмидесяти, и сложен ладно: крепко и атлетически. От всей его фигуры, при всем при этом, веяло невероятным спокойствием; я даже стал слышать биение своего сердца, настолько неуравновешенным было мое состояние, если соизмерять по контрасту.
Я направился к нему, ибо он тянул к себе как магнит. Он даже не посмотрел на меня, как бы приглашая вместе с ним смотреть на картину. Я стал рядом с ним. Картина была сравнительно большого размера, примерно восемьдесят сантиметров в высоту и метр в длину. Это был ландшафт в духе голландского возрождения. В центре композиции возвышалась башня, напоминающая башни с картин Брейгеля старшего. Полуразрушенную вавилонскую башню.
Башня стояла на холме, возвышаясь над городом, на этом холме и у подножия его расположенном, а далее простирался океан. Над входом в башню была надпись: «Аттракцион Сикки». Я вспомнил надпись на корешке книги, которую я видел в реамационной. Монах посмотрел на меня взглядом, в котором едва замечалась усмешка и вопрос: ты все понял? Кивком головы он дал понять, что пора двигаться дальше в направлении звучащего оркестра. Заунывный скрежет настраиваемых инструментов сопровождал просмотр безумных картин и точно соответствовал их содержанию.
Монах направился к выходу из «галереи искусств», до которого оставалось уже не более пяти метров. Я последовал за ним. Оставшиеся картины уже не привлекали внимания, как будто целью нашей экскурсии было единственно ознакомление с изображением «Аттракциона Сикки».
Монах приоткрыл дверь, слегка отстранившись, словно намереваясь позволить свободно проявиться всему тайному, что дверь могла скрывать. Но за дверью никого не было, лишь плотный сгусток звуков ворвался в холл. Я вспомнил, как в детстве в первый раз пришел в оперный театр, и почувствовал приятный озноб от звуков настраивающегося оркестра.
Это был хороший знак – память вновь подавала сигналы. Я уже знал о себе кое-что. Знал, что в прошлой жизни я разбирался в музыкальных инструментах, и был прекрасно осведомлен о творчестве художника Питера Брейгеля старшего.
глава 10
Монах жестом призвал меня следовать за ним, и мы вошли на балкон концертного зала. На балконе никого не было. Мы расположились на стульях с потертой красной обивкой, и получили хороший обзор зала. Пара софитов сверху освещали только авансцену, зал был погружен в полумрак. Мы были в контражуре и снизу невидимы. Однако людей в первых трех рядах видно было достаточно хорошо. Все внимание сразу было притянуто странным оркестром на сцене. Хотя, судя по количественному составу – всего двенадцать человек, – это был скорее ансамбль. Однако, по интенсивности звучания оркестру он не уступал.
Музыканты ансамбля сидели на стульях, расположенных в одну линию, согнутую полукругом. Это были примечательного вида господа. Фраков на них не было, а по серым стандартным халатам определялась их принадлежность к контингенту пациентов (или же заключенных) данного учреждения. На мне был точно такой же халат. Даже не вглядываясь в их лица можно было уловить общую для всех ауру погруженности в процесс, степень которой намного превосходила в подобных случаях необходимую. Каждый из них производил впечатление как минимум безнадежного аутиста, и присутствие его тела здесь и сейчас на этой сцене выглядело до безобразия нелепым, механистичным и лишенным всяческих признаков присутствия души, поскольку душа слишком далеко в своих спасительных мирах находилась и с окружающими обстоятельствами ни в какое соприкосновение не входила. Умалишенные и бездушные биороботы двигались дико, неуклюже, иногда порывисто и судорожно, как восставшие из ада зомби и те мертвые мученики, распятые на адском агрегате по вытягиванию жил. Но в данном случае жилы вытягивались из тех, кто слушал ту потустороннюю какафонию, которая возникала в результате игры этого зомби ансамбля. Такое не под силу воспроизвести ни одному фри джаз бэнду (вот что еще я оказывается знаю!) Как бы он ни старался. И это было только начало. Всего лишь настройка. Вскоре ансамбль утих, приготовляясь видимо начать уже самое произведение. Один музыкант, отняв смычок от струн своей уродливой виолончели, вдруг бросил прямо на меня, сверкнувший в лучах софитов, свой невыносимый взгляд безумной лошади, и широко улыбнулся лошадиной же улыбкой. Возвращались в реальность и другие участники ансамбля. Некоторые из них тоже заулыбались в отталкивающей наивности безумия. Это были разные существа, оприходованные грубой печатью диффективной индивидуальности, хотя и в чем-то неуловимо схожие, как дауны. (Тут в моей памяти на мгновение вспыхнул и тихо погас образ одного действительно дауна, играющего на маракасах в оркестре на летней танцплощадке. Его наивные услуги использовались, видимо, для утехи публики, и в порыве преодолеть скуку однообразия программы, исполняемой годами и почти без изменений. И я решительно не знаю, какую пользу можно извлечь из этой отрыжки покалеченной памяти, но пока, так в скобках, и оставлю впрок, на всякий случай. Вдруг потом придется составлять из осколков целостную картину прошлого.)
Мое внимание привлекали так же те, кто находился в первых трех рядах. Все места здесь были заняты. Во всем зале большинство мест было свободно. Зрители присутствовали в небольшом количестве и были неравномерно рассыпаны по всему залу. Зал почти не освещался, и разглядеть всех присутствующих на странном концерте было сложно. Зато первые ряды, хоть и косвенно, но все же освещались. Постепенно мое зрение адаптировалось, и я мог изучать находящихся там людей. Они не были похожи на пациентов клиники. Светский лоск этих любителей музыки напоминал свечение ауры благополучия посетителей вип ложи престижного столичного театра. Когда на сцене все затихло, в первых рядах началось оживление, бурное обсуждение, смех. Точно в разгаре бомонд фуршета. Как будто в подтверждение этого, перед сценой появились два официанта во фраках и со столиками на колесиках, плотно уставленных, по всей видимости, изысканными явствами. Я живо представил изящные бутерброды с икрой, бутерброды с разными видами ценной рыбы и прочие варианты. Кроме бутербродов были фрукты, а так же бокалы для вина и коньяка. Официанты стали раскладывать все это на маленькие подносы и преподносить зрителям. Это был перекус перед основным действием. Общение становилось все раскованнее и слышались уже тут и там небольшие разрывы смеха. Некоторые встали со своих мест и выходили ближе к столикам чтобы сподручнее было общаться, пить вино и вкушать явств. Вскоре подкатил еще один столик с двумя бочонками вина, управляемым третьим официантом во фраке. К нему сразу подошли трое мужчин уже с опустошенными бокалами и оживленно беседующие. Официант стал наполнять их бокалы и повернулся ко мне лицом, удачно попав в отсвет софита, и я увидел счастливую и подобострастную улыбку идиота. Несомненно это был отдресированный пациент клиники. Я пригляделся к двум другим. Фраки на них сидели нелепо и были похожи на театральные костюмы. Конечно это был маскарад. И массовка в зале была из психов. Это было понятно. Но вот гости, по всей видимости, были настоящие. Один из гостей, проявляющий особенную активнось, поднялся на сцену с бокалом в руках, продолжая время от времени отхлебывать вино. Он был лысоват, ростом невысок, но в стильном костюме. Ворот ослепительной белой сорочки был растегнут, а галстук сильно приспущен. Он подошел к одной из микрофонных стоек, которых было выставлено на сцене целых четыре – по одной на тройку музыкантов-давясь от сдерживаемого смеха. В зале многие хохотали и что-то выкрикивали подбадривающее. Кто-то даже присвистнул. Нестройно заопладировали.
– Я не мог не подняться на эту священную сцену! – начал самозванный оратор. На слово «священную» зал отреагировал аплодисментами и ленивым свистом, – у нас сегодня, господа, день особый, сегодня юбилией не только нашего величайшего проекта, но юбилей и у нашего радушного хозяина, который предоставил это достопочтенное учреждение (в зале опять гогот и аплодисменты) для осуществление нашей исторической миссии, которая заключается в окончательном переформатировании…
– Оооо! – застонал от удовольствия зал и громко заоплодировал.
– Переформатировании, – продолжал оратор, – всего доселе спонтанного и вредоносного процесса … – тут он стал подбирать словцо– музицирования! Музицирования! (в зале глумливо хохотали) Эту часть рефлекторного существования гомосапиенса мы, наконец приводим в полное соответствие с имеющимися священными инструкциями!
На этих словах в зале сначала засвистели, а затем кто-то из присутствующих встал и начал довольно сильным голосом петь какой-то гимн, при этом призывно и по дирижерски размахивая руками. Многие подхватили гимн и тоже встали. Странный был этот гимн. Я не мог определить, даже приблизительно, на каком языке он исполнялся. Однако оратор на сцене замахал руками, призывая остановить исполнение гимна. Не время. А я видел в нем тяготение контролировать все происходящее до мелочей. Он хотел, чтобы праздник происходил строго по его алгоритму. Или повинуясь его импровизации.
– Я хочу призвать на эту сцену – он так и сказал «призвать», а не вызвать – нашего юбиляра, нашего радушного хозяина, который столько полезного совершил для нашего поистине исторического проекта! – продолжал верещать в микрофон оратор и, по всей видимости, главный распорядитель на этом мероприятии. Я теперь с резкой отчетливостью воспринимал тембр его голоса как мерзко скрипучий. Иэтим мерзким голосом распорядитель некоторое время вещал о заслугах хозяина дома сего (Главный врач клиники? Спонсор?). Во время своей речи распорядитель доглотал вино и небрежно-агрессивно швырнул пустой бокал в одного из официантов. Тот попытался поймать этот бокал, и почти получилось, но все же выронил, раза три пытаясь перехватить его на лету во время дальнейшего падения. Один раз даже подыграл себе коленкой. Но бокал все же ударился о деревянный пол, хотя и не разбился, а покатился. Официант кинулся за ним, чтобы схватить его до того момента, когда он прекратит вращательное движение, и какое-либо вообще. Главное схватить его в руки хотя бы и в самой последней фазе процесса: от хозяина к рабу. Но распорядитель и не покосился в сторону этого танца подобострастия. Он уже встречал у микрофона высокого и располневшего человека с седой головой, но так и расточающего вокруг светящуюся ауру здоровья и благополучия. Тот стал что-то говорить. Я не вслушивался в его речь. Меня занимали другие детали происходящего. Я посмотрел на моего спутника. Мой священник, который все больше и больше напоминал мне сэнсея восточных единоборств, с выражением хладнокровия и безучастия смотрел в зал. Там на сцену поднимались еще какие-то люди, и говорили дежурные речи. Чаще всего звучала фраза «священные инструкции». Если резюмировать услышанное, а еще лучше сказать, «понятое», ибо многое в прозвучавших со сцены речах было непонятно, то получится примерно следующее.
«Человечество прошло долгий путь по пути прогресса и просвещения. За это время удалось обуздать дикую и опасную стихию, которая всегда угрожала нарушить Большой Священный План своей непредсказуемостью. Теперь музыка наконец станет такой, что при ее помощи можно будет легко добиться тех великих целей, которые прописаны в Священной Инструкции. И это есть тот самый величайший исторический момент, который собравшимся здесь посчастливилось отметить и отпраздновать»
Тем временем распорядитель вел дело к кульминации праздника. Со сцены, наконец, спровадил всех выступающих. Сам продолжал у микрофона, с ловкостью словесного фокусника в цирке сарказма, импровизировать насчет величия данного момента, а жестами плел неизбежную нить происходящего торжества. Повинуясь этим жестам (которые, повторяю, не имели отношения к его речи, а существовали как бы сами по себе для других целей), на сцену вышли санитары в серых халатах. Они тоже выкатили тележку. Но это была совсем другая тележка. Когда они ее выкатывали, то «официанты» внизу не отрываясь сопровождали их взглядами, забыв о своих прямых обязанностях. Один из них даже вино стал лить мимо бокала прямо на невероятно шикарное платье одной присутствующей здесь дамы. Та грубо взвизгнула и задала, так вот, запросто. затрещину нерадивому идиоту. Тот повинно съежился, стал исправлять свой промах. Но через пару секунд его голову словно магнитом притянуло к той тележке, что выкатывали на сцену. Санитары, похожие на боевиков, отдыхающих в санатории, двигались без суеты. Настолько без суеты, настолько вальяжно, что сомневаться в опасности их намерений, в явной садистической окраске этих намерений, даже таким сторонним наблюдателям как я не приходилось сомневаться, не то что тем подопытным двенадцати музыкантам, которые так истово трепетали всеми фибрами спинного мозга, что весь этот подсознательный ужас ожидания какого-то адского глумления висел в воздухе как дым после взрыва в метро. Один из санитаров деловито наполнял шприц, воцарившийся у него в руках, как колода карт у фокусника. Он еще и сбрызнул избыток какой то зеленой жидкости со шприца и так картинно, будто исполняя мизансцену театра абсурда. Два санитара тем временем взяли за руки, вернее за предплечья одного из музыкантов, который сидел с правого края со своей уродливой скрипкой в руках. Тот только слегка встрепенулся, но тут же покорно затих. Санитар со шприцем и тележкой как раз стоял напротив него. Он задрал ему рукав на халате и сделал укол. Невозмутимо покатил тележку к следующему музыканту. А уколотый в это время немного повыгибался, и почти что агонически потрясся; после чего санитары его отпустили, и взялись за следующего. Так они ставили уколы всем музыкантам, передвигаясь справа налево. Те кто приняли зелье, после небольшой тряски и ломки, впадали в состояние прострации. Мне было не разглядеть, то ли это эйфория, то ли ступор. Как будто каждого из них переводили в другую реальность, и только тела оставались здесь, но уже уродливо неуклюжие. Распорядитель призывно поднял руки вверх и слегка вперед. Это заставило присутствующих в зале притихнуть.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































