Текст книги "Другая Музыка"
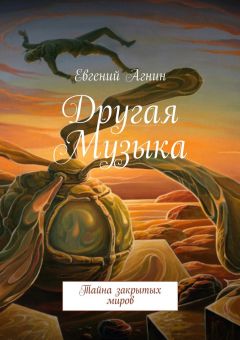
Автор книги: Евгений Агнин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Господа… Господа! – начал он, – с вашего позволения, переходим к главной части нашего праздника. Как всегда после исполнения главного произведения дня, которым вы сможете насладиться прямо сейчас, мы выберем героя дня и героя всего сезона! – на этих словах по залу заколыхалась легкая волна воодушевления, но распорядитель продолжал, повысив интенсивность голоса, – мы как всегда изберем сегодня Нового Моцарта, зал зашумел и волна какой то неведомой энергии прямо из зала захлестнула меня, – мы как всегда воздадим ему по заслугам и возведем Нового Моцарта на престол!
Последние слова распорядитель проорал каким-то уж очень мерзким голосом. Но похоже зал с нетерпением ждал этого заключительного объявления и вожделенно застонал. Атмосфера избранности и сладкой запретности была уже настолько густой, что я ее обостренно чувствовал каким-то скрытым органом. Волнение охватило все тело, которое к тому же быстро покрылось мурашками, будто попало под случайно накрывшую волну транса. Я чувствовал, что уже окаменел. Но присутствие рядом моего сэнсея-священника вернуло меня к жизни. Я почувствовал, что он смотрит на меня. Преодолев гипнотическую силу, приковывающую все внимание к происходящему на сцене, я повернулся к своему спутнику. Он смотрел на меня многозначным всзглядом. Он что-то хотел мне сказать этим взглядом, но я не понимал ничего, я поплыл.
Тем временем распорядитель продолжал вещать в микрофон.
– А сейчас я хочу пригласить на эту сцену дорогого всем нам человека, известного всем нам человека! Одним только своим присутствием на сцене он способен придать нашему событию величайший градус исторической значимости! В ы уже догадались, кто этот человек!
А зал уже аплодировал с присвистом. На сцену поднимался человек во фраке лет шестидесяти с поседевшими длинными волосами. Странное произошло дальше: я вдруг узнал этого человека. Это был дирижер симфонического оркестра. Очень известный и почтенный человек в обществе. Я очень хорошо знал, кто этот человек! Память моя вдруг заработала. Я вспомнил, что он еще и преподавал в нашей консерватории и слыл жестким консерватором. «Что он здесь-то делает?» – возник у меня уместный вопрос к самому себе. «И кто был я, как говорится, в прошлой жизни, что так хорошо осведомлен об этом человеке?»
– Давай, давай, не стесняйся, – подбадривал распорядитель дирижера, на которого санитары уже накинули стандартный серый халат, наверное для того, чтобы вновь прибывший участник действа ничем не отличался от остальных музыкантов. Дирижеру дали в руки какой-то уродливый маракас и усадили на стул вместе с остальными двенадцатью музыкантами и он стал тринадцатым. Зал одобрительно отреагировал аплодисментами, гоготом и свистом. Распорядитель вскинул руки вперед и в вверх, призывая к вниманию и тишине.
– Итак! Мы начинаем! После исполнения ожидаемого нами с нетерпением произведения, будет избран Новый Моцарт! Все! Тихо! Начали!
После этого своего заявления распорядитель быстро покинул сцену и присоеденился к зрителям в зале, прихватив бокал вина с одного из столиков с угощениями, которые официанты уже покатили прочь с места действия. Вскоре наступила тишина. Дирижер левой рукой сжимал маракас, а правую поднял вверх. выдержав паузу длительностью две три минуты, пока зал не замер в трансе нетерпеливого ожидания, и наконец, взмахнул рукой, дав знак ансамблю начать исполнение музыки. Но ансамбль не сразу начал. Музыканты молчали. Дирижер затряс своим маракасом. В полной тишине он зазвучал даже несколько таинственно. И вот прозвучал стон заскрипевшей вилоончели. Это музыкант, который сидел с правого края рядом с дирижером протянул смычком по струнам. Густой, надрывный и скрипящий звук наполнил зал. Звук этот тянулся долго, обрастая обертонами, распадаясь, по крайней мере, на два тона расстоянием с октаву, причем самая нижняя составляющая звучала утробно и поистине зловеще. Внимание всех присутствующих в зале экстремальных меломанов стало поглощаться этим звуком, как черной дырой. Я почувствовал, что мой спиной мозг входит в резонанс с адской виолончелью, и все тело потихоньку вибрирует, а волосы встают дыбом. В это время на левом фланге стал подавать признаки жизни музыкант, прячущийся за огромным контрабасом. Его лицо трудно было разглядеть, только нос с горбинкой отчетливо просматривался, а глаза были глубоко посажены и только иногда посверкивали в тени выдающихся надбровных дуг. Костлявые пальцы контрабасиста крепко сжимали смычок и дрожали, то-ли от волнения, то-ли в лихорадочном бреду уколотого сильной дозой. Контрабасом его инструмент можно было назвать лишь по ближащей ассоциации. Это был дикий и уродливый инструмент. только отдаленно напоминающий контрабас. Он был большой и располагался вертикально, то есть грифом вверх. Невозможно было разглядеть, сколько на нем было струн. Может быть четыре, может быть три. Но одна из них зазвучала таким загробным низким утробным мычанием подраненого и загнанного в западню зверя, столь же уродливого и неподдающегося описанию. Предыдущий звук, издаваемый «вилоончелью» с правого фланга еще не утих, а только максимально раскрылся, как бутон вонючего хищного болотного цветка, и оба эти звука слились в немыслимую какафонию агрессивных обертонов. Казалось, что будь в зале птицы, они попадали бы замертво. Забубнил барабан в руках одного из психов музыкантов. Звук его был настолько непривычен, что сначала было даже непонятно, что происходит. Что за вторжение глухого, низкоутробного и квакающего чафканья! То что выбивал музыкант из кожи (а я и думать себе не позволял, что это была за кожа!) барабана трудно было назвать ритмом. Скорее это был антиритм. С непостижимым умением барабанщику удавалось выдавать фразы, абсолютно без вссякого повторения каких-либо фрагментов, что хотя бы отдаленно могло напоминать ритм. Это были скорее какие то хаотичные порывы агонизирующего существа. Зазвучали и другие ударные инструменты, а за ними взвыл и весь ансамбль, и, казалось, что даже те, кто в аду, не могли этого не услышать и не почувствовать, что любая душевная мука может быть только прелюдией для еще более безнадежного погружения в бездну беспросветного мрака, и запредельных душевных стенаний.
Лица музыкантов были искажены ужасом. Они были словно во власти черного магического действа, которое закручивало, медленно и неотвратимо, остатки их и без того уже поврежденных душ в дьявольскую мясорубку. А спастись было уже нельзя, – бездна крепко держала за горло; смычки двигались, смыкаясь с жилами струн, и казалось, что не руки музыкантов приводят их в движенье, а некая сила, заключенная в потустороннем звуке, заставляет двигаться смычки, а вместе с ними и руки обреченных музыкантов, которые все глубже и глубже погружались в гипнотический транс ужаса и разрушения. Некоторых музыкантов уже трясло в конвульсиях, но они продолжали играть. Зал при этом стонал, как в долгой агонии. Один из музыкантов упал на пол, выронив бубен, скроеный из грубых лоскутов кожи, и тот покатился по сцене, прежде чем упасть и затрястись дрожью последнего танца. В зале некоторые уже громко стенали и кричали… у меня перед глазами поплыли черные и фиолетовые круги, а затем мое сознание внутренне озарилось вспышкой золотистого цвета. Затем все вспыхнуло белым ослепительным светом, и – темнота (а музыка не утихала). А затем я увидел равнину, задымленную черными дымами. Звуки ансамбля продолжались, крики вокруг продолжались. Мне казалось, что я медленно летел над полем на высоте около трех метров над землей. Передо мной возникла группа столбов, с распятыми на них людьми. Несчастные были почти все еще живы. Я пролетал мимо них плавно, не очень быстро, и мог хорошо разглядеть каждого из них. У некоторых были раскрыты глаза, и они смотрели сквозь меня. Кажется, что они меня не видели, потому что совсем никак не реагировали на мое присутствие, словно я был прозрачен и невидим, как бесплотный дух. Я пролетел совсем близко от одного распятого, и мог бы, при желании, дотянуться до него рукой. Его лицо было обезображено пытками. Одет в лохмотья странные какие то. Руки его были прибиты к перекладине, которая была прикреплена к столбу так, что образовывалась т-образная конструкция. Казалось, он не чувствовал боли, и кричал что-то гневное, судя по выражению лица. Похоже, в состоянии перевозбуждения, которое может провоцировать измененное сознание, посылал кому-то проклятья. Его голос утопал в звуках, издаваемых дикими инструментами, которые звучали, казалось еще громче, и в истошных криках множества людей. Вдали я увидел горящие факелы. Но кода присмотрелся, то разглядел, что это горят некоторые столбы с распятыми. Я летел сквозь черный дым, но запаха гари не чувствовал, наверное потому, что был в состоянии шока. Наконец, преодолев темную полосу дыма. я увидел перед собой картину невероятную. Передо мной был холм, на котором возвышался город, обнесенный высокими крепостными стенами. Город осаждался войском. Возвышались тут и там над головами воинов стенобитные орудия и деревянные башни с перекидными мостиками. Некоторые из них тоже горели вовсю, с громким треском. Все полчище вокруг выло и вопило. Земля была сплошь усеяна окровавленными трупами. Черный дым клубился над побоищем, пропуская время от времени ослепительные лучи ярила небесного (другое слово и не подворачивается!), которое кроваво красным оком взирало на происходящее сквозь темную смрадную пелену. Я летел над головами воинов, которые, судя по всему, в пылу нечеловеческого напряжения битвы, посходили все с ума. Они вопили и стенали, и ломились медленно, но неудержимо к стенам крепости, повергая ниц шествующих впереди, и нещадно затаптывая их. В их диких криках присутствовали восторг и ужас одновременно, и что-то еще, человеческим языком неописуемое. Задние напирали, а передние валились в ров, насаживаясь на острые колы. Здесь они орали от боли, и уцелевших рвали на куски своры бешенных собак, кишащих на дне рва.
Один только странный отряд действовал хладнокровно. На небольшом расстоянии от последнего ряда воинов, шедших на штурм, располагалась цепь странно одетых людей. На них были балахоны, сшитые из разноцветных лоскутов, и одеты сверху кожанные панцири. На головах несуразные колпаки. Каждый из них в руках держал окончание странного духового инструмента. Это были трубы длиной около десяти метров, в основании узкие, но расширяющиеся постепенно, и в самом жерле имеющие диаметр не менее пяти метров. Труба опиралась на несколько рогатин и самая большая ее часть на конце, была установлена на деревянную тележку. Расстояние между трубами было метров двадцать, достаточно большое, чтобы пропускать воинов, стремящихся пополнить ряды штурмующих. В обратном направлении между труб ползли раненые и изувеченные. Как невидимый дух я летел над трубами, когда в их звучании наступила пауза. Какой-то всадник скакал вдоль ряда труб, и что-то орал на непонятном языке. Поднявшись на небольшое возвышение, он подал сверкающим жезлом знак, и трубы заревели. Через мое тело прошла такая невероятная волна вибраций, что я упал на земь и стал хохотать неистовым хохотом, от которого сотрясалось все мое существо буквально до основ своих. Но меня никто не видел. Рядом со мной упали несколько воинов и забились словно в припадке эпилепсии. Частицы пепла кружили вокруг. Вдруг я услышал тупые удары о землю каких-то предметов. Я, продолжал корчиться от приступов смеха, испытывая при этом мучительную физическую боль, но смог тем не менее разглядеть, что падающими предметами были птицы: черное воронье, слетевшееся на кровь битвы. Трубы ревели все невыносимее, и я стал впадать в забытье тяжелейшего транса, и конвульсии уже не вызывали болевых ощущений. Все чувства уже начали остывать, но через пелену мутнеющего зрения я успел увидеть, как трещины побежали по земле. Трещины побежали и по стенам крепости. Что-то загрохотало. Пыль поднималась столбом, наполняясь визгами и криками защитников города. Стены рушились…
Кто-то крепко схватил меня за плечо и стал трясти. Я старался открыть глаза, но не мог разомкнуть веки. Наконец, после острой боли, которая обрушилась на мое лицо, глаза мои открылись, и я увидел перед собой лицо моего спутника монаха-сенсея. Это он привел меня в чувство, шлепнув пару раз по щекам. Я был рад возвратиться в реальность. Видение древнего города, разрушаемого звуком гигантских труб исчезло не сразу. Кровавая бойня так и стояла перед глазами. А вот звук труб утратил свою экспрессию, и хотя и оставался в воображении, но перестал пронизывать тело и вызывать тряску всех внутренностей. Звучание труб, вернее послезвучие, затихало. Я стал приходить в себя и вспомнил, где я нахожусь. Я вспомнил, что я присутствую на концерте безумного ансамбля в дикой клинике, похожей на чистилище и на гигантский лабиринт, все ходы которого ведут в ад. И, по прежнему, я не помнил, кто я.
На сцене все изменилось. Музыканты перестали играть. Они, словно мумии, застыли на своих местах, не выпуская инструменты из рук. Но двое из них вышли из строя. Один мирно лежал на сцене, не подавая признаков жизни, другой же бился в конвульсиях на деревянном полу сцены, о который ударял иногда головой, а санитары уже подбежали к нему трое, один за одним, и со знанием дела навалились на него. Крепкий и здоровенный санитар с черной аккуратной бородкой держал наготове шприц, который ему вскоре удалось опорожнить в тело поверженного служителя муз. Несчастного, но успокоенного, посадили на стул, где он и обмяк, сначала уронив голову на грудь, а затем сделав пару попыток поднять голову и контролировать действительность, что ему не удалось, и он так и остался выпотрошенной куклой с обвисшей головой сидеть на стуле, вытянув одну ногу вперед. Один из санитаров принялся прощупывать ему пульс, двое других, взявши каждый за одну ногу того, другого, вырубившегося музыканта, поволокли его прочь со сцены. Но на все это не обращал ни малейшего внимания дирижер во фраке, который, присоединившись к ансамблю, принимал участие в исполнении этого потустороннего произведения. Он вышел на авансцену и снискал признание зрителей, которые тоже постепенно приходили в себя и начиали оплодировать один за одним, пока аплодисменты не переросли в овацию с криками браво и разухабистым посвистом. Он чувствовал себя героем, как будто играл только он один, и, как говорится, без ансамбля. Впрочем, трудно было бы назвать игрой, музицированием то, что вытворяли безумные музыканты на сцене, включая и самого дирижера. Они, казалось, делали все, чтобы не образовалось ни одного гармоничного созвучия. И это им удалось. Хотя, конечно трудно избежать в спонтанном музицировании случайных гармонических интервалов, но то, что прозвучало со сцены, и чему я стал невольным свидетелем вместе с моим невозмутимым спутником, было самой немыслимой и зверской какофонией, какую только можно себе вообразить. А если учесть, что цивилизованное ухо приучено к звучанию инструментов определенного привычного набора, то степень шоковой реакции в данном случае еще усиливалась благодаря потусторонним и поразительным для нормального воображения звукам, издаваемым инструментами, созданными в подземелье этого адского лабиринта и из такого сырья, что кожа на слушателе встала бы дыбом от одного только перечисления ингридиентов. Что уж тут говорить о возможности как-то насладиться звучанием этих струн, этой кожи на барабанах. Казалось, что души замученных заперты в этих струнах, в этих ладовых косточках, и все вибрации их посмертных стенаний, не имея никакого другого исхода, превращались в звуковую волну, и встречались с вибрациями вашей души, взывая о невозможной помощи и отворению стен невидимого склепа. А через несколько мгновений и ваша душа уже стенала и выла словно в предсмертной тоске. А глухие, ухающие удары барабонов не создавали никакого ритма, а только напоминали конвульсивное хаотичное биение в крышку гроба погребенного заживо, и уже потерявшего рассудок от подземного сырого ужаса. Не смотря на все это, некоторые интервалы, хотя и зловещие, но все же гармоничные, возникали. И иногда кто-то из музыкантов, даже вопреки своей воле, начинал поддерживать эти интервалы, упиваться ими, и создавать внутри какофонии какое-то подобие нашей музыки, но от этого еще более ужасное и подавляющее. И когда такое происходило, а происходило это всегда, то самого увлекшегося из музыкантов, и начинающего играть уже какую-то конкретную музыкальную фразу, пусть короткую и зловещую, тем самым автоматически прекращая бороться за свою жизнь, объявляли «Новым Моцартом». Об этом я догадлся уже позже. А пока был зачарован происходящим, ибо ужасное имеет невероятное свойство зачаровывать, гипнотизировать, если конечно наблюдать за происходящим со стороны и с безопасного расстояния.
А на сцене уже хозяйничал распорядитель. Он был возбужден, потрясен, но скрывал это за развязностью стиля общения с аудиторией.
– Это было невероятно! – орал он в микрофон, – супер! Музыка перходит на следующую, высшую ступень своего развития! Вот оно, свободное творчество! Пришел конец эпохи произвола, так называемых гениев, этих шарлатанов и индивидуалистов, склонных к тоталитанному давлению на свободную, прогрессивную и продвинутую личность! Они хотят влиять на наше свободное восприятие! Они хотят навязывать нам свое настроение, свой взгляд на вещи! Не позволим! Мы создадим поистине свободную музыку для свободного человека! Мы уже создаем эту музыку! Но это не значит, что новая продвинутая прогрессивная музыка будет существовать одновременно со старой музыкой примитивных гармоний дореволюционных эпох. Мы перекроем кислород всем отжившим свое псевдогениям, пытающимся с наивным упорством навязывать нам свою убогую неповторимую индивидуальность! Мы отправим их в пыльные музеи навеки веков! Каждое поползновение создавать произведение в стиле тоталитарного музицирования будет выявлено, осмеяно и подвержено стерилизации! Все эти гении архаики и классического примитивизма найдут свое место в специально созданных ансамблях подобных нашему! – в этом месте речь распорядителя была прервана свирепым свистом, адрессованным, по видимому, зловредным тоталитарным гениям.
– Мы будем контролировать ситуацию полностью. И успехи в этом направлении весьма ощутимы. Какова музыка, таков и мир! Но мир должен быть таким, каким хотим его видеть мы! – здесь овации восторженные и тоже свист, – поэтому музыка будет такой, какой мы захотим ее слышать! Поэтому приступаем к торжественному моменту нашего праздника. Сейчас будет объявлен Новый Моцарт!
Присутствующие в зале зааплодировали, а распорядитель прервал свою речь для того, чтобы испить воды, которую ему подали в бутылке прямо на сцену, и смочить горло. Вместе с бутылкой воды ему подали черную шляпу с большими полями. Он держал ее в левой руке. Испив воды, он бесцеремонно отбросил бутылку в сторону, а со шляпой отправился в зал к первым рядам. Здесь ему стали в шляпу бросать бумажки, по видимому, с написанным именем музыканта, номинирующегося на звание Нового Моцарта. Собрав весь урожай бумажек, неутомимый распорядитель в три прыжка вновь оказался на сцене у микрофона.
– Сейчас я на ваших глазах сделаю подсчет!
Он принялся извлекать одну за одной бумажки. На каждой был написан номер музыканта из ансамбля. Распорядитель выкрикивал обозначенную цифру и бросал бумажку на пол. Когда процедура закончилась, он откинул в сторону и шляпу.
– И считать особо нет необходимости, – заявил он, – это номер шесть! Большинством голосов! На сцену! На сцену победителя!
В то время, когда распорядитель подсчитывал голоса, на сцену вновь вышел дирижер, а с ним еще два добровольца из зала. Они выбрали себе по ударному инструменту, и уселись на места выбывших из строя музыкантов. Из психов на своих местах остались два «виолончелиста». В таком составе ансамбль начал потихоньку «зудеть», хотя распорядитель еще не закончил свою речь, а когда он прокричал «На сцену!», ансамбль заверещал громче, словно грянул тушь в честь победителя. Под эти дикие звуки санитары выволокли на сцену, затаившегося было за кулисами, номер шестого. Его инструментом была безобразная – побольше альта – скрипка, и в этом концерте, утратив волевой контроль над собой, он начал играть какую-то заунывную мелодию из четырех нот, такую тягостную и душераздирающую, что способна издавать самоя эта душа, когда, засасоваемая в трясину чуждого нам потустороннего мира черноты и безысходности, утрачивает последнюю надежду, и только прощается навеки. А по правилам, как я догадался позже, достаточно было извлечения трех нот подряд, напоминающих мелодию, чтобы стать Новым Моцартом. А Номер Шесть много раз повторил явную мелодию из четырех. Это было похоже на бунт обреченного. Распорялитель продолжал что-то вопить в микрофон, но я его не слышал, поскольку все свое внимание перенес на номер шестого, посвящаемого в Новые Моцарты. Я вдруг увидел – словно просветление на меня нашло, – что его лицо вовсе не похоже на лицо сумасшедшего. Да, это было лицо обреченного на гибель человека, но отнюдь не потерявшего рассудок, а что самое потрясающее, не сломленного душевно. Может быть даже он сознательно пошел на бунт! Это внезапное открытие было для меня ошеломляющим.
Два здоровенных санитара держали номер шестого за руки. Но это была излишняя предосторожность. Бедняга не был опасен. Он даже над собой вряд ли исхитрился бы что-то сделать. О бегстве и думать было бессмысленно. Он стоял подавленный шоком. Маленький и худощавый человек. И совсем беззащитный. Только в глазах его что-то блеснуло, когда он поднял голову и обвел взглядом зрительный зал. Мне показалось, что и нас он увидел. И мне показалось, что на лице его на самый краткий миг вспыхнуло удивление. А удивление всегда таит в себе надежду, пусть самую невеликую. Может быть он бы еще раз вернулся ко мне своим взглядом, но тут распорядитель заслонил его от меня, выдвинувшись с микрофоном на авансцену.
– Новый Моцарт! – вопил он, – Новый Моцарт явился в наш грешный мир. Зал стонал от наслаждения, а распорядитель входил в экстаз, голос его хрипел и верещал.
– Мы воздадим, воздадим ему величайшие почести! Мы воздвигнем ему памятник из плоти, но не из крови! – распорядитель корчился как гад на раскаленной плите и выкрикивал какую-то совсем уж невооброзимую ересь и несусветицу, – мы будем посылать такие сигналы в полевой храм, которые укажут, что священный час настал! Это не сигналы бедствия! Это не сигналы СОС, спасите наши души! У нас нет души! У нас есть свобода и власть! Свобода властителей вещает нам о том, что час настал! Остановилась примитивная программа древних! Теперь мы будем творить! Мы будем царствовать! Мы будем это пространство… структурировать!
Слово «структурировать» распорядитель проверещал уже с пеной у рта, и павши на колени. Не смотря на абсурдность его речи, зал хорошо его понимал, и одобрительно реагировал чуть ли не на каждое слово. Зал был теперь как одно целое со своим лидером, у которого, казалось, начался припадок безумия. Но, похоже, и весь зал уже безумствовал. Некоторые зрители бились в конвульсиях в проходе между рядами. Кто-то хохотал истерическим смехом, содрогаясь при этом и корчась от боли. Кто-то, рыдая, обнимал своего соседа. Только санитары стояли молча и словно окаменев. В самый разгар речи распорядителя, задник на сцене, который тоже был серого цвета и не привлекал доселе внимания, вдруг начал подниматься и когда распорядитель пал на колени и продолжал верещать в такой мизансцене, полностью открыл то, что скрывал за собой. Подобный препарированой мумии гигандского чудовища на сцене возвышался тот самый станок, предназначенный для вытягивания жил, который я видел в подвале. Весь его механизм был обнажен, и видно было, что шестеренки крутятся, издавая тихий стук, похожий на стрекотание большой стрекозы-живоглота, упавшей на землю и повредившей крылья, той, что я видел как-то во время одного из испытательных полетов.
Это было в долине цветных водопадов, когда мой летательный аппарат-испытательная капсула сделал вынужденную посадку, потому что столкнулся с одним таким живоглотом. Это была большая стрекоза длиной почти три метра и с таким же размахом шести прозрачных крыльев. Моя капсула, снижаясь на малой скорости в долину цветных водопадов, попала прямо в гущу стаи живоглотов, которые, ошеломленные, резко воспарили вверх из камышей, закрывавших все подходы к цветным водопадам. Я выбрался из капсулы и увидел, что в одном месте, метра четыре от меня, камыши конвульсивно колышатся, и доносится противный треск и верещание. Я осторожно подобрался к этому месту и увидел как большой живоглот, гофрированное змеиное тело которого было бордового цвета, а сломанные крылья – бирюзового, верещал и крутился волчком, словно в агонии бессмысленно цапая своими огромными челюстями стебли камышей…
Однако верещал на самом деле распорядитель, верещали струны виоолончелей, а стрекотал механизм аппарата по вытягиванию жил. Нового Моцарта возвели на эшафот. Два палача-санитара усадили его на сиденье кресла, которое не выступало наружу, а как я сейчас сумел разглядеть, было вмонтировано в неглубокую нишу в центре агрегата на высоте около двух метров. Здесь располагалась полочка-выступ по всей ширине агрегата. Она по краям и слева и справа переходила в две металические лестницы, которые спускались вниз.
На этой приступочке и находились санитары. Моцарта усадили в кресло, когда оно опустилось вниз, благодаря хитроумному механизму. Я успел разглядеть, что спинка кресла не простая, а покрытая отверстиями для присоединения через них к основному механизму. Музыканта как-то прикрепили к креслу – этого я не разглядел – и кресло стало подниматься медленно вверх, пока не вошло в нишу. Палачи принялись присоединять адский механизм к телу приговоренного. Они копошились над ним и заслонили его лицо и фигуру так, что видны были только его ноги в старых красовках. Пару раз ноги в кроссовках поменяли свою позицию. Совсем немного, на пару сантиметров только, но было понятно, что манипуляции санитаров приносят большие неудобства, а то жертва так и оставалась бы без всяких движений, находясь в глубоком шоке от безграничного подавления. Наконец дело было сделано; санитары-палачи спустились по лесенкам слева и справа, и приговоренный остался один на эшафоте. Тут даже зал притих. Распорядитель взметнул руки к небу, словно обращаясь к каким-то высшим силам. Глаза его были закрыты, только желтые сухие губы что-то шептали. То-ли заклинания, то-ли молитву. Освещение на сцене было какое-то ядовитое, и распорядитель выглядел в нем как заблудший упырь из темных пространстыв бытия. Вот он опустил руки и достал из кармана носовой платок, чтобы обтереть лицо. Правую руку поднял вверх, чтобы дать команду о начале казни, а левой продолжая скрывать лицо.
Но тут произошло неожиданное. Мой монах встал с места и вдруг, будто камушек-блинчик по водной глади, изловчившись бросил что-то в сторону сцены. Я увидел, что нечто легкое, и плоское застрекотало, как стрекоза и полетело над головами зрителей. Сделав небольшую дугу, летающий объект исчез где-то рядом с фигурой распорядителя. Тот успел махнуть рукой, и вдруг, на мгновение, сначала весь содрогнулся, потом замер на несколько мгновений, пошатнулся, сделал два шага назад и стал опускаться на колени. В это время обнаженные шестеренки агрегата стали вращаться и весь корпус машины пыток завибрировал. Дирижер, который все еще оставался на сцене вместе с тремя музыкантами дал знак. и зазвучала музыка, уместная разве что только в самых темных и безысходных местах ада и здесь, на этой сцене. Зрители ничего не поняли, а восприняли все действия распорядителя просто как экстазом продиктованные, а потому вполне допустимые, а сами начали потихоньку подвывать всему на сцене творящемуся, и вскоре весь зал мерно гудел, как потревоженный улей. Распорядитель, меж тем, отнял руку с платком от побледневшего лица своего, и приложил его к плечу, которое видимо оказалось поврежденным в результате меткой атаки моего спутника – монаха. Подстреленный лидер секты моцартопоклонников (или наооборот моцартоненавистников) начал орать сначала почти беззвучно и хрипло, потом, войдя в голос, уже призывно, завывая, как пронзенный стрелой у водопоя шакал. Зрительный зал, все еще ничего не понимая, стал вторить своему вожаку, и тоже загудел погромче. И когда расплорядитель отнял окровавленый платок от раны и распростер его на общее рассмотрение, зал примолк. На платке явственно и ярко сияла кровь. А когда распорядитель пал уже на четвереньки и пополз прочь со сцены, зал снова загудел, но уже в другой интонации. Подстреленный лидер распростерся ничком на сцене. К нему уже подбежали санитары и стали приподнимать его и рану остматривать. Дрожащей рукой распорядитель указывал в нашу сторону и что-то прохрипел, наверное, нечто вроде: «Вон они! Я их вижу! Поймайте и убейте!»
Мое тело меня не слушалось, и я наблюдал за происходящим в состоянии полной отстраненности, чего нельзя было сказать о ниньзя-монахе, который ловко метнул в сторону сцены еще одну свою штуковину. Штуковина плавно прострекотала опять же немного по дуге, но жертву свою настигла. На этот раз один из санитаров весь предернулся когда летающий объект вонзился ему сзади в шею. Санитар был грузен и всем весом стал наваливаться на распорядителя. Второй санитар, одной рукой продолжая придерживать раненого лидера, другой – придерживать падающего и обмякающего коллегу. В результате все трое завалились. Зал застонал. Пыточный станок дребезжал, а музыканты продолжали увлеченно извлекать из своих мерзких инструментов душераздирающие звуки преисподней.
Через проход между рядами к нам уже бежали несколько санитаров.
– Уходим! – кратко скомандовал монах, тряхнув меня за плечо.
Это привело меня в нормальное состояние и я последовал за ним. А он напоследок еще запустил одну свою боевую летающую штуковину в сторону сцены, но я уже не увидел, куда она угодила, хотя, судя по реакции зала, и этот бросок монаха достиг цели.
Мы покинули балкон и оказались в плохо освещенном коридоре, который, как мне показалось, был совсем не похож на тот, по которому мы пришли сюда. Там ведь, казалось мне, сразу был вход в галерею искусств. Может быть мы проникли в какую-то другую дверь? В любом случае медлить было нельзя, поскольку Монах бежал по коридору, хотя и почти беззвучно ступая, словно хищник семейства кошачих, но довольно быстро. Я последовал за ним. Ноги мои почти не слушались, наверное затекли, да еще сказывались последствия шока. Ноги словно вовсе мне не принадлежали и я вынужден был управлять их движением с помощью каких-то невероятных волевых усилий. За спиной уже был слышен топот ног и крики: нас преследовали. Я, не смотря на все свои усилия, безнадежно отставал от монаха, и тот остановился и поджидал меня. Когда я поравнялся с ним, он пропустил меня вперед, а сам остался на месте как вкопанный, вероятно собираясь встретить врага.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































