Текст книги "Темное прошлое человека будущего"
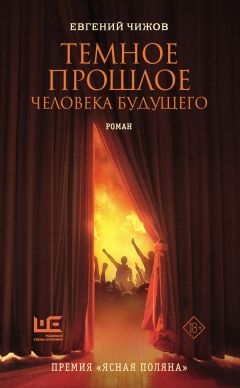
Автор книги: Евгений Чижов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Жалко, конечно, еще как. И жалко, и боязно, но нужно решаться, второго такого случая не подвернется, чтобы все сразу загнать. Иначе я буду здесь вечно без гроша сидеть, к этим хоромам прикованный. Так что, вполне возможно, сегодняшняя вечеринка будет для меня на этой квартире последней.
– Ты хоть знаешь, что он за человек, твой коллекционер?
Некрич не успел ответить, потому что раздался короткий неуверенный звонок в дверь, и он кинулся открывать. Катину подругу звали Жанна, она была высокой, сухой и, придя с явным намереньем охранять Катину честь от посягательств, смотрела вокруг с бдительным любопытством. Сняв пальто, девушки ходили из одной комнаты в другую, держась рядом, точно боясь растеряться и заблудиться.
– А это кто? – подозрительно спросила Жанна, показав на снимок на стене молодого человека в усах, глядящего сквозь пенсне с цепочкой большими и необыкновенно четкими по сравнению с тающим абрисом всего лица глазами.
– Это мой дед по материнской линии, – с готовностью принялся рассказывать Некрич, – помощник присяжного поверенного. Его называли самым красивым помощником самого красивого присяжного поверенного во всей Одессе. Большой был франт, ходил с цветком в петлице, вот здесь, лорнировал дам, – Некрич принял, скрестив ноги, небрежную позу, подкрутил усы и посмотрел на Катю сквозь кольцо из указательного и большого пальцев, – коих знал немерено. После революции стал первым помощником присяжного поверенного, перешедшим на сторону красных, принимал посильное участие в создании революционных трибуналов, за что и получил в тридцать восьмом году честно заслуженные десять лет без права переписки, надеюсь, вам не нужно объяснять, что это по тем временам означало. На досуге сочинял музыку, особенно ему удавались вальсы, некоторые сохранились, идемте, идемте, я вам покажу…
Он увлек девушек в комнату с пианино, присел за него, ударил по клавишам и заиграл, сильно раскачиваясь корпусом, запрокидывая голову (мне сразу показалось, что этот вальс я уже слышал).
– Танцуйте, ну что же вы не танцуете? И-раз-два-три, раз-два-три, раз-два…
Оборачиваясь к нам, так что его руки летали по клавишам вслепую, Некрич разрывался от желания раздвоиться, чтобы танцевать и играть одновременно. Наконец он не выдержал, сорвавшись с табурета, подхватил зажмурившуюся Катю, напевая мелодию вальса: «Пам, па-ра-па-пам, па-ра-па-рим, пампам…» – сделал несколько вальсирующих шагов и, едва не уронив, протанцевал с нею в большую комнату, где под темной люстрой был накрыт стол. Жестом фокусника Некрич снял крышку с судка и стал раскладывать по тарелкам печень, тушенную в сметане.
– М-м-м, – восхищенно промычала Катя, более чуткая к вкусовым, чем к музыкальным впечатлениям, – вкусно! Сами готовили?
– Конечно, сам. Я даже когда с женой жил, по большей части сам кулинарил, а теперь, когда она ушла, и подавно.
– Ушла? Бедный… – Катя так исполнилась сочувствия, что ненадолго даже перестала жевать и застыла со вздутой пищей щекой, глядя на Некрича своими большими красивыми глазами.
– Меня тетка научила, тетя Ксения, сестра матери, вон ее фотография. – Некрич показал на снимок на стене неподалеку от помощника присяжного поверенного. – Она была кулинаром от бога, но своей семьи не завела, хотя была интересной и пользовалась успехом – не красавица, но, что называется, пикантная, поэтому, чтобы талант даром не пропадал, готовила для нас. Тетка была в юности лемешисткой, ездила за Лемешевым из города в город, на всех концертах сидела в первом ряду, он пел, – Некрич расправил плечи и, отведя в сторону руку, пропел неожиданно хорошо поставленным тенором: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни…» – а она смотрела на него и обожала, ей больше ничего не нужно было, кроме как его обожать, другие мужчины ее не интересовали. Мать рассказывала, что она даже принимала участие в знаменитом избиении поклонницами жены Лемешева. Хотя человек она была тишайший, а какие делала запеканки, зразы, форшмак, муссы… Я был в нашей семье ее любимцем, и специально для меня она гоголь-моголь взбивала. После того как она умерла, я ни у кого больше таких вареников с черносливом не ел! В последние годы она сильно располнела, но все равно казалась мне все мое детство красивее всех, даже красивее матери. Она была похожа на вас, Катя! И всегда, когда готовила, тетка пела над плитой что-нибудь из лемешевского репертуара, вроде: «Мчится тройка почтова-ая…»
Катя смотрела на Некрича, как, вероятно, его тетка на Лемешева. Выпили водки, и на ее лице проступил неравномерный нежный румянец, а на лбу блестящий пот.
– Можно мне сесть в кресло? – спросила она, наевшись и осмелев.
В кожаном кресле Катя, поерзав, устроилась с ногами, поджав их под себя, и положила голову щекой на высокий подлокотник, так что сплюснутая щека прижалась к носу.
– А это ваша мама? – спросила продолжавшая изучать фотографии Жанна про женщину в широкополой панаме с бахромой, снятую на фоне гор.
– Да, это она в турпоходе в Крыму, там, если присмотреться, можно у нее за спиной «Ласточкино гнездо» разглядеть. Ее тоже уже нет. Никого больше нет – мамы, тетки Ксении, бабушки, – один я остался. В детстве, если на родителей обижался, я хотел обычно умереть им назло, но так, чтобы потом посмотреть, как они запоют, увидев, что я умер. Я взял у соседа книжку почитать про упражнения йогов, год, наверное, по ней тренировался и выучился так дыхание задерживать, что меня от мертвого было не отличить, когда я не дыша лежал. А еще я умею глаза закатывать, смотрите. – Некрич закрыл глаза, а когда открыл, взглядом мраморной статуи на нас глядели слепые белки без зрачков.
– И вот когда мне родители в очередной раз чем-то досадили, а они все время меня обижали, потому что всерьез не принимали, пообещают что-нибудь и забудут, в тот раз, кажется, в зоопарк со мной не пошли, предатели, – я лег, положил рядом ядовитый порошок от тараканов, затаил дыханье и стал ждать, кто меня первым найдет…
Белые глаза без зрачков смотрели на каждого из нас и ни на кого в отдельности. Было похоже, будто Некрича вдруг подменили на его говорящую мумию. Выдержать этот неживой взгляд было невозможно. Я взял чайную ложку, чтобы размешать сахар в чашке, но, встретившись глазами с Некричем, почувствовал невыносимое напряжение над переносицей между бровей и, сразу забыв, для чего у меня в руке ложка, опустил ее в бокал с вином. Катя зашевелилась в кресле и подтянула колени к подбородку, точно хотела спрятаться за своими ногами. Жанна некоторое время глядела на Некрича в упор, а затем, отвернувшись, неуверенно провела пальцем по бровям и дальше вниз по щеке, словно внезапно забыла очертания своего лица и старалась вспомнить их на ощупь…
– Когда мама вошла в комнату, она порошка от тараканов сначала не разглядела и подумала, наверное, что я сплю. Тогда я веки приподнял, чтобы заметно стало, что у меня зрачков нет. Она увидела, схватила меня за руку, давай трясти, а я лежу и не дышу. Она рот открыла, хочет закричать и не может, точно подавилась. Я это ее лицо с открытым ртом на всю жизнь запомнил. Тут мне ее так жалко сделалось, что я не выдержал, – Некрич положил ладони на глаза, а когда отнял, зрачки снова вернулись на свое место, и нас всех словно размагнитило, – не выдержал и заплакал, и сразу стало ясно, что я живой. Мама потом долго еще в себя не могла прийти, а бабушка все повторяла: «Как ты мог?! Как ты только мог так нервировать мать!» (Маленький Некрич – крестьянский мальчик – вырывается из бабушкиных рук, не успевших затянуть пояс на армячке, перебегает через пустующую до начала репетиции сцену, с противоположного ее конца оборачивается и высовывает язык.) И вот теперь, когда ни мамы, ни бабушки уже нет в живых и многих других родственников тоже, я иногда думаю, может быть, они не умерли насовсем, может, они просто притворились, как я тогда, чтобы посмотреть, как я себя поведу? Может, они смотрят сейчас на нас?
Катя поежилась в кресле и обернулась назад. Полутемная комната наполнилась отчетливым запахом валерьянки, и я увидел, как в двери вплыла высокая коротко стриженная старуха в брюках клеш, напомнившая мне ту, что заснула рядом со мной на «Хованщине». Это была, без сомнения, бабушка-костюмер. Оказавшись у стола, она налила себе рюмку водки, опрокинула ее одним махом, сморщилась, сухо закашлялась (Жанна и Некрич поискали тревожными глазами, откуда донесся кашель, и, переглянувшись, подумали друг на друга), метнула ревнивый взгляд на Катю, чмокнула Некрича в щеку, забрала себе несколько сигарет из его пачки, потом отошла на пару шагов, обернулась еще раз полюбоваться им, сердито схрустела взятый со стола огурец и исчезла. Некрич в задумчивости как бы случайно провел рукой по щеке, стирая след оранжевой помады, налил себе и выпил.
– А теперь и жена ушла, – вздохнув, сказал он, обращаясь в основном к Кате. – Совсем никого не осталось. Нет, вы не знаете, вы даже вообразить себе не можете, что это значит – быть совершенно одному! Кажется, что если вдруг умрешь, то даже и не заметишь. Я иногда вечерами хожу по квартире, свет не зажигая, хватает и того, что с улицы падает, из конца в конец хожу, хожу… Я уже наизусть знаю, какая паркетина как скрипит. Старый паркет – он скрипучий. И так хочется, чтобы рядом был кто-то… кто-то надежный, свой, простой, ясный… Кто-то сильный, жизнерадостный, уверенный в себе. Такая женщина, с которой не страшно глядеть в завтрашний день… Хотите еще печени?
Катя смотрела на Некрича поверх своих крупных коленей так пристально, что даже не расслышала вопроса. Похоже, она вообще не стремилась вникать в отдельные слова, улавливая лишь общий смысл и то, что все они обращены к ней. Она давно уже отчаялась понять из слов Некрича, шутит он над ней или нет, обманывает или говорит правду. Усилие понимания сдвинуло Катины густые брови и целиком сосредоточилось во взгляде, направленном на рот Некрича, словно по движению губ она пыталась прочесть скрытое значение его речи. Звук его голоса только мешал ей, если б могла, она бы его отключила. Стремительно, точно в него вселился дух помощника присяжного поверенного, Некрич встал из-за стола, обогнул его и с полной тарелкой присел на подлокотник Катиного кресла. Катя скорчила гримасу, завернув к носу верхнюю губу, и сказала низким грудным голосом: «Не-е, я уже так налопалась, что сейчас по швам тресну». Некрич отставил тарелку и, поудобнее устроившись на подлокотнике, закинув ногу на ногу, продолжал говорить, теперь уже только для Кати, о своем одиночестве. Он томно склонялся над нею, накрывал своей ладонью ее ладонь, прижимался, ни на секунду не замолкая, щекою к ее щеке. Только однажды он оторвался от нее, чтобы взять бутылку вина со стола, а заодно шепнуть мне на ухо: «Не забывай о Жанне». Я и в самом деле так засмотрелся на Катю с Некричем, что начисто о ней забыл. Жанна сидела, глядя перед собой, и по щеке ее ползла медленная слеза. Бутылка рядом с ней была почти пуста. Над судком с печенью поднимался к потолку пар и исчезал на полдороге. Вернувшийся к Кате Некрич нашептывал ей что-то в самое ухо, заглядывал в глаза, смотрел исподлобья, гипнотизировал. Катя отворачивалась, прикрывая лицо рукой. Он бегло и как бы случайно касался ее колен, плеч, шеи. Она заметно млела от этих прикосновений, ее веки опускались, глаза затуманивались, пышные черные волосы поднимались вверх, примагниченные парящими над ними ладонями Некрича. Она тесно сжимала колени под узкой юбкой, втянув большую голову в плечи, пыталась увидеть его руки над собой. Должно быть, она ощущала себя во власти фокусника и, затаив дыхание, ожидала превращения, которое оторвет ее от земли, хоть ненадолго позволив забыть о своем тяжелом теле. Эта утрата веса и была для нее чувством, страстью, еще немного, и, загипнотизированная Некричем, Катя готова была бы ей отдаться, вслед за волосами все в ней уже поднималось к его рукам, как восходящее на дрожжах тесто, уходя из-под власти земного притяжения. Грудь ее вздымалась, лицо запрокидывалось кверху, к лицу Некрича, вся тяжесть, придя в движение, готова была испариться в один счастливый вздох. Но в последний момент она испугалась и, усмехнувшись басовитым смешком, в который вложила вес всех своих килограммов, восстановила равновесие. Это была усмешка над собой: полная Катя привыкла быть комичной, она пряталась за пародию на себя, служившую ей защитой, боясь и не умея быть всерьез. Тогда Некрич прибегнул к радикальному средству. Он вдруг присел перед креслом на одно колено, прижал обе ладони к груди и, напрягая голос до предела, так что Катя уже не могла пропускать его слова мимо ушей, оглушительно запел:
Ми-и-илая Аи-ида, со-о-олнца сиянье,
Ни-и-ильской доли-ины чу-у-удный цветок,
Ты-ы-ы моя ра-адость…
И, легко, как пушинку, подхватив Катю на руки, закружился с нею, продолжая петь:
…Ты-ы-ы упованье,
Моя царица, ты жи-и-и-изнь моя!
Кружась, Некрич пронесся по комнате, как смерч, расталкивая вещи на пути. Ставшая наконец невесомой, Катя плотно зажмурила глаза и обхватила его руками за шею. Некрич отпихнул кожаное кресло, уехавшее в угол комнаты, отшвырнул стул, чуть не опрокинул закачавшуюся вазу, задел этажерку с едва устоявшим на ногах Дон Кихотом, и мне вдруг показалось, что все вещи в комнате, выглядевшие застывшими на своих местах навечно, на самом деле не держатся ничем – вся их массивность бутафорская, они пусты, выеденные временем изнутри, и легки, как театральные декорации из фанеры, да они и есть всего лишь декорации, помогающие Некричу играть среди них свою роль. Совсем не устав и даже не запыхавшись, он опустил Катю на пол, только рубаха расстегнулась, открыв волосатую грудь. Катины глаза были по-прежнему закрыты, она улыбалась, как во сне. «Как кружится голова…» – сказала она и, приоткрыв веки, поднесла к ним ладонь, точно, внезапно разбуженная, не хотела просыпаться. Она сделала неуверенный шаг, покачнулась, еще один подламывающийся шажок, и она упала в объятия Некрича.
– Ну, мне пора, – я встал из-за стола. – Жанна, вы со мной?
Жанну в тот вечер мне пришлось увозить на такси. Она как-то незаметно успела напиться, плакала и норовила остаться на ночь. Когда через несколько дней у меня зазвонил телефон, я сначала принял женский голос в трубке за ее. Но это была не Жанна.
– Не узнаете? Короткая у вас память, короткая…
– Ирина?
– Она самая. Хотела про мужа своего бывшего спросить, где он пропадает, не знаете? Я ему звоню, звоню, а его все дома нет. Мне нужно у него кое-какие вещи свои забрать, пластинки… Я же, когда от него сбегала, чуть не все бросила.
– Некрич, наверное, в театре, больше ему быть негде, но дожидаться, пока он появится, не обязательно. У меня есть его входной ключ.
– В самом деле?
– В самом деле. Можем вместе туда наведаться.
Мысль о том, чтобы побывать в квартире Некрича в отсутствие хозяина, раз уж у меня есть ключ от нее, занимала меня давно, Иринин звонок оказался подходящим поводом, дающим возможность поделить ответственность пополам. Еще больше мне хотелось увидеться с нею снова. Ирине мое предложение понравилось, и мы договорились о встрече. На следующий день она ждала меня в вестибюле метро у схода с эскалатора. Я узнал ее издалека по пальто и, поднимаясь, смотрел, как приближается и обретает четкость, превращаясь в знакомое, ее лицо, и становится видно, что она глядит на меня.
На ней был берет, сапоги на высоких каблуках, в которых она была почти с меня ростом, на руках кожаные перчатки.
– Перчатки – чтобы не оставлять отпечатков пальцев?
Она улыбнулась. Мне вспомнилось, как во время наших шатаний по городу Некрич рассказывал: «Иногда она вела себя так, точно меня вообще нет рядом с нею, целыми днями меня не замечала, и тогда я чувствовал, что исчезаю, буквально так оно и было, я пропадал, меня не было. Но стоило ей улыбнуться, и я сразу возникал ниоткуда…»
– Просто руки мерзнут. Холодно…
Шел дождь со снегом, и в мокром рассеянном свете лицо ее выглядело бледным. В узком старом лифте в доме Некрича мы стояли почти так же близко друг к другу, как тогда, в вагоне метро, к тому же теперь мы были одни…
– Мы соучастники, – сказал я.
– Подельники, – перевела она, усмехнувшись.
Прежде чем открыть, я на всякий случай позвонил в дверь. Квартира отозвалась тишиной, в глубине которой что-то едва слышно дребезжало, как эхо звонка, скорее всего, это была лампочка на лестничной клетке у нас над головами или электрический счетчик. Ключ подошел безукоризненно, замок открылся легко, и мы вошли – сначала я, за мной Ирина. Переступая порог, она позвала:
– Не-екрич… лапушка-а…
Я вспомнил, как он говорил мне: «Чуть не каждую неделю эта дрянь мне прозвища меняла, то так назовет, то этак, и всегда такие дурацкие клички выдумывала, как будто издевалась надо мной, а я на все отзывался, как она меня ни звала, словно собака приблудная, у которой своего имени нет. Даже если б она меня Бобиком окликать стала или Мухтаром, я все равно бы на задних лапках за ней побежал!»
Стук Ирининых каблуков раздавался по всей квартире. Она ходила из комнаты в комнату, открывала двери шкафов, перерывала вещи, что-то искала и, находя, складывала в большую сумку. В отсутствие Некрича буфет, серванты и книжные шкафы до потолка снова выглядели монументальными. Я прошелся по коридору, заглянул туда-сюда, присел на угол тахты в кабинете. В разных местах были разбросаны носильные вещи Некрича, в кухне лежала в раковине грязная посуда, вокруг нее бегали тараканы. На журнальном столике возле тахты валялось множество скомканных конфетных фантиков, рядом потемневшие огрызки от яблок. Я взял с кресла конверт от пластинки, стоявшей на проигрывателе: «No Stone Unturned» – коллекционный диск «Rolling Stones». Очевидно, дома Некрич позволял себе иногда передохнуть от оперных восторгов. Выдвинул верхний ящик стола – он весь был забит старыми техническими журналами и пожелтевшими чертежами, принадлежавшими явно еще отцу Некрича, сверху лежал кожаный планшет, открыв который я обнаружил пачку снимков, вырезанных из «Плейбоя» либо «Пентхауза». Задвинув первый ящик назад, вытащил следующий – он был, не считая мелкого бумажного мусора, пуст. А что я, собственно, рассчитывал здесь найти? Разве того, что Некрич рассказывал о себе, мне было мало? Наоборот, этого было даже слишком много, гораздо больше, чем нужно. Просто я люблю находиться в местах, где меня быть не должно. С тахты в кабинете была видна через дверь часть комнаты, где стоял манекен и пахло лекарствами, и окно в ее дальней стене, выходящее на противоположную сторону, во двор. Так же как и окно в кабинете, его занавешивала сплошная пелена снега с дождем, точно оба окна были расположенными напротив зеркалами, отражавшими мутную пустоту друг друга. В этой темной, заставленной старой мебелью квартире мне больше всего сейчас нравилось то, что я ни при каком стечении обстоятельств не должен был бы здесь в данный момент находиться, если б не запавший мне в карман в видеозале ключ. Без хозяина квартира принадлежала заполнявшим ее вещам. Они строили контуры ее пространства и делили его между собой, безраздельно им владея. Я был здесь случаен и ни при чем. Отражения снежных хлопьев скользили по стеклам книжного шкафа, по всем обращенным к окну полированным поверхностям, по застекленным фотографиям на обоях. Тикали часы, родственники Некрича молча смотрели друг на друга с противоположных стен.
Иринины каблуки простучали через коридор, каждый следующий звук был громче предыдущего, она вошла в кабинет, ища меня. На ней была полупрозрачная черная шифоновая кофта, сквозь которую просвечивали ее руки и плечи.
– Какая вещь, а?! Вам нравится?
Она повернулась передо мной на каблуках так и этак, чтобы я мог лучше рассмотреть, одернула складки.
– Мне – безумно! Сейчас так давным-давно уже никто не шьет. Наверное, его мать в молодости носила. И, главное, подходит в самый раз!
Я протянул руку и потрогал тонкий материал, а через него ее плечо с выступающей косточкой. За ее спиной в окне шел снег, и я подумал, что ей скоро должно стать холодно в этой кофте, ее кожа покроется мурашками. «У нее такая сказочно тонкая кожа, – говорил Некрич, – я мог гладить ее бесконечно, ночь напролет, она засыпала, а я все гладил, гладил, гладил… Когда начинало светать, ее кожа голубела, потом становилась белой, потом, если выходило солнце, розовой, я уже не чувствовал свою руку и, сам засыпая, кажется, продолжал гладить во сне…»
– Что, если я возьму ее, пока никто не видит? Ведь вы меня не выдадите? Нет? Не выдадите?
Она села ко мне на тахту, совсем рядом.
– Не выдам.
– Раз не выдадите, то я возьму себе еще вот это. – Она достала из-за спины и надела на голову бархатную шляпку. На левом запястье у нее был темный браслет, на шее жемчужные бусы, которых не было, когда мы пришли. Браслет, сказала Ирина, принадлежал еще Некричевой бабушке. Я прикоснулся пальцами к бусам.
– Это тоже мать Некрича в молодости носила?
Она сглотнула под моим пальцем, он соскользнул с бус на ключицу и провел по ней до коричневого рубца, едва заметно проглядывавшего сквозь шифон. Когда я дотронулся до него, она накрыла мою руку своей ладонью. «Шрам у нее лет с семнадцати, после аварии, – рассказывал мне Некрич, – отец ее в другую легковушку врезался (вкус ее губной помады у меня на языке), второй водитель насмерть, а ее отец без руки остался, она сзади сидела и уцелела, только один осколок стекла ей ключицу вспорол (горькая от духов кожа ее шеи), а другой поменьше, живот разрезал, там у нее тоже шрам, но не такой заметный (живот ее твердый, дышащий под моей ладонью). Она этих шрамов стесняется, поэтому всегда требовала, чтобы я отворачивался, когда она раздевается, я так и делал и сидел, не дыша, прислушиваясь, так даже интересней было, я на слух угадывал, что она снимает, потому что наизусть выучил, какая ее тряпочка как шуршит. Или подглядывал, это было захватывающе, за собственной женой через плечо подглядывать, умопомрачительно и невыносимо! (Я помнил все, что он говорил во время наших прогулок, до последнего слова!) И когда она наконец все снимала до носков, носки она обычно на себе оставляла, жаль ей почему-то было с ними расставаться, она ко мне сзади подходила и глаза ладонями зажимала, как в игре такой… (Сняв кофту, она закрывает плечи и грудь руками, ее внезапно расширившиеся глаза, точно смотрит в упор на свет, голые глаза, совершенно незнакомые.) А потом она уже вся моя была, вся до последней родинки, до последнего волоска на лобке, до слюны во рту, до слез на щеках соленых! (Два тела на тахте, отраженные в стеклах книжного шкафа на фоне черных томов Большой советской энциклопедии.) Только рук ее мне не было видно, руками она что-то на спине у меня с закрытыми глазами на ощупь искала, и мне всегда было этого безумно жаль, потому что я запястья ее люблю, и локти люблю, и пальцы ее люблю, и ладони. (Голос Некрича звучал у меня в ушах, она была вся заляпана его словами с ног до головы, они проступали на ее коже, как недовыведенная татуировка, и, гладя ее, я спешил и не успевал стереть их.) Запястья у этой дряни тонкие, как будто породистые, и пальцы длинные, непонятно, откуда такие, потому что по всем своим повадкам она самая настоящая девка, никакой породой в ней никогда и не пахло! (Ее язык облизывает сначала верхнюю, потом нижнюю губу на слепом лице и тянется ко мне.) Только девка может так над своей красотой издеваться, как она издевалась, ноги чуть не на потолок закидывая! Мальчиком своим меня, гадина, звала, «мальчик мой!», задыхаясь, на ухо мне шептала, а ногтями спину до крови расцарапывала! Когда голову запрокидывала, она шею свою модильяниевскую так выворачивала, что я ждал, сейчас, сейчас шрам ее лопнет и по швам разойдется! Он весь белел и поперек перетягивался, а она уже ничего не видела, ей уже было все равно, если б он порвался и кровь хлынула, она бы даже не заметила! (Тиканье ее наручных часов забирается ко мне в ухо, отсчитывая последние секунды…) Однажды купил ей трусы французские, шелковую сеточку такую прозрачную, не трусы, а паутинку, когда она их как-то гладила, мы, как всегда, ругались, она утюг передержала, и они вдруг вспыхнули (обеими руками она сильно притягивает мою голову к себе), она еле руку успела отдернуть, так у нас на глазах и сгорели бездымно, в мгновение ока! Одеяло, на котором она гладила, чуть было от них не занялось, едва пожар не устроили, а то бы весь дом спалили…
Иринины веки приоткрылись на щелку, глаза под ними были мутные, совершенно пьяные, взгляд всплывал из глубины на поверхность, постепенно заново меня узнавая. Родственники Некрича глядели с фотографий на обоях не друг на друга, а на нас. Ирина завернулась в покрывало, поправила мои волосы, прилипшие ко взмокшему лбу, и спросила:
– Мы соучастники, да?
– Конечно, – я ответил. – Подельники.
Начинало смеркаться, и когда Ирина извлекла руку из-под покрывала, чтобы взять сигарету, она была голубой. Пачка оказалась пустой. Накинув мою рубашку на плечи, она принялась шарить по ящикам, рассчитывая обнаружить запас сигарет у Некрича, и, найдя, устроилась курить на подоконник. С тахты за спиной у нее не было видно ничего кроме беспрерывно льющейся снежно-дождевой мути, пожелтевшей, когда зажглись фонари. По мере того как в комнате становилось темнее, мебель, казалось, увеличивалась в размерах, уменьшая свободное пространство своими тенями. Нельзя уже было разглядеть маленьких японских лиц нэцкэ, белеющих за стеклами буфета. Фотографии сделались неразличимы на стенах. Из дальнего конца квартиры донесся шум – то ли это был мусоропровод, то ли нарочно громко возилась на кухне недовольная присутствием чужих в доме старуха костюмерша. Спугнутая неизвестным звуком с подоконника, Ирина вернулась ко мне под покрывало, огонек ее сигареты проплыл через темную комнату.
– До чего здесь уютно, – сказала она, притираясь ко мне, – неохота уходить. Я так всегда любила эту квартиру…
У кого-то из нас проурчало в животе – ни я, ни она не поняли у кого.
– Мне никогда еще не было так хорошо лежать среди дня в постели, как здесь с тобой.
– Откуда у тебя, кстати, ключ?
Я рассказал ей, как познакомился с Некричем.
– Могу спорить, – сказала Ирина, – что ключ у тебя не случайно в кармане оказался. Он тебе его подсунул. Может, вовсе и не в видеозале, а позже.
– Зачем бы он стал это делать?
– Понятия не имею. Да он и сам, скорее всего, не знает. Он же действует наугад, наудачу, но ему всегда везет, понимаешь! Если б не этот ключ, мы не лежали бы с тобой сейчас тут в обнимку.
– Ты имеешь в виду, что он специально хотел меня на бывшее свое место подставить, назло твоему Гурию? Не верится мне, чтобы он был способен так далеко просчитывать.
– Он не считает, он чует – в этом вся разница. Мне иногда кажется, что он все, что со мной случится, наперед угадывает, а я рыпаюсь то туда, то сюда, чтобы спутать ход вещей… но только сама еще больше запутываюсь…
Говоря, она смотрела на мутную пелену за стеклом. Глаза ее, отражая заоконную сырость, медленно наполнялись слезами. Пробили часы, пора было думать о том, чтобы одеваться, уничтожать следы нашего присутствия и уходить, но вставать не хотелось. Хотелось лежать и бесконечно касаться друг друга среди сгрудившейся вокруг нас в комнатных сумерках мебели, частями освещенной с улицы, частями угадываемой в темноте. Ирина поднялась первой – ее ждал дома Гурий. Пока она одевалась и поправляла тахту, я зажег свет и рассматривал фотографии на стенах кабинета.
– Ты знала кого-нибудь из родственников Некрича?
– Нет, – сказала она, застегивая кому-то из них принадлежавшие бусы, он меня ни с кем не знакомил, да они и умерли, кажется, уже все. Зато беспрерывно про них рассказывал, так что они у меня уже в печенках сидели.
– Про кого, например?
– Про тетку свою, которая замуж не вышла, потому что была влюблена в Козловского, про деда, помощника присяжного поверенного…
– В Козловского? Ты не путаешь? Не в Лемешева?
– Нет, она была козловисткой, так это тогда называлось, ездила за ним по всей стране, лучшие свои годы на это убила.
– Вот как… Это она Некрича готовить научила?
– Нет, готовить он научился у бабушки, а у тетки на пианино играть.
– А про деда он тебе что говорил?
– Про деда-белоэмигранта? Как он в Париже таксистом работал и стихи писал про свою тоску о России.
– Нет, про того, который был самым красивым помощником самого красивого присяжного поверенного.
– Так это он и был. Он после революции эмигрировал с белогвардейцами. Некрич мне даже стихи его читал, я так любила, когда он стихи читает, он красиво это делал, с выражением, жаль, что я их плохо запоминаю. Как там… – Она почесала нос, вспоминая. – Моя любовь к тебе сейчас… ребенок… или зверенок… В общем, что-то маленькое, что потом вырастает.
– Слоненок, – подсказал я, с трудом скрывая ликование от того, что наконец-то поймал Некрича на лжи.
– Верно, слоненок, а потом он становится настоящим мамонтом и топчет все вокруг, как Некрич в припадке ревности. Идем, пора. – Ирина вручила мне сумку, набитую вещами. Уже в прихожей, подумав о том, что я сюда, может быть, никогда больше не попаду, я сказал ей:
– Ты знаешь, что Некрич собрался продать квартиру?
– Правда? – Ирина остановилась на пороге. – А кому?
– Какому-то коллекционеру, который вместе со всей мебелью хочет купить.
Мы стояли у раскрытой двери на лестничную клетку, и все пустые темные комнаты прислушивались к разговору о своей будущей судьбе.
– Значит, все-таки наконец решился… Даже покупателя нашел… – Ирина закрывала дверь медленно, очевидно, как и я, вспоминая, что она могла забыть в квартире, куда уже не вернется.
Щелкнул замок, и я взвалил на плечо ее тяжелую сумку, стараясь не думать, чьими вещами она набита – на самом деле Ириниными или вовсе не ее.
Через день она зашла ко мне, точнее, заскочила, всего на пару часов. Мы торопились, она все время смотрела на часы, потом про них забыла и, конечно, пропустила момент, когда нужно было уходить. Одевалась в страшной спешке и панике, не глядя на меня, обо мне вспомнила в последнюю минуту, когда уже намазала губы помадой, поэтому поцеловала у двери осторожно, едва коснувшись. В следующий ее визит, еще через два дня, времени было больше, можно было расслабиться и забыть о нем, но ощущение спешки сохранялось все равно, Ирина несла его в себе, и даже когда лежала неподвижно с закрытыми глазами, казалось, что она подсчитывает, как ей везде успеть. Она вносила с собой ускорение времени и в мою жизнь, с ее приходом стрелки на часах начинали бежать наперегонки и снова замедлялись лишь после того, как за ней закрывалась входная дверь. Провожая ее, я не спрашивал, придет ли она снова, – то, что она давала мне, пока задернутые на окне занавески впитывали вполне уже весеннее солнце, было настолько щедрым и избыточным, казалось мне настолько ничем не заслуженным, точно меня по ошибке приняли за другого, и если я буду на чем-то настаивать, например стремиться точно договориться о следующей встрече, то ошибка может быть замечена и исправлена. Пусть уж лучше все остается неясным, пусть она вечно торопится и возникает у меня в промежутках между другими делами, пусть я понятия не имею, что это за дела, – возможно, благодаря этому недоразумение, вызывающее ее появления, продлится дольше. Чем меньше мы друг о друге знаем, тем меньше у нас причин, чтобы не встретиться вновь. Я старался не спрашивать лишнего, мне и так было известно о ней от Некрича гораздо больше, чем нужно. Ирина сама рассказала, что Гурий то и дело не ночует дома, пропадая где-то с друзьями, и я решил удовлетвориться начерно объяснением, что она приходит ко мне ему в отместку.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































