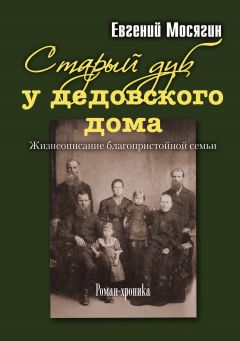
Автор книги: Евгений Мосягин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Сестры отца и его брат
У моего отца было две сестры: Прасковья Ефимовна – тетя Паша – и тетя Дуся; были у отца еще два брата: Николай и Иван Ефимовичи. Старший брат Николай Ефимович погиб на Первой Мировой войне, я ничего о нем не знаю. Вечная ему память.
Тетя Паша была старше моего отца, и никакого внешнего сходства с ним не имела. Зато тетя Дуся очень была похожа на своего старшего брата. В ее старости это сходство было таким, что если бы приделать ей бороду и усы брата, она была бы вылитый наш отец. Тетя Паша была скорее похожа на нашу мать, такая же невысокая, такая же подвижная и с таким же приятным лицом. Только вот совершенно не помню, добрая она была или нет. Общались мы с ней редко, хотя жила она неподалеку от нас, на углу Канатной и Кладбищенской улиц. В большом старинном доме с темноватыми комнатами и невысокими потолками. В гостях у нас тетя Паша бывала, отличалась веселостью и разговорчивостью. Мы же ходили к ней очень редко. Помню только один случай, когда отец со мной навестил тетю Пашу. Это было после очень сильной грозы. У ракит, растущих у дома тети Паши, пообломало тогда много сучьев и веток, и мы с отцом затаскивали их во двор. Я очень тогда старался, мне хотелось, чтобы тетя Паша заметила мое усердие и похвалила меня, но занятая разговором с отцом и еще с каким-то мужчиной, оказавшимся с нами, тетя Паша, к моему огорчению, на меня и на мое усердие не обратила никакого внимания.
Жила тетя Паша со своими двумя сыновьями – Федором и Ильей. В пору моего детства они были уже взрослыми. Мужа у тети Паши не было. Еще до революции она вышла замуж за какого-то кубанского казака. Как он оказался в Новозыбкове, этот казак, как они познакомились, как поженились, – это могло бы послужить темой для завлекательного чтения, но, к сожалению, никто при мне об этом никогда не разговаривал. Мне известно только, что казака звали Спиридон и что после свадьбы тетю Пашу увезли куда-то на Кубань. Вернулась она в Новозыбков через несколько лет с двумя сыновьями, но без мужа. Вполне вероятно, это было следствием страшного, учиненного коммунистами, «расказачивания» кубанских, терских и донских станиц. Дом, в котором поселилась с детьми тетя Паша, перешел ей во владение от новозыбковских родственников мужа.
Отношения с тетей Пашей и ее сыновьями у нас были хорошие, родственные.
Младшая сестра отца тетя Дуся была мне хорошо знакома только по моей взрослой жизни, в детстве я видел ее очень редко. У меня есть старинная фотография. Очень много лет назад, еще до революции, тогда еще совсем молодая моя тетушка снялась на карточку у московского фотографа и подарила ее на добрую и долгую память любимому брату, то есть моему отцу. На фоне шикарного пейзажа, с кипарисами, водной гладью и архитектурными излишествами сидит на мраморной скамье молодая женщина. Светлое платье, светлая шляпа, свободная поза, спокойный взгляд – ни дать ни взять иллюстрация из модного журнала. Неужели тетя Дуся в свои совсем молодые годы была такая «комильфо», да ни где-нибудь в Гомеле или в Новозыбкове, а в самой Москве?
Да нет, конечно.
Папина сестра семнадцати лет от роду поехала в Москву наниматься в прислуги. Как у нее сложились первые дни пребывания в Москве, об этом никто не расскажет. Но вот что сама тетушка рассказывала мне, когда я уже после Великой Отечественной войны жил в Москве, и тетя Дуся приезжала ко мне в гости.
– Когда брат (мой отец) приехал ко мне на костылях из Одессы, я жила в Кунцево в горничных у одних богатых людей. В воскресенье мы поехали с ним смотреть Москву. Пошли на Тверскую, а там народу много, публика нарядная и офицеры один за другим. Так он, бедный, встал, руку приложил к козырьку и стоит. Тогда уже какой-то генерал подошел, опустил ему руку и говорит, что ты солдат, можешь идти и никому честь не отдавать, потому что ты на костылях. Тогда только мы и пошли, а так все стояли.
А еще тетя Дуся рассказала мне очень примечательную историю из своей московской жизни.
– Служила я официанткой в кафе «Лидо». Это неподалеку от Триумфальных ворот. Один раз к нам зашел негр. Черный-черный. Я рот раскрыла и стою. А хозяйка мне говорит: «Это американец. Вот пошлю тебя с заказом к нему на квартиру, там ты его и рассмотришь». Никогда не думала, что так может получиться – носила я ему обеды. Мы с этим негром в цирк ходили, в кафе «Ку-ку» меня приглашал. Оно тоже на Тверской было или где-то рядом, могла я и забыть. Как Триумфальные ворота сняли, так мне кажется, что там все по-другому стало, не так как прежде. Да, так вот, этот негр был знаменитым жокеем. Его звали Джеймс Винкфельд, портреты его в журналах печатали. Когда он уехал, то из Одессы два письма написал и даже денег мне прислал один раз.
Все это меня заинтересовало. К тому времени я уже пару раз побывал на ипподроме, а потом мне в руки попал журнал «Огонек» с большой статьей о Московском ипподроме, о его прошлом и настоящем, об известных наездниках и жокеях, русских и иностранных. В этой статье немало места было отведено знаменитому английскому жокею Джеймсу Винкфельду, знакомому тети Дуси. Конечно, я не мог упустить случая и при первой же встрече с тетей Дусей попросил ее подробней рассказать о ее знакомстве со знаменитым человеком.
Кафе «Лидо», где она работала, было расположено поблизости от Белорусского вокзала, а, как известно, это рукой подать до ипподрома. Гастролирующие в Москве жокеи и наездники, проживавшие неподалеку от упомянутого кафе, иногда столовались в этом заведении, известном своей хорошей кухней. Джемс Винкфельд сам в кафе не ходил, он договорился о поставке обедов к нему на дом, то есть в гостиничный номер. Моей тетушке и поручили носить европейской знаменитости его заказ в гостиничные апартаменты. Тетя Дуся говорила, что жена у Винкфельда была белая, «такая противная, как щука, англичанка», а сам он был симпатичный, ловкий такой и очень приятный в обхождении. По словам тетушки, Винкфельд с женой не ладил. Как-то она принесла в гостиницу обед, и, пока передавала судки прислуге, слышала громкий с резкими интонациями разговор на английском языке в соседней комнате. Прислуга махнула рукой: «Все время ругаются». Потом хлопнула дверь и раздраженный Винкфельд быстро, ни на кого не глядя, прошел на выход.
Несколько дней после этого супруги Винкфельд обеды в кафе не заказывали, а потом пришла их прислуга и сообщила, что жена жокея уехала в Лондон.
– А меня рассчитали, – вздохнула девушка. – Он теперь один остался, у него контракт еще не кончился. Наверное, будут разводиться. Последние дни все скандалили, а негр этот даже домой ночевать не всегда приходил.
Тете Дусе это было все равно.
Но Винкфельд вскоре возобновил в кафе заказы на обслуживание обедами и тете Дусе пришлось выполнять свои обязанности, однако теперь тетя Дуся заказы передавала самому Джеймсу. А потом так получилось, что она оставалась прислуживать ему за обедом…
– Он был очень хорошим человеком, – вздохнула тетя Дуся. – Внимательный, вежливый. Русского языка почти не знал, но мы с ним хорошо понимали один другого. Звал меня в Англию с собой, только я побоялась. По окончании московского контракта Винкфельд уехал сначала в Одессу, где некоторое время выступал на ипподроме, потом уехал в Англию. Вот так неожиданно и странно соприкоснулись две жизни, две судьбы. Долго ли помнил знаменитый жокей-американец русскую девушку, официантку из московского кафе? А новозыбковская девушка всю жизнь вспоминала его и думала о нем.
После отъезда Винкфельда тетя Дуся некоторое время продолжала работать в кафе, а потом прислуживала горничной в одном богатом доме. Когда началась революция – эта египетская казнь русского народа – в тети Дусиной жизни появился некий человек по имени Павло́, что, вероятно, и послужило причиной ее переезда на жительство в Киев. В Киеве тетя Дуся встретила войну и Победу. Во время войны она выезжала из Киева в деревню, где было полегче пережить тяжелое время. Это привело ее к потере своей жилплощади в Киеве. Павло́ она тоже потеряла. Приют она нашла у такой же, как и она, одинокой подруги и вместе с ней в маленькой комнатке коммунальной квартиры тетя Дуся и дожила свой век.
Была она бедная, но добрая, смешливая, с мягким характером и никогда ни с кем не скандалила.
Что же касается старшего брата отца, дяди Ивана, то о нем мало что можно сказать. Был он солдатом на Первой Мировой войне, никаких ранений не получил, работал плотником, как и его отец. Жил он на Верхней улице, у нас бывал редко – зайдет на несколько минут, поговорит с отцом и до свидания. Когда родители собирали гостей, дядя Иван, конечно, приходил к нам. Сохранилась одна фотография, на которой дядя Иван снят в полной военной форме в стойке по команде «смирно», с ружьем «к ноге», стройный, высокий и даже бравый.
Отец говорил, что Иван мужик хороший, только жену себе выбрал чудную. Однажды отец с мамой ходили в гости к дяде Ивану и отцу нашему было очень весело рассказывать, как Полюшка, жена Ивана, угощала их петухом, сваренном в горшке прямо с «дябой». Но дядю Ивана это не огорчало, своей Полюшкой он был доволен. Потому что был он беззлобный и просто хороший человек и так же, как наш отец и тетя Дуся, любил веселое слово и всякую шутку.
Старшая сестра Таня
Судьба Тани, как и многих других, чья жизнь проходила во время разора и беспорядков, сопутствующих государственному перевороту, сложилась очень трудно. Ее замужество, приведшее к отчуждению от матери, было недолгим. Строгий и неприветливый человек Иван Васильевич Ковалев, Танин муж, для многих навсегда остался закрытой личностью. Совершенно непонятно было в нем стремление обособленности не только от соседей, но и от родственников его жены. Желание молодого человека официального раздела дедовской усадьбы было принято нашим отцом, как его законное право, в результате чего появились руками отца построенные заборы, разгородившие теперь уже соседские дворы, сады и огороды.
Что руководило Иваном Васильевичем в его странном самоутверждении? Может, он считал себя человеком иного, более высокого, чем его родственники и соседи, общественного положения? Это было, скорее всего, не так. Отца у него не было, а мать, судя по всему, была из таких же новозыбковских мещан среднего уровня, что и дед Василий Николаевич. Разница между ними состояла, видимо, лишь в том только, что родители Таниного мужа своевременно проявили заботу об его образовании и, как говорится, вывели его в люди. Таня никогда о нем не рассказывала, может, потому, что слишком страшные годы отделили от прежней жизни все ее дальнейшее существование. В замужестве с Иваном Васильевичем у Тани родилось двое детей: первый мальчик Коля был слабенький, кривобокий, а младшая Валя была хорошей, крепенькой девочкой. Молодая семья жила тихо, без скандалов.
Иван Васильевич строил свою семейную жизнь по правилам, которые сам установил для себя, и никто ему не мешал в этом, да вот беда, не жилец он оказался на белом свете. Умер он от туберкулеза, не дожив и до тридцати пяти лет.
Помню раскрытые ворота дедовского двора, толпу молчаливых людей, священника, икону на полотенце… Это произошло в 1930-м или в 31-м году.
Оставшись вдовой с двумя детьми, Таня некоторое время жила на попечении деда. Он не оставлял своего ремесла и доход у него какой-то имелся. Потом Танина свекровь забрала к себе Колю.
А потом начался голод.
У Тани на попечении остался старый немощный дед и маленькая Валя. Специальности она никакой не имела, а кормиться надо было, и Таня поступила совсем неожиданно и необычно. Не знаю, на какие деньги она купила лошадь с телегой и сбруей и поступила работать в Новозыбковскую гужконтору. Имелось в городе такое предприятие, где работали люди со своими лошадьми и телегами. Таня стала грузовым извозчиком. По утрам, одетая в какое-то старое пальто, подпоясанное черным шнурком, она приводила к нам Валю, потому что дед к этому времени сделался совсем плох, и оставлять на него ребенка было нельзя. Коротко переговорив с мамой, Таня уезжала в гужконтору за нарядом. Мама вздыхала, сокрушалась о том, что не женское это дело – с конем да с мужиками на тяжкой работе убиваться.
А что было делать бедной Тане? Мои родители ничем не могли ей помочь, жизнь у всех держалась на нитке. По двести граммов хлеба выдавали на иждивенца. Как старшая сестра сломала те страшные два года, трудно себе представить. Помню невеселого гнедого конька, который пасся в дедовском саду, напрочь вытаптывая малину и смородину, помню большую неуклюжую телегу и Таню в черных мужицких брюках, старом пальто и в каких-то стоптанных сапогах. Говорить о том жутком времени и вспоминать о нем у нас не любили.
К осени 1934 года жизнь стала понемногу улучшаться, в магазинах появилась вольная продажа хлеба, правда, с большими перебоями. Гнедой конь и нескладная телега покинули Танин двор.
Таня поступила работать в больницу санитаркой. Это была совсем другая работа, чем в гужконторе, и другие люди работали рядом. Что и говорить, обязанности санитарки – дело нелегкое, но оно, по сути своей, извечно считалось женской работой, требующей отзывчивости и сострадания. Тане работа ее нравилась. Она начала понемногу освобождаться от тяжких испытаний, выпавших ей на долю в ее недолгой жизни. Трудное девичество, ранняя смерть мужа, страшное существование в голодное время, несправедливая жестокость последних лет жизни ее деда и не менее жестокая одинокость его смерти. Память обо всем этом, казалось, никогда не оставит ее душу, но молодость и природная легкость ее характера брали свое. Таня повеселела, оживилась, начала следить за своей внешностью и почувствовала себя молодой женщиной. Ведь ей, действительно, не было еще и тридцать лет. Статная, довольно симпатичная, Таня вдруг заметила, что жизнь ее не совсем прошла и может еще в этой жизни случиться много заманчивого, интересного и хорошего. Материнские наставления, строгий порядок дедовских внушений и обязательная скромность вдовьей жизни, – все это стало казаться ей не таким уж незыблемым и бесспорным. А тут еще опыт недоброй извозчичьей жизни, да смертный холодок голода и одиночества, коснувшиеся ее молодой души, сотворили свое дело, и Таня рванулась навстречу новым, неизведанным прежде впечатлениям и порывам молодой и здоровой натуры. Беспутной Таня никогда не была, но свое затворничество молодая вдова нарушила. Она была добрая, с матерью восстановила прежние родственные отношения, для нас, младших братьев, была лучшим другом и союзником. Заборы, разделявшие наши территории, утратили свою категоричность и во многих местах стали сквозными. А тот забор, что отгораживал наш огород от Таниного сада, и вовсе был устранен за полной ненадобностью.
Старый дедовский сад для нас с Федей стал полностью доступен. Собственностью Тани теперь стало все, что принадлежало ее деду, что составляло смысл и достоинство его жизни и приносило ему уважение сограждан. Все нажитое дедом перешло в руки его нерачительной, не очень хозяйственной внучки. В упомянутой прежде актовой бумаге сказано, что Татьяне Ефимовне и ее мужу переходит право на владение деревянным домом, двумя сараями, каменным погребом и участком земли в двадцать соток. Из этих двадцати соток добрые три четверти занимал сад. Дед был хорошим садоводом, он постоянно, что-то подрезал, прививал, окапывал. В саду у него, например, было дерево, на котором росли кислые и сладкие яблоки, зеленые и красные. Множество было малины и смородины. Сад был не широким, но значительно протяженным, и граничил с участком, принадлежавшим людям, проживавшим на Красной улице. Нам с Федей было полное раздолье в саду, не говоря уже о том, что яблоками и уцелевшей смородиной мы могли пользоваться, как своими собственными. Но вот что интересно, ни мама, ни отец наш никогда не ходили в дедовский сад. Это было как само собой разумеющееся, без демонстрации и позы.
Кроме сада, много привлекательного таилось в закоулках теперь уже Таниного двора с его старинными грузными сараями. Особенно занимал наше воображение длинный бревенчатый сарай, что стоял поперек двора и отделял его от сада. В его сухом сумраке таилось множество странных предметов, оставшихся от дедовского промысла: в углу была свалена нечесаная пакля, у стенки стояла чесалка с длинными острыми тонкими шпильками, повсюду были разбросаны какие-то крючки, шарнирно закрепленные на деревянных цоколях, попадались непонятного назначения точеные деревянные палки и фигурные доски с отверстиями. Было нам не понятно, как и для чего можно использовать все это добро. Обнадеживало то, что все эти предметы всегда теперь находятся под рукой, и при случае их к чему-нибудь можно будет приладить. Сумрак сарая, пронизанный золотыми солнечными лучами, был уютен и немножко таинственен.
Самое же интересное находилось снаружи, с той стенки сарая, что выходила в сад. Там, на крепкой деревянной опоре, стояло колесо, то самое колесо, которое нанимался крутить мой отец, когда был еще мальчиком. Колесо это было замечательным изделием столярного мастерства. Деревянная втулка или, лучше сказать, ступица имела с десяток длинных и тоже деревянных спиц, обод колеса, закрепленный на этих спицах, был мастерски изготовлен из плоских липовых планок, соединенных одна с другой в шип.
Огромное, около двух метров диаметром, колесо было легким и изящным. Вращалось оно при помощи обычной коленчатой железной ручки. От колеса шла ременная передача к закрепленному на стенке сарая щитку. При помощи хитроумного устройства от вращения колеса быстро и синхронно вращались смонтированные на щитке крючки.
Однажды я видел, как изготавливаются веревки. Это было до Таниного замужества. Прядильщик наматывал на пояс расчесанную паклю и, отделив от нее небольшую прядь, цеплял ее за крючок на щитке. Крутили колесо, начинал вращаться крючок, прядильщик, равномерно подавая от себя паклю, медленно пятясь задом, отходил от щитка. Пакля текла из его рук, скручиваясь в тугой красивый шнурок. Толщина шнурка для веревки могла быть разной, что зависело от того, сколько материала подавалось на скручивание.
Для этого надо было иметь немалую сноровку и мастерство: крючок вращается, его не остановишь, рядом идут, так же пятясь назад, другие прядильщики, а веревка должна быть по всей длине одинаковой толщины и прочности. К тому же надо чувствовать ее натяжение, иначе пряжа получится рыхлой и вялой.
Дорожки в саду, протоптанные ногами прядильщиков, тянулись от сарая до бани, а это расстояние было никак не меньше 20 метров, а то и побольше. При такой длине изготавливаемого шнурка или веревки во избежание их провисания устанавливались с определенным шагом Т-образные опоры. Из шнурков или тонких веревок потом пряли толстые веревки или даже канаты.
Наблюдать за этой работой мне было очень интересно. Кто-то крутил колесо, дед пятился по дорожке, все больше отдаляясь от сарая и пребывая как бы на длинной привязи, к быстро крутящемуся крючку на щитке. Рядом с дедом, уступом, в стороне от него шел еще один прядильщик, которого я не знал. Длинные тонкие веревочки, изготовленные умелыми руками деда и его напарника, слегка касаясь Т-образных подставок, не провисая, вибрировали над дорожкой и были как золотистые струны в солнечном свете.
Позаросли дорожки, протоптанные прядильщиками, заржавели крючки на щитке, пересох деготь в ступице колеса… И только само колесо было живым. Сколько же мы крутили его с Федей и пытались кататься на его ручке! Ни у кого из соседей не было такого замечательного и необыкновенного колеса.
Шло время, и зарастало полынью, крапивой и еще какой-то сорной травой кустарное дедовское производство. Рушилось и навек исчезало свидетельство старинной жизни, старинных натуральных людей, наших замечательных дедушек и бабушек. Но колесо простояло долго! Сломал его второй Танин муж. Но об этом пойдет речь чуть позже. Надо же рассказать, как Таня вышла за него замуж.
Каждый вечер в городском парке играл духовой оркестр, и Танина молодая душа не могла не тревожиться и не отзываться на эту чарующую музыку. Таня похаживала в парк с такой же, как и она, безмужней Маруськой Дудерской. Разбитная, симпатичная и завлекательная была эта Маруська. Она и Таня, обе хорошо пели и, бывало, что на огородах, каждая на своем, запевали одну песню и, несмотря на то, что они находились поодаль одна от другой, песня у них хорошо получалась.
У Тани завелись ухажеры. В соперничестве за ее благосклонность иногда получался некоторый шум и срам. Ни о чем порочащем Таню я сказать не могу, но думаю, что одинокая, молодая, никому не подвластная, довольно свежая и привлекательная, она представляла весьма пикантный приз в соревновании за место фаворита в кругу ее поклонников. Кому же не хочется добраться до запретного плода? Вот о серьезности намерений Таниных поклонников сказать, по-видимому, было нечего. И вдруг появляется тот человек, который на долгие годы стал Тане мужем и отцом ее детей, а для нас с братом – дядей Федей.
Это был чужак, не с нашей улицы, не с нашего края. А как водилось прежде, если не с нашего края, значит надо ему ноги «переломать», чтоб не ходил к чужим девкам и бабам – своих пусть ищет там, где живет. На какой-то вечеринке в Танином доме – а вечеринка это что-то вроде современной дискотеки, только с хорошим выпивоном – так вот, на такой вечеринке парни с нашей улице крепко побили бедного дядю Федю. У нас во дворе, куда он скрылся с поля боя, много было на снегу кровавых пятен. Мама привела его к нам в кухню и он долго у рукомойника обмывал разбитое лицо и очищал одежду. Ночевал он у нас или ушел домой, не помню. Но ходить к Тане дядя Федя не перестал и вскоре занял место единственного и постоянного Таниного кавалера, а потом стал ее мужем.
Так моя старшая сводная сестра Таня во второй раз вышла замуж. Фаддей Миронович Желтов – так именовался ее муж.
Был он «базаркомом».
В нашем городе, как, вероятно, и во всех других городах, существовал базарный комитет, а дядя Федя в этом учреждении, сокращенно базаркоме, работал агентом по сбору платы за место. Так что никакой он был не «базарком», а просто сборщик местового налога. Хотя на нашей улице, да и на базаре, его все называли «базаркомом».
– Вон базарком идет, готовь местовое!..
А еще дядя Федя был пожарником, то есть состоял в добровольной пожарной дружине. И была у него великолепная бронзовая или медная, а точнее сказать – золотая каска.
Какая это была каска! Высокий гребень, козырек, какие-то рельефы, кожаные ремни – вещь была нешуточная. Только древнегреческие боги или императоры древнего Рима, кроме новозыбковских пожарников, имели право носить такие прекрасные каски. Мне довелось и в руках подержать каску дяди Феди, и даже на голове поносить.
Я не помню ни одного случая, чтобы дядя Федя принимал участие в тушении какого-нибудь пожара. Вся его противопожарная деятельность состояла только лишь в том, что он, время от времени, дежурил в городском кинотеатре во время демонстрации кинофильмов.
Свою семейную жизнь дядя Федя начал с того, что, по примеру вождей нашего государства, решил до основания разрушить все, что досталось ему в наследство от старого мира, то есть от Таниного деда. Вожди победившего пролетариата, в отличие от Фаддея Мироновича, разрушая старый мир, обещали на его обломках построить что-то новое. Фаддей Миронович не делал никаких заявлений на этот счет. И правильно, что не делал и ничего не обещал, потому что чувствовал себя совершенно уверенным в правоте своих действий и, как говорится, грубо, по-сельски, решил, что, в первую очередь, необходимо все переломать, а потом уже думать о чем-то другом.
В своих намерениях он здорово преуспел.
Разрушительная деятельность дяди Феди началась с того, что однажды летним вечером, вернувшись с работы, он забрался с ножовкой на крышу дедовского дома и принялся распиливать его пополам. Таня сказала ему:
– Федя, ты не упади оттуда.
Большой, очень старинный и очень серьезный дом Василия Николаевича мне всегда нравился. В нем много было чего такого, что неплохо было бы узнать и запомнить. Не менее полутораста лет простоял он и был одним из самых старых домов на нашей улице. Наш дом рядом с ним выглядел молоденьким внуком рядом с почтенным дедушкой. Много чего перевидал и испытал старый дом, сколько в нем было рождений и похорон, сколько свадеб и крестин в нем отмечено, сколько молитв, горьких рыданий, старинных песен и деловых разговоров слышали его стены. И вот пришел человек, никогда не проживавший в этом доме, и принялся разрушать его.
Видеть человека, распиливающего большой дом маленькой, в полметра длиной пилочкой, вообще-то, странно, но дядю Федю это не смущало, он знал, что делает. В несколько приемов он распилил крышу, ободрал покрытие с той ее части, что обращена в сторону сада, сорвал прогоны и обрушил стропила. После этого он принялся разбирать кирпичную трубу старой дедовской печки. Несколько вечеров его можно было видеть на верхотуре, оббивающим раствор с кирпичей более чем столетней кладки.
А потом ухали оземь тяжелые сухие бревна в клубах пыли, в обломках обрешетки, со штукатуркой и в клочьях конопатки. Старинное человеческое жилье превращалось в кучу хлама. Первый удар по Таниному приданому был нанесен – половина дедовского дома, обращенная к саду, перестала существовать. Бревна и доски пошли на дрова, а кирпич от разобранной печки дядя Федя продал.
Маленький сарайчик, обращенный задней стенкой к огороду Анны Савельевны, дядя Федя разломал довольно скоро и без особых затруднений, а вот с длинным сараем ему пришлось крупно похлопотать.
В незапамятные времена был он добротно срублен старыми мастерами из хорошо пригнанных одно к другому тяжелых бревен. Нам с Федей было жалко этот сарай, большой и немного таинственный, отделявший дедовский, а теперь Танин двор от сада, Непривычно широко за нашим забором открылось пространство, и стало неуютно на Танином дворе без хозяйственных построек, надежно укрывавших когда-то жизнь семьи Василия Николаевича от внешнего мира.
Во время разрушения большого сарая дядя Федя сломал замечательное колесо старой прядильни. Сломал запросто, без эмоций: снял с опоры, уронил на землю и грохнул по нему несколько раз топором. И сухие звенья неповторимого и нигде более мной невиданного колеса разлетелись по сторонам. И всё! И перестало существовать основное энергетическое устройство дедовского старинного промысла.
А сколько человек крутило его рукоятку, сколько километров веревок и канатов было изготовлено его простым и мерным вращением!
На месте большого сарая дядя Федя соорудил все-таки маленький несерьезный сарайчик. Нельзя же, в самом деле, чтобы двор был совсем голым и чтобы в нем не было ни одной постройки. Правда через несколько лет дядя Федя этот сарайчик сломает за ненадобностью, так как он просто не знал, что в этот сарай можно положить. Такая жизнь была у дяди Феди с моей старшей сестрой, что у них в хозяйстве не было ничего такого, что обычно хранится в сараях. Дядя Федя сломал этот сарай и построил уборную на одно очко. Но это будет потом, а в первые годы жизни с Таней он, расправившись со старыми дедовскими постройками, принялся корчевать сад. Начал он это делать с того конца усадьбы, который граничил с соседом, живущим на Красной улице.
Мы испугались. Мы думали, что сокрушительная активность дяди Феди скоро создаст пустыню вокруг Таниного дома. Но дядя Федя объяснил, что раскорчует он только небольшой участок в конце сада под картошку. Это было правильно, картошку надо было сажать, без своей картошки – труба.
В результате энергичной деятельности Фаддея Мироновича Танин двор стал пустым и просторным. Зарастала плохой травой земля, на которой больше сотни лет простояли хозяйственные постройки Василия Николаевича Кудрявцева. Ничто уже не напоминало о той деловитой и основательной жизни, что многие годы мерно и плодотворно протекала на этой земле. Улица проникла в Танин двор. Забора на месте сломанных сараев дядя Федя не построил и ветер улицы свободно и беспрестанно теперь кружил у стен укороченного Таниного дома. Власть четырех царей, две революции, и одну Мировую войну видели окна этого дома и вот, ополовиненный и раздетый, осевший и сконфуженный, стоял он на разоренном Танином дворе, как усталый и покалеченный, никем не узнаваемый в своем новом облике и никому теперь не интересный странник из прошлого времени.
Ни у кого на нашей улице разгром владения Василия Николаевича не вызвал ни удивления, ни интереса. Таня с удивительной беспечностью отнеслась к разорению дедовского гнезда. А через год-другой, когда распиленные на дрова бревна и доски вековых построек догорели в ее печи и дымом рассеялись в новозыбковском небе, она и думать о них позабыла. Легкий характер был у нашей старшей сестры. Да и время было такое, что многим людям более по нраву была отнюдь не созидательная деятельность.
Таня одинаково хорошо уживалась как с первым, так и со вторым своим мужем. А ведь они – мужья Тани – были полными антиподами. Если Иван Васильевич стремился к закрытости своей жизни, к строгости и порядку в хозяйстве, был бережливым и расчетливым главой семьи, то Фаддею Мироновичу всё это было всё равно. Сокрушив дедовское подворье, он не удосужился каким-никаким заборчиком оградить оголенный двор от улицы, хотя бы для того, чтобы не видно было конному или пешему, как он посещает одиноко стоящее сооружение на одно очко, издали похожее на большую скворечню.
Первый и второй мужья Тани были совершенно разными людьми, но в одном они были схожи – это в несколько завышенной оценке своей личности и в том, что оба были довольно амбициозными мужчинами. Таня своим вторым мужем была довольна. Мне с братом дядя Федя тоже нравился, хотя бы потому, что он нисколько не ограничивал нашу свободу действий в дедовском саду.
С родителями нашими дядя Федя обращался ровно, без проявления каких-то там родственных чувств. Мама наша благожелательно отнеслась к новому замужеству дочери и ни в коей мере не вмешивалась в дела и безделье новой Таниной семьи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































