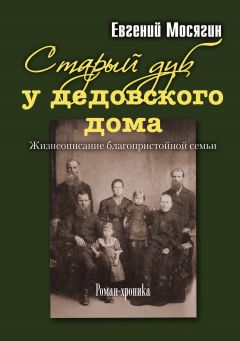
Автор книги: Евгений Мосягин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 2
Соседи и знакомые
Федор Андреевич и Анна Савельевна
Они самые близкие наши соседи. Хотя, если быть точным, то соседи они не наши, а Танины. Но так как дядя Федя сокрушил дедовские постройки и оставил неогороженным свой двор, то усадьбы моей сестры и Федора Андреевича слились в одну ничем не разделенную открытую территорию, и получилось, что Таня и ее сосед в равной степени стали нашими соседями. Замечательно то, что никак не обозначенная граница между дворами и огородами Тани и Федора Андреевича, бесспорно, соблюдалась сопредельными владельцами, и никогда ни малейших посягательств, хотя бы на одну пядь чужой земли, не было проявлено ни с одной стороны, ни с другой.
Вообще Федор Андреевич со своей супругой были людьми не скандальными, покладистыми, жизнь их проходила вся на виду и была очень простой и понятной. Федор Андреевич за всю свою жизнь ни одного громкого слова не сказал, Анна Савельевна, бывало, что заявляла о себе какой-нибудь скоротечной перепалкой, но это случалось очень редко и происходило не по серьезной причине, а так, скорее, для психологической разрядки.
Когда я впервые прочитал сказку Пушкина «О рыбаке и рыбке», то строки о том, что старик со старухой «жили в ветхой землянке», я отнес к жизни моих соседей. Не потому, что они были стариком и старухой, и не потому, разумеется, что Федор Андреевич ловил неводом рыбу, а его жена пряла пряжу, совсем не поэтому. Федор Андреевич был сапожником, а Анна Савельевна никогда в жизни не пряла никакой пряжи, да, пожалуй, толком и не знала, что это такое. Мне подумалось так потому, что жилище их представлялось мне очень похожим на ветхую землянку, в которой 33 года прожили пушкинские старик со старухой. Это была маленькая хатка, старая и, действительно, ветхая, с одним окном в сторону улицы и одним во двор. Ее, эту хатку, нельзя было даже избушкой назвать: избушка – это все-таки бревнышки, что-то тесовое, кряжистое, а эта хатка на честном слове держалась, и то, наверно, потому, что вокруг нее росли густые кусты и деревья. Не будь этих кустов и деревьев, первый же сильный ветер мог бы завалить ее вместе с трубой и печкой.
Ограда усадьбы Федора Андреевича и Анны Савельевны со стороны улицы, устроенная из колючей проволоки, имела некую историю. Дело в том, что Федор Андреевич со своей супругой эту усадьбу купили у женщины, пользующейся на улице нехорошей репутацией. Эта женщина была ведьма. Говорили, что она ночами прыгала по кольям своей ограды, и хотя никто не понимал, для чего она занималась такой акробатикой, но полагали, что если ведьма это делала, значит, это было неспроста. Добрые люди посоветовали Анне Савельевне переставить колья ограды на новые места и тогда последствия действий нечистой силы не будут иметь никакого значения. С простотой и непосредственностью, свойственными характеру Анны Савельевны, она вкопала колья проволочной ограды на другие места, отчего ограда дугой вылезла на улицу. Соседи закрыли на это глаза, да и дело того стоило, потому что никто на улице после этого не испытывал на себе воздействия странного колдовства съехавшей с нашей улицы ведьмы. Сама Анна Савельевна ни малейшего дискомфорта от этих дел не испытывала, поскольку для нее, что чистая, что нечистая сила были одинаково безразличны и ни малейшего влияния на ее настроение не оказывали. Жила она спокойно и просто. Ходила на базар, топила печь, ухаживала за огородом, кормила мужа.
Огород у Анны Савельевны был замечательным, все у нее на грядках росло пышно и густо. И огурцы, и лук, и свекла, и морковь, и по краям грядок высокие подсолнухи – все это было вовремя полито, прополото, все было сочным, зеленым, и колючая проволока ограды терялась на фоне этой буйной растительности и не очень обезображивала улицу. К тому же по обе стороны окошка старенькой хатки ярко пылали золотые шары: эти крупные желтые цветы у нас называли «цыганками». Сквозь проволочную ограду с улицы довольно сентиментально смотрелась крошечная хатка с низеньким окошком, упрятанная под фруктовыми деревьями, утопающая в огородной зелени и украшенная декоративными яркими цветами. Вот только для проживания в ней эта хатка была малопригодна.
Рассказывая о Федоре Андреевиче и его супруге, я называю их полными именами, на самом же деле никто никогда их так не называл. Мне неизвестно, как это складывалось, но у многих жителей нашей улицы имелись неофициальные и порой не очень благозвучные уличные прозвища. Федора Андреевича звали Моргун, Анну Савельевну называли просто Анюткой или Рябой. Естественно, что при обращении к ним никто этими прозвищами не пользовался. Как это часто принято между знакомыми людьми, при личном общении их называли по отчеству: Андреич и Савельевна, но во всех случаях, когда речь заходила о них, говорили: Моргун и Рябая. Мне кажется, если б к Рябой обратились по имени и отчеству, то она, пожалуй, и не поняла бы, что это обращение к ней относится.
Уличные прозвища и клички не всегда имеют объяснение и причину. В некоторых случаях прозвища не требуют никаких разгадок и объясняются каким-то внешним признаком или чем-то характерным в поведении человека. Но бывают такие случаи – и их достаточно много – когда прозвище не имеет никакого отношения к человеку и не обосновано никакой логикой. Почему, к слову сказать, флегматичного и спокойного Толю Шевелева звали Дрын, почему мой товарищ Миша Торбик имел незавидную честь прозываться Шкретом? Тихий, застенчивый Миша, униженный бедностью своих родителей, умница и книгочей, прозывался Шкретом и вообще, что такое – Шкрет? Много во всем этом малопонятного: почему Липских называли Шманделами, а тихую бабушку, соседку Ивановых, окрестили Дупицей. А были еще Чухра, Ягуп, Лапа, Кельча, Кавуриха…
«Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство…», – заметил Н. В. Гоголь в «Мертвых душах».
Не при моей жизни были придуманы упомянутые прозвища, а пришли они из прошлых лет и, надо думать, от прошлых поколений.
Прозвища Анны Савельевны и Федора Андреевича объяснялись просто. Лицо Анны Савельевны, просторное и малосимпатичное, было изрыто оспой с такой тщательностью, что гладкой кожи на нем не оставалось даже очень маленького участочка. Кроме того, можно ли было называть по имени-отчеству женщину, пребывающую в постоянно неряшливом виде, кое-как одетую в ситцевое вылинявшее и давно не стиранное платье, всегда непричесанную, плохо умытую и босоногую. Разумеется, когда Анна Савельевна шла на базар или в магазин, то она и причесывалась и приодевалась, и туфли обувала, но дома, в огороде, на улице у колодца она все-таки выглядела так, что в полной мере оправдывала свою неуважительную кличку. И поэтому для соседей она была или Анюткой или, того хуже, Рябой. Хотя по возрасту ей давно уже пора была переходить на иной уровень величания. Это ее не расстраивало и не выводило из состояния покоя равновесия. Она никогда не жаловалась на житейские трудности, никогда за пределы Новозыбкова не выезжала, ни разу в жизни не была в кино и была безграмотной. Зачем ей грамота? Деньги она считать умела – и достаточно.
Революция никак не повлияла на порядок жизни Анны Савельевны. Разве только в объявленном властями равноправии женщины с мужчиной она приобрела для себя некоторые выгоды, выразившиеся лишь в том, что теперь она могла при случае и безо всякого стеснения пугнуть матерком несогласного с ней оппонента или же своего тихого Федора Андреевича… Это, пожалуй, было единственное завоевание революции, коснувшееся жизни Анны Савельевны: а чего стесняться – раз равноправие, так равноправие.
При всем своем незлобивом нраве, Рябая в обиду себя никому не давала. Мне довелось быть свидетелем одной и, пожалуй, единственной за все мое детство дискуссии Анны Савельевны с Фросей Масаровой. Причина этой дискуссии мне была неизвестна, так как я не застал ее начала. Дом Масаровых распложен на другой стороне улицы, и словесная баталия велась на расстоянии, исключавшем любую возможность контактного соприкосновения выясняющих отношения женщин. Высунувшись из окна так далеко, насколько можно было, чтобы не вывалиться на улицу, и, вытянув длинную тощую руку, наподобие пламенных ораторов великих революций, грозя кулаком, тетя Фрося крыла Рябую таким изобретательным матом, что складности его построений и связок мог бы позавидовать любой пиратский боцман.
Рябая не оставалась в долгу и тоже очень громко и очень матерно орала с нашей стороны улицы, но, кроме громкости и грубости, в ругательной речи Рябой ничего оригинального не было. Она просто огрызалась и делала это без азарта и удовольствия.
Тетя Фрося была неистощима и чем дальше шла перепалка, тем искуснее была она в своих невероятно ругательных комбинациях.
У меня в армии был дружок – сержант Володя Бурнасов, маленького росточка мужичок, но матершинник такой, что свет не видывал. Он мог дать ефрейтору Сычковскому указание, составленное из одних матерных словесных построений, и ефрейтор Сычковский способен был понять это указание, пойти и выполнить все так, как это и было нужно. Теперь я с уверенностью могу сказать, что сержанту Володе Бурнасову было очень далеко до Фроси Масаровой. Распаляясь все больше и больше, она выдавала такие пассажи, что случившиеся неподалеку Степан Липский и Григорий Соколов с превеликим восхищением слушали ее выступление.
– О, стерва, дает! – восхищенно заметил Степан.
– Ее, наверно, дядька Агей по ночам тренирует, – высказался Григорий Соколов.
Еврейка Сима, соседка Масаровых, выбежала из своей калитки, ухватила за руку внука, игравшего на улице около дома, и утащила его во двор. Митька выглянул на улицу, послушал, в чем дело, плюнул с досады и пробормотал:
– Вот суки, прости, Господи, мерзавки, чтоб вам глотки поразрывало, – и скрылся во дворе.
Тетя Фрося в какой-то момент, вроде бы использовав весь свой ругательский арсенал, покинула боевой пост, захлопнув за собой оконные створки.
Рябая, воодушевленная тем, что поле боя осталось за ней, прокричала в темный прямоугольник пустого окна завершающие, итоговые ругательства и собиралась было уйти за свою колючую ограду, как Фрося тут же появилась в окне и покрыла ее новым зарядом ругани. Не желая быть побежденной, Рябая осталась на улице и крик продолжился. Фрося теперь время от времени пропадала за окном, как будто просматривала там конспект или читала по бумаге свои реплики и через секунду-другую снова стремительно высовывалась на улицу и с незатухающей энергией костерила Рябую.
Неизвестно, чем бы все это закончилось, и сколько бы продолжалось, если бы дядька Агей, Фросин муж, не принял меры к завершению конфликта. Он вышел на улицу и закрыл ставнем окно, служившее трибуной его разгневанной супруге. Фрося пыталась изнутри оттолкнуть ставень, но дядька Агей подпер его дрючком и ушел за калитку. Воспользовавшись затишьем, Рябая победоносно удалилась за свою ограду.
Самое же странное во всем этом бурном хаотическом и неприличном словопрении было то, что совершенно отсутствовала причина, которую необходимо было решить возбужденным женщинам в их, с позволения сказать, дискуссии. Ведь Анне Савельевне и тете Фросе совершенно нечего было делить, и не было у них сколько-нибудь серьезных поводов для столкновений и выяснения отношений. Жили они по разные стороны улицы, встречались только у колодца да случайно, по пути на базар или в магазин, и ущемления взаимных интересов никак не могли сотворить.
Зачем же они ругались так безобразно? А вот поди, разбери их. Сцепились просто так для разрядки, что ли. Фрося хоть и была женщиной экспансивной, но никогда со своими соседками Маней Брумихой и Симой Соркиной не ругалась. С ее двора никогда не доносилось никакой брани, несмотря на то, что семья у нее была довольно многочисленной – две дочери и четверо сыновей. Жили они все мирно и хорошо ладили друг с другом.
Что касается Анны Савельевны, то была она абсолютно флегматичной особой. В ее непричесанную голову никогда не приходило тревожащих ее мыслей. А скорее всего, никаких мыслей там вообще не бывало. Она изо дня в день занималась обычными, совершенно необременительными для нее делами в своем простом хозяйстве. Все ее занятия по дому настолько повторялись каждодневно, что для их исполнения не требовалось никаких мыслей – руки сами все делали. К возвращению под вечер Федора Андреевича с работы она управлялась со всей своей домашней суетой и вместе с мужем садилась за стол не то обедать, не то ужинать, а скорее и то и другое у них совмещалось в тихой вечерней трапезе. Так шла ее жизнь и думать при этом о чем-нибудь у нее не было никакой необходимости. Иной раз от нее за целый день ни одного слова не услышишь, разве только пугнет с огорода своих или чужих кур.
Так что совершенно необъяснимым для меня остался эпизод боевых действий Анны Савельевны и Фроси Масаровой. Кстати, это произошло, когда я уже учился в школе, и впечатление оставило у меня очень скверное. Ведь соседи наши в основном жили мирно и, хотя без особой дружбы, но вполне пристойно. Самыми шумливыми, пожалуй, были все-таки Фрося Масарова да наш сосед Митька Горшечник.
Мама говорила, что в старину люди так не ругались, особенно женщины. Ну, пьяные мужики, что с них спрашивать, это скверно, но куда ни шло. А тут женщины.
– Большой это грех, – говорила мама. – Вот заставят их лизать горячую сковородку на том свете, тогда будут знать, как сквернословить. Совсем перестали Бога бояться.
О том, что будет на том свете, Анна Савельевна никогда не задумывалась. Она не думала даже о том, что будет на этом свете завтра или на следующей неделе. Супруг ее смиренный Федор Андреевич не давал ей повода беспокоиться о завтрашнем дне. Он вечно сидел на своей низенькой седушке у верстака и, постукивая сапожным молоточком, зарабатывал на хлеб насущный для себя и для своей супруги.
Моргуном Федора Андреевича прозвали по той причине, что он очень часто моргал веками, так часто, что глаза его большую часть времени оставались закрытыми, чем открытыми. Было удивительно, как он мог при этом что-то видеть. Но Федор Андреевич, тем не менее, видел. Может быть, и не все разнообразие красок Божьего мира, но видел достаточно, чтобы независимо жить и работать.
А вот какого цвета были у него глаза, этого никто не знал.
При своем недостаточном зрении мастером Федор Андреевич был отменным. Он работал в сапожной инвалидной артели. Но не это определяло его гражданскую сущность, его общественно-социальный облик, как сказали бы газетчики или сотрудники первых отделов. Главное было в том, что Моргун был сапожником нашей улицы, одним из тех людей, на примере существования которых пишутся истории улиц и городов. Он был такой же приметой нашего проживания, как, скажем, колодец у дома Дюбича или старый дуб у дома родителей моей матери. Не Бог весть какую работу он выполнял: подумаешь, обувь ремонтировал многочисленным соседям и землякам. Но дело в том, как он выполнял свою работу и насколько его работа была необходима людям. При его добросовестности и безупречном мастерстве у него не было отбоя от заказчиков. Что только ему не приносили ему в ремонт.
Иной раз какая-нибудь соседка, замотанная домашней суетой, очередями, вечными недостатками принесет совсем разбитые ботинки, которым давно уже только и место, что на свалке и просит:
– Почини, Андреич, может, походит еще в них Витька. Горит обувка на нем, ну прямо горит. Разве на него напасешься.
Посмотрит, поглядит Федор Андреич на совсем изношенные ботинки, колупнет шилом в одном, другом месте, покрутит головой и вздохнет:
– Что с тобой делать, Матвеевна? Тут и чинить уже нечего. Что за что держаться будет?
Разведет он руками, да жалко ему женщину и Витьку жалко, и примет Федор Андреич заказ. Конечно, себе в убыток. Да что поделаешь, у всех жизнь – не сахар.
Никому не отказывал Федор Андреевич. В его руках вдрызг истоптанная ношенная-переношенная пара обуви избавлялась от порчи и приобретала возможность еще немалое время послужить своему владельцу. Халтуры и небрежности в своей работе он не допускал никогда.
Федор Андреевич не был тем беспутным сапожником, который в незапамятные времена так скомпрометировал свое ремесло, что всякого человека, неумело и плохо выполняющего свое дело, пренебрежительно стали называть «сапожником». Это к Моргуну ни в коей мере не относилось.
Перед войной у нас на квартире стоял летчик-лейтенант, необыкновенный чистюля и аккуратист по части одежды. Он заказал Моргуну пошить сапоги из кроя, полученного у себя в части. Какие же сапоги Федор Андреевич ему сработал! Завернутые в белую чистую тряпку, принес он готовые сапоги и поставил их на стол в нашей кухне. Я никогда больше не видел таких великолепных сапог и мне тогда казалось, что их нельзя обувать на ноги, что они всегда должны стоять на каком-нибудь высоком месте, чтобы все видели, какие замечательные сапоги может делать незаметный и тихий Моргун.
Бывают виртуозы-музыканты, бывают художники, в совершенстве владеющие кистью, всегда были искусные специалисты-ювелиры или краснодеревщики – Федор Андреевич был искусным сапожником.
В первые месяцы немецкой оккупации я подружился с Моргуном. Не то что я хотел стать сапожником, но овладеть какими-то навыками этого ремесла мне, казалось, будет не лишним. Родители не возражали. Я приходил к Моргуну, пристраивался рядом с ним, он давал мне несложную приготовленную им работу, и я помаленьку помогал ему, приобретая тем самым какие-то познания в сапожном ремесле. Это мне пригодилось в дальнейшем.
Следить за работой Федора Андреевича было интересно главным образом потому, что он был мастером старого толка, хорошо владеющим приемами и навыками мастерства, выработанными за многие годы честными специалистами сапожного дела. К примеру, уже в мое время многие сапожники в своей работе пользовались иголками. У Федора Андреевича дело было поставлено иначе: иголкой он выполнял только такие работы, которые технологически соответствовали ее применению, в остальных же случаях – а их было большинство – он пользовался щетинкой. Иголку ему заменяла свиная щетинка. Он расщеплял ее вдоль с одного конца до половины ее длины на два хвостика и очень ловко вплетал в них конец заготовленной им же дратвы. В результате плавно, без малейших задиров и шероховатостей навощенная дратва заканчивалась упругой щетинкой, вполне заменявшей мастеру иглу.
– Что ты, братец ты мой, – говорил Моргун, – иголкой все пальцы можно поуродовать, а щетинка – это первое дело. Только вот теперь щетины хорошей нигде не достанешь.
Работа Моргуна походила на фокус: проколет он шилом снаружи дырочку в коже и тянет шило обратно, а вслед за шилом, словно примагниченный к нему, показывается изнутри сапога светлый кончик щетинки. Похоже было, что само шило вытаскивает ее наружу. Очень непростое это дело нащупать в тесноте сапожного нутра кончик шила и безошибочно подать вслед за ним заправленную в дратву щетинку. Строчка, шитая Моргуном, несмотря на недостаток его зрения, всегда получалась ровной и очень красивой.
Интересно было видеть, как Моргун заколачивает в подметку деревянные гвозди. Казалось, что гвоздь под ударом молотка обязательно должен сломаться, но нет, вставленный в наколотую шилом дырочку, он послушно с одного удара молотка уходил в жесткий материал подметки, прочно присоединяя его к сапогу. Железные гвозди Федор Андреевич не любил, но по мере необходимости пользовался ими, особенно при ремонте старой обуви. В этом случае применялся обычный прием обойщиков мебели и сапожников: обойные или сапожные гвозди мастер брал в губы, чтобы не тянуться за ними куда-то к верстаку, а безошибочно брать их из собственного рта. Моргун так ловко вколачивал гвозди в каблук или в подошву, что они мгновенно исчезали в материале и только светлые шляпки оставались сверху, образуя точные геометрические линии. Мелкие железные гвозди Моргун называл красивым нерусским словом «тэкс», а сапожным клеем он пользовался с не менее затейливым названием «декстрин».
Во время немецкой оккупации Новозыбкова Федор Андреевич работал точно так же, как и до войны, только перестал ходить в свою артель, поскольку она распалась. Заказов у него прибавилось и он, как и прежде, целыми днями просиживал на своей седушке у верстака. Со стороны оккупационных властей города к нему никто не проявлял интереса и никто его не беспокоил. А Моргуну только это и было надо, ничего он не хотел знать, кроме своей работы, обеспечивающей ему хлеб насущный.
А до войны в своей артели Федор Андреевич был на хорошем счету. Сам того не ведая, смиренный и исполнительный человек, он был вовлечен в дело строительства социализма в нашей стране. Конечно, он не знал этого и не догадывался об этом, просто ходил в свою артель и старательно, потому что не умел по-другому, выполнял свою работу. Где ж ему было знать, что он участвует в строительстве какого-то там социализма.
После Октябрьской революции весь единолично работающий мастеровой люд России правительство объединило в рабочие артели. Это в государственном плане обеспечивало рост промысловой кооперации и тем самым социалистические принципы в экономике страны получали значительное усиление.
Впрочем, Федору Андреевичу все это было совершенно безразлично. Хоть и был он в числе передовиков в своей артели, но заработки его не обеспечивали ему прожиточный минимум и он занимался не поощряемой практикой на дому. Горсовет смотрел на это сквозь пальцы. Обеспечение одеждой и обувью жителей города стояло на таком низком уровне, что, если бы не такие работники, как Федор Андреевич да дядька Агей и многие другие им подобные, то половина новозыбковцев ходила бы раздетой и разутой. Поэтому и стучал Моргун своим фигурным сапожным молоточком долгие вечера за своим верстаком, сидя на низенькой седушке. Именно поэтому не только ремонтные работы ему приходилось выполнять, но случались в его практике нередкие заказы на изготовление и новой обуви. Он все умел: и детские маленькие ботиночки мог смастерить, и хорошие сапоги, как он это сделал нашему квартиранту-летчику, и даже красивые женские туфли изготавливал, да еще с учетом особенностей ноги заказчицы.
К изготовлению новой обуви Федор Андреевич относился всегда с особым вниманием и ответственностью. В этих случаях он норовил дело так подладить, чтобы выполненный заказ самому отнести на дом заказчику. И совсем не потому, что при таком обороте дела можно рассчитывать на магарыч. Моргун выпивал редко и расхожие слова о нетрезвом человеке, что он напился, как сапожник, никакого касательства к Моргуну не имели. Но кому же не хочется по-хорошему да в приличной копании, да по хорошему случаю посидеть за рюмочкой. Но это хорошо было для Федора Андреевича еще в ином смысле, рюмку-то и дома можно выпить да и обмывать заказ с клиентом не обязательно, а вот приятно было Моргуну пообщаться по-хорошему с человеком и поговорить, не оглядываясь на свою половину, порой весьма заполошную Анну Савельевну, которая при всей своей флегматичности могла иной раз не то что умственную беседу испортить, а даже церковную службу нарушить, если бы ей вожжа не туда попала. Но не это главное. Дело в том, что уж очень тесен был дом у Федора Андреевича. Настолько тесен, что как ни старайся, но даже такой щуплый человек, как он сам, не мог разминуться с другим человеком в промежутке между верстаком и кроватью или между печкой и лавкой под окошком… Где уж тут хорошую работу, как следует, показать? А для всякого мастера это самое первое дело.
После сдачи заказа и магарыча Федор Андреевич в небольшом подпитии, но в полном аккурате возвращался домой. Посмотришь на него: картуз, пиджак да сапоги – вот и весь Моргун. Но, тем не менее, невзирая на его внешнюю малость и неприметность, чувствовалась в нем совершенно определенная значимость и самостоятельность. В отличие от своей супруги он всегда старался быть опрятным. Поговорка о том, что сапожник всегда без сапог, не была ориентирована на Федора Андреевича. Обувь у него постоянно была в полном порядке. И зимой, и летом он постоянно ходил в сапогах с высокими, голенищами.
– Это, братец ты мой, опойковые сапоги, вытяжки. И подошва спиртовая, – объяснял мне Моргун, улыбаясь своими тонкими губами. – Этим сапогам век сносу не будет.
Действительно, долговечные сапоги были у Федора Андреевича. Сколько я помню его, всегда вижу в этих хорошо начищенных сапогах с голенищами в одну треть его роста, заканчивающихся чуть ли не выше коленок. А коленки у Моргуна никогда до конца не распрямлялись. Мне казалось, это потому, что он так долго насиделся за свою жизнь на низкой сапожницкой седушке, что однажды встал с нее, а ноги у него до конца и не разогнулись. Так он и пошел в полуприседе, так и жить остался на своих полусогнутых ногах, постоянно обутых в высокие сапоги. Но это не мешало ему ни жить, ни работать.
В глухую осеннюю пору, поздними вечерами, когда во всех домах нашей улицы были закрыты ставни, и ни одной полоски света не пробивалось наружу, в такие темные вечера до позднего времени светилось одно единственное окно Моргуновой хаты. Случалось не раз поздно возвращаться домой и, бывало, дойдешь до дома Петуховых, увидишь светлое Моргуново окошко – и на душе станет спокойно от того, что есть еще живая душа, бодрствующая в полночное время, и что ты вроде бы и не один в эту осеннюю ночь.
Боковое окошко Моргунова жилища было обращено в сторону задних заборов соседских дворов, где начинались сады и огороды. Как-то Федор Андреевич сказал мне по этому поводу:
– Да что хорошего, Потапич? Только и вижу, как соседи по сортирам бегают.
Оно так и было. Уборные, как правило, ставили на задворки, притыкая их к стенке сарая или забора, отделяющего двор от огорода или сада.
Но, говоря по правде, не только это видел Моргун из своего окошка – видел он весной цветущие вишни и яблони в соседских садах, видел, как соседи копали огороды, а летом женщины занимались прополкой грядок, видел, как дядя Федя пару раз за лето косил траву в своем саду и как Митька занимался тем же делом на своем участке, а зимой он мог наблюдать белые снега на всех соседских усадьбах аж до самой больницы. А впрочем, кто знает, что видели его подслеповатые, постоянно моргающие глаза?
Несмотря на свою тихость и скромность, Моргун был человеком общительным. Порой в его тесной хатке собиралось некое подобие клуба. Сам он сидел на своей липке, приколачивая подметку или пришивая на какую-нибудь обувку. Супруга его спокойно спала на высокой чуть не до самого потолка постели, а мужики, кто как угнездившись, размещались, кто где и балагурили. Это были люди все одного цеха: Гейчик, сын Фроси Масаровой, Ицка, молодой мужик с Богородицкой улицы, да еще кто-нибудь из инвалидной артели. Разговор их невозможно передать, говорили обо всем и разном, но, бывало, что кто-то затрагивал о своих сапожницких делах. Кто постарше, старину поминали, мол, что ни говори, а прежде работать было лучше. Главное, товар был не в пример теперешнему, возьми хоть хром, хоть яловку, одно удовольствие был работать с таким товаром. А теперь? Взять хоть ту же яловку. Как с ней работать? Ее на колодку, как следует, натянуть боязно, того и гляди лопнет. Или подошвы – не то качество. А поднаряд? Что теперь на поднаряд ставят? Холстину! Разве может быть хорошая работа с таким материалом?
Замечательно, что на этих посиделках мужики не курили и не было случаев распития спиртного. Пообщаются по-приятельски и расходятся по домам. Вообще, я заметил, что сапожники, как правило не курят.
Случилось однажды, что Моргун заболел и на какое-то время выпал из житейского обихода нашей улицы. У бедного Федора Андреевича на тощем его заду вскочил здоровенный чирей. Кому другому это было бы нипочем, а сапожника эта штука напрочь лишает работоспособности. Стоя работать невозможно, а сесть на седушку никак. А раз нельзя сесть, то уж никак не зажмешь коленками сапожную лапку с напяленным на нее ботинком или сапогом. И остановилась работа! Все на нашем краю знали, что у Моргуна на заднице чирей, и что в починку он пока ничего не берет, и надо ждать, пока он выздоровеет. Соседи вздохнули с облегчением, когда окаянный чирьяк освободил моргуново седалище от страданий. Как-то летом Федор Андреевич стоял у своей проволочной ограды и грыз подсолнечные семечки. Видать, притомился от работы и вышел подышать на волю. Мимо по стежке Христинин Жоржик катил маленький железный обручик. Моргун остановил его и спросил:
– Хочешь семечек?
– Ага, – ответил Жоржик.
Моргун насыпал ему в ладошку черных семечек.
– А ты какую-нибудь песню знаешь? – поинтересовался Моргун.
– Знаю, – уверенно сказал Жоржик.
– Ну спой, – попросил Моргун и Жоржик громко на всю улицу пропел:
Нету ни горелки,
Нету ни вина.
Бей позитуру —
Гражданская война.
– Ух ты, – удивился Моргун. – А скажи-ка, братец ты мой, что ж это за такая зитура, что ее, к примеру, бить надо?
– Не знаю, – пожал плечами братец, которому от роду было лет семь, не больше.
– Так может лучше бить по заднице? – предложил Моргун.
– Не-ет, – не согласился Жоржик, – надо по зитуру.
Жоржик покатил дальше свой обручик, а Моргун остался на своем месте размышлять о том, какие непонятные песни теперь поют люди.
Прошли годы, вырос Христинин Жоржик и поступил в Пригородное работать трактористом. Постарел Федор Андреевич, но, сколько бы я ни приезжал в Новозыбков, всегда видел его работающим за своим верстаком у низенького окошка его ветхой и маленькой хатки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































