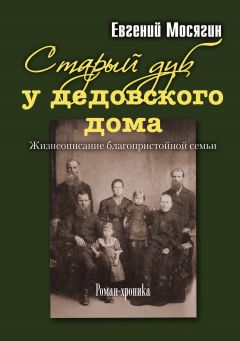
Автор книги: Евгений Мосягин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Митька
Если жилище Федора Андреевича и Анны Савельевны стояло, как говорится, на семи ветрах и было открыто любому взору, то Митькин двор был крепостью за семью замками: глухая стена длинного амбара, крепкие ворота с калиткой и плотные заборы надежно укрывали Митькино владение от соседей и от улицы. А если добавить к сказанному еще и то, что в Митькином дворе, гремя цепью по проволоке, бегала здоровая, злющая собака, то станет ясно, что сосед наш Дмитрий Макарович Самусенко не любил постороннего глаза и напрошенного гостя.
Но почему и что он так тщательно скрывал от людей? Я и сейчас не знаю ответа на этот вопрос. Мужик он был неспокойный, злой. В детстве мы его побаивались. Жены у него не было, говорили, что он бил ее и от этого она умерла. Жил он один и одиночество не было ему в тягость. У него было двое сыновей и дочь. Старший сын служил во флоте, такие были слухи, но никто его никогда не видел и если существовал такой флотский сын, то странно, что он никогда не приезжал к отцу. Младший сын по имени Шурка мелькнул в моем детстве ничем не примечательным парнем. Митька его сильно бил, только не понятно за что, потому что Шурка был тихим, вроде бы послушным, и прилежно учился в школе в одном из старших классов. Не окончив школы, Шурка уехал куда-то и с той поры в Новозыбкове больше не показывался. Митькина дочь Маша появилась в его доме во второй половине 1930-х годов. Была она теткой тридцати с лишним годов, невысокая, плотная, чем-то похожая на отца, только совершенно спокойная и выдержанная. Митька с ней не скандалил.
В основном же я помню Митьку, живущим в одиночестве. По моим представлениям был он домашним злодеем, забившим до смерти свою бедную жену, и тиранил своих сыновей.
С соседями Митька не общался и знакомства ни с кем, кроме Тита Григорьевича, не водил. Никто к нему ни с какими делами не обращался, и никто из наших соседей и знакомых никогда не был у него ни во дворе, ни в доме. Наши отношения с ним тоже не сложились. Нет, мы не ругались, но и соседского приятельства у нас не было. Просто жили рядом, соблюдая суверенитет друг друга и придерживаясь, принципа абсолютного невмешательства.
Отец наш Митьку не любил, не находил с ним ничего общего и не разговаривал с ним. Таня как-то рассказывала, что еще в те времена, когда наша семья только обживала свое новое местожительства, случился какой-то конфликт у отца с Митькой. Отец схватил его за грудки у нас на огороде. Митька завопил, что есть мочи: «Воны меня убивають!». Наша мама, беременная Федей, побежала, чтобы их разнять и утихомирить. Наш отец, человек миролюбивый, но в гневе свободно мог оторвать Митьке голову. Мама этого и боялась и бежала, чтоб отвести беду от нашего отца. Все тогда обошлось, но в семье нашей говорили, что мой старший брат Федя потому был таким развинченным и отчаянным в детстве, что мать растрясла его, когда скакала через грядки по огороду на выручку отца.
Митька нигде не работал. Я хочу сказать – не работал ни в каком государственном учреждении или предприятии, а вообще-то он работал и очень много. Кряжистый, чернобородый и черноголовый с проседью, в рубашке и босиком, целыми днями суетился он у себя за своими заборами, и время от времени было слышно, как он недовольно ворчал и поругивался, то на собаку, то на поросенка, то гонял кур с огорода. Мужик он был зажиточный и, может быть, даже богатый. У него был хороший дом на кирпичном цоколе под железной крышей с тремя окнами на улицу. Привлекало внимание то, что среднее окно было застеклено одним сплошным листом стекла, рама в этом окне не имела переплетов. Это было красиво и даже изысканно, но очень непривычно для нашей улицы. К тому же, не усиленное переплетами, такое окно, беззащитное и несколько наивное, совершенно не соответствовало ни Митькиному характеру, ни образу его жизни. На окнах Митькиного дома вполне уместны были бы не то что деревянные переплеты, а скорее кованные железные решетки.
Этот дом, по всему, изначально мог принадлежать вполне состоятельному человеку. Уличный фасад этого дома отличался некоторой изысканностью. Выложенный из красного кирпича, высокий цоколь, окна с серо-голубыми ставнями, фронтон, мягко очерченный покатыми углами кровли, – во всем этом была хорошо угаданная соразмерность. Митька с аграрным характером своего хозяйства и образа жизни, да и по своей внешности выглядел не владельцем своего дома, а скорее работником в нем. Я жалел одно время, что не поинтересовался разузнать, кем был владелец, у которого Митька купил дом.
Мне было завидно, и я считал досадной ошибкой то, что именно Митьке принадлежит милый и по-своему приветливый домик. Мне хотелось, чтобы в застекленное целым листом стекла красивое окно смотрела на улицу не Митькина зловредная бородатая образина, а какое-нибудь милое женское лицо.
Прежние хозяева Митькиного дома были люди городские и, может быть, даже интеллигентные. Митька же был типичным сельским жителем: в его хозяйстве была корова, свиньи, куры, вороной жеребец и даже козел (вот, именно, не коза, а козел). Усадьба по городским меркам у него была большая – соток 30–35, никак не меньше. На этой территории располагался большой двор с постройками, в числе которых было два жилых дома, сад корней на двадцать и немалый огород под картошку и другие овощи. Будучи горожанином, Митька вел натуральное сельское хозяйство и представлял собой этакий социально-экономический нонсенс, являясь, по характеру приобретения средств к существованию, чем-то вроде городского агрария. Продукцию своего хозяйства Митька реализовывал на городском базаре. Для этого он надевал приличные штаны, подпоясывал рубашку, обувал на ноги тяжеленные, из мамонтовой кожи, сапоги, водружал на голову баранью шапку, похожую на папаху, и с двумя плетеными корзинами, вскинутыми наперевес на крепкое плечо, двигал к базару. Шел он неторопливым шагом и, казалось, что так он может донести свой груз не то что до городского базара, а куда-нибудь подальше, хоть бы и за сто верст от своего дома.
В детстве я думал, что Митька обычный кулак и мироед, про каких нам в школе постоянно вдалбливали в головы понятие, что они есть главные враги народа и всей русской жизни.
Но какой же он был мироед, наш сосед Митька? Батраков он не имел и только сам, работая от зари до зари, собственным своим трудом обеспечивал себе независимое существование и помогал городу, доставляя на продажу горожанам свежие и качественные продукты.
Я думаю, что Митька просто-напросто перехитрил товарища Сталина и заблаговременно дал деру из деревни, переселившись в город задолго до колхозного закрепощения крестьян, увернулся от «великого перелома» и избежал прелестей «кавхоза», как он его называл. Если бы он остался в своей деревне, то, вполне вероятно, попал бы под раскулачивание и поехал бы в то страшное и далекое место, именуемое Соловками, о котором были наслышаны в нашем городе и стар и млад. А если б не раскулачили Митьку, то, в лучшем случае, обобществили бы его хозяйство и стало бы оно «кавхозной» собственностью, а это все равно для Митьки была бы смерть.
Но вот сумел он как-то так обернуться, что и имущество свое спас, и род занятий своих не изменил: в городе жил он по обычаям деревни. На Митькином дворе пел петух, мычала корова, слышалось повизгивание свиньи и лошадиное ржание. Земля кормила его и каждую весну он налаживал плуг, чтобы вспахать свои городские сотки.
Конечно, не один Митька в нашем городе занимался огородничеством и держал скотину: в пору моего раннего детства все наши соседи имели сады и огороды, у кого побольше, у кого поменьше было земли, но ни у кого земля не пустовала. У многих были коровы, а уж поросенка откармливать было необходимым делом. Только лодыри и бездельники вроде Дупицыного Савоськи ничего не имели и ничем не занимались, но такие были не в счет.
В Новозыбкове не только на нашей улице, но и в центре города на Ленинской и Коммунистической улицах у всех были сады и огороды, и многие держали коров. Русские города испокон веку так планировались, чтобы у каждого дома имелся огород и сад. Как же можно иначе было жить семье и растить детей? Даже в Москве в конце девятнадцатого века в центре города, да не где-нибудь, а на Кузнецком Мосту горожане держали коров.
Так что не диво, если Митька, живя в городе, занимался землей и жил от земли. В отличие от него многие другие горожане, имея приусадебные участки, где-то работали или служили, а Митька был только землеробом. Хозяйствовать он умел. То, что мужик он был злой, от которого того и жди, что какая-нибудь неприятность может получиться, это верно, но это вопрос другой. А вот хозяином он был хорошим. Такие, как Митька, не дали бы пойти в разор сельскому хозяйству России. С умом был мужик! Взять хотя бы его вороного жеребца. Извозом на нем Митька не занимался, как это делали на своих лошадях Нигрей, Меер – муж Симы Соркиной или Алексеев батька. Вороной жеребец приносил Митьке доход иным способом.
Как-то в прохладный летний вечер после небольшого дождичка Митька вывел своего коня на улицу, спутал ему ноги и пустил попастись на травку. Какой же он был красивый, этот конь, вороной, без единого пятнышка, ни звездочки на лбу, ни белых «чулочков» над копытами, весь беспросветно черный, лоснящийся, высокий, элегантный и немного опасный. Когда Митька босой в распоясанной рубахе стоял рядом со своим конем, то, казалось, как будто слуга стоит рядом со своим господином.
Митькин конь особого интереса к уличной травке не проявлял. Не то, что мохноногий гнедой меринок Нигрея, деловито и серьезно кормящийся свежей после дождика травкой. Митькиному жеребцу такая пища – не корм, а так, баловство одно. Да и на Митьку непохоже, чтобы он пускал своего коня кормиться уличной травой, у него в собственном саду было, где накосить достаточно хорошего сена или свежей травы. Дело было здесь в чем-то другом. Отпустив жеребца, Митька уселся на лавочке у своего дома, чего с ним почти никогда не бывало. Похоже, что он кого-то ожидал. И точно! Вскоре из-за угла Канатной улицы показался всадник на неоседланной лошади и уверенно повернул в нашу сторону.
Митька и его конь по-разному отреагировали на появление всадника: Митька тотчас же юркнул к себе во двор, и было слышно, как он там ругался и гремел цепью, сажая своего лютого пса на короткую привязь, а Митькин конь вскинул голову, перебрал спутанными передними ногами и коротко заржал. Митька выскочил из калитки как раз в то время, когда подъехавший мужчина спешился у ворот и оглаживал свою забеспокоившуюся лошадь. Это была такая же, как и Митькин жеребец, вороная кобыла, только поменьше ростом. Митька и подъехавший мужчина о чем-то коротко переговорили и Митька направился к своему жеребцу.
Дальнейшее все было очень интересно, но непонятно для меня и немного страшновато. Сначала я хотел убежать к себе во двор, но любопытство удержало меня на улице. Едва Митька распутал ноги своему жеребцу, как он в несколько прыжков оказался рядом с кобылой. Та шарахнулась от него на средину улицы, вырвав повод из рук хозяина. Подоспевший Митька попытался удержать своего коня, но куда там! Он взвился на дыбы, в одно мгновение догнал кобылу и вскинулся, пытаясь наскочить на нее сзади, но она подбросила кверху лоснящийся круп и обеими копытами задних ног попала жеребцу в грудь. Это не охладило его. Два разъяренных коня носились по улице, кусались, били копытами, у них из-под копыт клочьями летела трава и комья земли, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы шустрый и бесстрашный Митька не овладел ситуацией: он сумел поймать за повод кобылу, и хозяин увел ее во двор. Через некоторое время несколько успокоившегося жеребца Митька повел туда же.
Интересно, что во время всего этого любовного дивертисмента пасшийся неподалеку гнедой конь Нигрея никак не выказывал своего отношения к происходящему. Щипал траву, да время от времени вскидывался, прыжками переставляя спутанные ноги, перемещаясь на необъеденное место. Воробьи, напуганные буйной лошадиной игрой, снова слетелись на дорогу и принялись за свою хлопотливую работу по раздобыванию корма в тележных колеях и на обочинах, Что произошло за тяжелыми воротами на Митькином дворе, мне, к моему сожалению, подсмотреть не удалось. Я хотел было залезть на забор, отделяющий Митькин двор от нашего, но мама вовремя заметила мои поползновения и пресекла их.
Вероятно, свидание Митькиного красивого коня с его гостьей в дальнейшем развивалось с менее бурными проявлениями лошадиных темпераментов и завершилось с желательным для людей и животных результатом. Я помню, что бывали и другие случаи, когда на Митькин двор некие граждане приводили своих лошадок, но особого шума от этого не возникало, наверно, по причине большей смиренности и готовности четвероногих дам подарить свою благосклонность неотразимому вороному Митькиному красавцу.
Похоже, что Митькино хозяйство было безубыточным.
Иногда я замечал, как незнакомые опрятные бабушки приводили к Митьке своих послушных деликатных козочек. Встречи этих бородатых соискательниц благосклонности Митькиного козла происходили при полном взаимопонимании и соблюдении всяческих приличий. Застоявшийся Митькин козел, видимо, пользовался большим успехом у своих посетительниц.
Как и многие жители нашей улицы, Митька имел уличное прозвище, которое, вроде псевдонима у деятелей литературы и искусства, не то что скрывало, а упрощало официальное именование человека. По первоначалу на нашей улице Митька прозывался так: Митька-горшечник. Вторая половина этого прозвища отпала сама собой, поскольку не подтверждалась ни родом занятий и ничем другим в новых обстоятельствах Митькиной жизни, и для сограждан ухватистый, напористый и немного опасный Дмитрий Макарович стал просто Митькой.
Уверенный в безошибочности ведения своего хозяйства, ни у кого не спрашивающий никаких советов, он все-таки на моей памяти один раз здорово промахнулся в осуществлении своего решения. Его дом был покрыт железной крышей, и пришло время эту крышу красить. Митька долго прицеливался и выбирал такой день, чтобы не подвела погода и, не приведи Господь, не пошел бы дождь, потому что заново покрашенная крыша может благополучно высохнуть только при ясной погоде. По каким-то своим приметам Митька выбрал такой день и нанятые маляры быстро и сноровисто выполнили свою работу: крыша Митькиного дома заиграла под солнцем свежей краской. Но, как на грех, часам к четырем собрался дождь. Сначала он покрапал помаленьку, а потом рванул такой ливень, что всю новую краску с крыши Митькиного дома смыло начисто.
Как же ругался Митька! Как же он безбожно материл и дождь, и небо, и всех без разбору «святителей-крестителей». Даже мне, испорченному школьными антирелигиозными наставлениями, было страшновато слушать это богохульство, а мама крестилась и приговаривала: «Господи, прости его душу грешную».
Митькино бесстрашие перед Богом объяснило нам с Федей одну непонятную находку. Наш двор в одном месте отделялся от Митькиной усадьбы глухой стеной длинного амбара. Стена была построена из очень плотно прилегающих одно к другому крепких бревен и никак нельзя было подсмотреть, что там за стеной у Митьки хранится. Однажды из-под стрехи амбара вывалился засохший скелет вороны, весь в полусгнивших перьях. Мама сказала, что Митька для обережения от нечистой силы держал эту ворону. Нам же с Федей казалось, что это не так: мы понимали, что от нечистой силы следует обороняться крестом и молитвой, а вороний скелет в перьях по нашему представлению мог быть как раз чем-то таким, что должно сопутствовать этой самой нечистой силе. Словом, Митька, кроме того, что он был жлоб и ругатель, стал в нашем представлении еще и причастным к каким-то темным и непонятным суевериям и заклинаниям. Мы с братом забросили вороньи останки на крышу Митькиного амбара с тем, чтобы его амбар и все Митькино владение пребывали под обережением его мерзкого талисмана.
Подрастая, мы перестали бояться нашего соседа. Мама нам говорила, чтобы мы – Боже упаси – никогда не залезали в Митькин сад, и хотя хорошие груши и яблоки росли в Митькином саду, что представляло для нас немалый соблазн, мы никогда ничего в нем не трогали. Причиной этому была не боязнь, а что-то другое. Может, в нас проявлялось презрительное отношение к Митьке, и мы без труда преодолевали желание хоть какой-то малостью попользоваться из соседнего сада и никогда не подняли в траве на его территории ни одного упавшего с дерева яблока, не говоря уже о посягательстве на растущие на деревьях плоды. Над нашим огородом нависали ветки огромной старой груши, той самой, под которой когда-то случился конфликт у нашего отца с Митькой. Вкусные, спелые груши падали в нашу картошку и мы собирали их в ботве, справедливо считая их нашей добычей, но то, что лежало на Митькиной стороне хотя бы и совсем рядом – просто руку протяни и возьмешь – мы никогда не трогали. Митькин сад, вообще, был неприкасаемым и даже самые отпетые ребята не проявляли к нему интереса. А слухи о том, что у кого-то в саду то грушу-спасовку начисто отрясли, то белый налив обобрали, ходили часто. Митькиного сада это не касалось, наверно, известно было, что шутки с ним плохи.
В Митькином саду стояла сторожевая будка и никогда с уверенностью нельзя было сказать, есть там кто-нибудь или нет. Казалось, что Митька всегда все видит в пределах своих владений. Так оно, пожалуй, и было. Мои старшие братья судьбу не испытывали и соседским садом не интересовались, но был все-таки случай, когда один отчаянный человек решился совершить небезопасную экспроприацию в Митькином саду. К немалому моему удивлению этим человеком оказался мой хороший товарищ Алексей Копылов.
Странно мне теперь обо всем этом вспоминать: Алексей в 1943 году погиб на войне, Митька умер в преклонном возрасте, их обоих приняла земля, их нет на этом свете, но какие же мелкие, какие ничтожные страсти руководили их поступками. Алексея понять можно – это же обычное мальчишеское дело по чужим садам шастать. Но Митька!.. Стоило ли ему так несоответственно событию реагировать на случившееся?
Я чем-то занимался на нашем дворе, когда вдруг услышал ужасный вопль, душераздирающий крик и ужасную ругань. Я выскочил за калитку в сад и успел увидеть, как по соседским картофельным огородам летел, гонимый страхом, мой товарищ, а за ним, значительно уступая ему в скорости, босой, всклокоченный и в распоясанной рубахе мчался Митька, размахивая каким-то карательным оружием. Алексей пробежал через свой огород и двор и, понимая, что родные стены ему сейчас не защита, выскочил за калитку на улицу и бросился спасаться от разъяренного преследователя в сторону Красной улицы. Митька не догнал Алексея. А если бы…
Алексей мне потом рассказывал, что злобный Митька дождался, пока он залез на дерево и сорвал несколько яблок и только тогда выскочил из будки. Я спросил:
– А что у него в руке было, когда он гнался за тобой?
– Точно не видел, но вроде бы ремень с гирькой, – ответил Алексей.
Вот такой лихой был мужичок наш сосед Дмитрий Макарович: за пару яблок мог человека убить. Около его дома на улице стояла старая ракита, весной под ней летали хрущи. Обычное веселое занятие ранней весной ловить хрущей. Под Митькиной ракитой, хоть и на улице, заниматься этим надо было с большой опаской. Он всегда прогонял нас:
– Идите, идите отсюда! Ловите в другом месте, вон к Юрченихе ступайте, там тоже хрущи летают. Марш отсюда!
Таким крутым хозяином был Митька.
А с другой стороны, ни на что чужое он никогда не посягал, но уж за свое кровное готов был стоять насмерть. Сельский человек, он хорошо вписался в условия городской жизни и мог бы вполне нормально сосуществовать с экономическими требованиями города. Его огородное хозяйство, доход от сада и скота обеспечивали ему прожиточные потребности на хорошем уровне. (Хотя кто его знает, какие, в самом деле, у него были потребности.) Трудолюбивого Митьку, как и всех подобных ему российских жителей, подкосила система. С полной победой колхозного строя тихо и неотвратимо подошел голод 1932 – 33-го годов. Это страшное время Митька преодолел с меньшими потерями, чем многие другие, но хозяйство его расстроилось. Он расстался со своим вороным жеребцом, исчез со двора козел, но корова и куры все-таки у него сохранились. Он все еще бодрился, суетился, ухаживал за огородом и садом, но чувствовалось, что все это делалось без прежней неистовой целеустремленности и уверенности. Всякого рода налоговые притеснения вконец сломали его.
Чего стоило только одно требование городских властей сдавать государству шкуру каждой забитой свиньи, для чего уполномоченные Горсовета ходили по дворам и регистрировали каждого купленного поросенка.
Лет за пять до войны совершенно неожиданно для соседей Митька продал свой дом. Жил он к тому времени один, Маша уехала от него незадолго до продажи дома, от Шурки так же, как и от флотского сына, никаких вестей вроде бы не было. Дмитрий Макарович погрузил на телегу оставшееся от продажи имущество и, ни с кем не прощаясь, навсегда покинул нашу улицу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































