Читать книгу "Красное вино Победы"
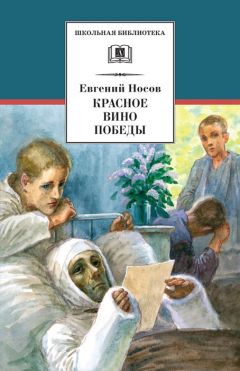
Автор книги: Евгений Носов
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Куличок-веснячок!
На тебе зиму,
А нам лето!
Я сразу его полюбил, проникся родством и соучастием в вешнем таинстве, напрочь забыв, что у него два носа, не положенных одному едоку. И мы помчались по избе отыскивать благодать. Залетели в горницу, где все так же озабоченно прихрамывали ходики с жестяной гирькой, внутрь которой было что-то насыпано. В простенке на одиноком гвозде висели черные ножницы, похожие на присевшую передохнуть острокрылую ласточку-касатку. Бабушка кроила ими косячки для лоскутного одеяла, а дедушка Алексей под праздники обравнивал себе бороду, выворачивая глаза, будто в упряжке его конек Мальчик, косо заглядывая в квадратик зеркальца, зажатого в большой разлатой ладони, и неловко, криволапо, чаще всего мимо чвыркая стальными крыловидными лезвиями.
Мы присели на сундук, застеленный грубой домотканой попоной, ярко игравшей сочетанием черно-белых полос и красных, зеленых и голубых квадратов между ними. Для обители мы выбрали себе зеленое и голубое, потому что зеленое означало долгожданную зеленую травку, а голубое – чистую светлую воду, заречное Линево озеро, где, по правде, я и сам еще ни разу не был, а только слыхивал…
Потом перепорхнули на окно, где действительно уже воцарилось лето, потому что там росли настоящие живые цветы, бабушкины фуксии, с подпирающими лесенками из сосновых лучинок, с синими китайскими фонариками самих цветов, выстланными изнутри чем-то розовым, нежным, сияющим, отчего казалось, будто там, внутри, и в самом деле горели, светились маленькие восковые свечи.
А за окном празднично сияло солнце. Оно наконец-то одолело и вовсю голубило небо и воду, слепяще взблескивая на оторочках облаков, клочьях уцелевшего снега, на изломах мимо проносящихся льдин и чешуйчатой ряби под вешним ветром. И не удержалась душа:
– Ба-а! А ба-а! Ладно, я на улицу?..
– Не выдумывай! – решительно отвергла бабушка.
– Ну, ладно?..
– Знаю я тебя: враз по гузку залезешь.
К бабушке я приехал во всем зимнем, а главное – в валенках. Кто же знал, что «Хведот» потопнет у ворот…
– Ну, ба-а?..
– Токмо штоб с крыльца ни-ни-ни!..
…Не бывает на свете стран слаще крыльца отчего дома вешней порой!
Двор неистово сверкал бесчисленными бриллиантами, вытаявшими из подзаборных снегов. С огородов на улицу сквозь щелястый плетень мчался гомонливый поток, полный такого же неудержимого живого сверкания.
С навеса над крыльцом, из водоотводного ковшика бегло, спеша успеть, срывалась бесконечными четками слепящая капель и била, била в выдолбленную ледышку у порога. Само же крыльцо, залитое солнцем, курилось ленивым парком, и от подсыхающих досок невнятно веяло солодовым запахом ивовой колоды.
Ты приди, краса девица,
Дай из рук твоих напиться! —
завопил я с крыльца от невозможности молчать и воздел кулика к солнцу. – О-йо-йо-ё!
Видимо услыхав мое истинно языческое обращение к небесам, с теплой погребицы поднялся и, потянувшись, вякнув пустым нутром, прямо по всем этим хрусталям и алмазам, кроша зыбкие сверкающие мирозданья огромными когтистыми лапами, ко мне побрел вялый, заспанный Сысой, вовсе не подозревавший, что сегодня такой необыкновенный день. Впрочем, на середине двора он что-то заподозрил, поводил башкой и, уставясь на трубу, откуда, должно быть, все еще тянуло печевом, долго, старательно нюхал воздух, шевеля мокрой нашлепкой носа, время от времени медленно приоткрывая пасть и как бы перекладывая бесполезные челюсти в более удобное положение.

В чем-то убедившись, Сысой присел прямо в отраженное солнце, почесал задней лапой за обвислым ухом, после чего пошлепал ко мне беспечной развалочкой, еще издали завиляв хвостом. И чем ближе подходил он, тем вилял все ретивей, так что перед самым порогом принялся вихлять и всем задом.
– Привет! – сказал я ему горделиво с высоты крыльца.
Тот еще больше завихлялся и, льстиво прижимая уши, ткнулся в мой живот, потом осторожно, деликатно понюхал кулика в моей руке.
– Нельзя! – сказал я неодобрительно.
Сысой неохотно отстранился и уставился на мою руку, не сводя с нее теплых подсолнечных глаз с черными бусинками зрачков. Но не утерпел и опять потянулся мордой.
– Не лезь, дурак! – Я спрятал кулика за спину.
Сысой передними лапами заступил на крыльцо и заглянул за мою спину.
– Говорю, не лезь! – повысил я голос, с трудом отворачивая прочь голову Сысоя.
Сысой нехотя попятился с крыльца и, усевшись напротив, нетерпеливо, вожделенно лизнул свой пупырчатый нос длинным и мокрым языком.
«Дай!» – произнес он не очень уверенно.
– Не дам! – решительно отказал я. – Его не едят. С ним играют. Он нам лето принесет! Травку и теплое солнышко!
«Дай хоть понюхать…» – ерзнул задом Сысой.
– Сказано, не дам! Иди, дурак, если простых человеческих слов не понимаешь. Был балбес, балбесом и остался.
Сысой вздернул темные шишки над глазами, отчего морда его обрела скорбное выражение, и заглянул мне в глаза внимательным, смущающим взглядом.
– Ба-а! – загунявил я, не поняв этого взгляда, и на всякий случай приподнял кулика над своей головой. – Сысой кулика нюхает!
На мою ябеду Сысой откликнулся мгновенно и решительно: слегка привстав на задних лапах, он дотянулся до кулика и мгновенно сцапал его вместе с моей рукой. Я лишь успел почувствовать жаркий охват влажной пасти и какое-то клокочущее всасывание воздуха, а когда Сысой снова опустился на прежнее место, кулика как не бывало. А главное, на моей обслюнявленной ладони, только что побывавшей между ослепительно белыми зубами, я не увидел ни единой царапины. Оторопело, не в состоянии ничего промолвить, я глядел то на свою руку, то на Сысоя, а он, обмахнув себя долгим пламенным язычищем, удовлетворенно переступил передними лапами и добродушно заухмылялся во всю свою безразмерную пасть, как бы подведя общий итог нашим препирательствам: «Ну вот! Теперь все справедливо: сам есть не хочешь – отдай другому».
И тут меня прорвало. Я заревел – заревел некрасиво, каким-то утробным ревом на самых низких басовых и сиплых нотах – так мне сделалось обидно от этой неожиданной выходки Сысоя, от грубого его насилия.
На крыльцо выбежала встревоженная бабушка, принялась теребить меня расспросами.
– Да-а-а… – ревел я. – Сы-со-о-ой…
– Сысой? Укусил?! Покажи, где…
– Кулика съе-е-ел…
– Ах ты, проклятущий! – Бабушка схватила в сенях метлу.
Сысой взвизгнул по-щенячьи и, подобрав хвост, опрометью рванул в огороды.
– Вот я т-тя! Наказание на нашу голову! – Бабушка гневно постучала комлем метлы о порог. – Попадись мне! Никак не наглотаешься! Я ж токмо те картоху отдала. Да сам к поросенку залез, мешанину полопал… Какова ишо рожна?
Сысой, спрятавшись за плетень, опасливо заглядывал в дырку, виновато, понуро слушал попреки.
– Ну, будя, будя… – Бабушка щепотью цапнула за мой мокрый нос и повела к избу.
– Мэ-э… – ревел я бычком.
– Не плачь: я те другова кулика дам…
– Не хочу другова-а-а…
– Ну хочешь, я кулика вареньем намажу?
Я заревел еще пуще, потому что мне нужен был не кулик-еда, а кулик-праздник, которого я полюбил и которого мне было неутешно жалко. Другого кулика я не хотел, даже намазанного вареньем. Но этой своей утраты я тогда объяснить не мог и только отвергал все бабушкины посулы и увещевания, отказался и от обеда и, забившись под косой столик в красном углу горницы, где расположился киот и горела лампада, горестно оплакивал невосполнимое, что на языке взрослых называлось «не хлебом единым»…
– А вот повой, повой, – ссорилась уже со мной бабушка, утратившая надежду выманить меня из-под стола. – Бог услышит твое вытье и накажет. Ибо сказано: грешен тот, кто плачется о самом себе… Понял?
Дедушка Алексей объявился надвечер, по косому солнцу. Он тут же вытащил меня из-под столика, пяткой ладони отер мое набрякшее лицо и молча усадил есть с ним парящие щи с сушеными опенками. Это сразу сняло все мои напряжения, и я стал ровнее дышать и видеть предметы. Перед тем, как почать новую ковригу, он тоже перекрестился в моментной строгости, после чего отрезал добрую зажаристую горбушку, посолил круто, встал и вышел на крыльцо. Я слышал, как он посвистел Сысою, тот обрадованно прибежал, начал визгливо подпрыгивать, но, получив хлеб, сразу же убежал и затих на погребице.
– Пойдем настоящих куликов смотреть, – сказал дедушка за обедом.
Мы ели из одной большой черепушки, каждый со своего края, и когда дедушке попадались черные верткие опята, он перекладывал их в мою неловкую ложку.
Собирал он меня по-своему: запеленал в свой старенький полушубок, опоясал суконным кушаком и в таком шубном, пахнущем овчиной куле отнес на бревна, что лежали у ворот на улице.
Вода наливалась зарей в двух саженях от бревен. Первым делом дедушка воткнул прутик у ее кромки. Он опасался дальнейшей прибылости и потому принес с моток колючей проволоки, топор, битый кувшин с гвоздями и принялся опутывать подо мной бревна, чтобы не растащило половодьем.
– Проволока-то эта еще от Колчака, – говорил дедушка сквозь усы, из которых торчал гвоздь. – Тут ее полно было намотано. Особенно по тому берегу. Токмо ленивый не натаскал, – и засмеялся: – Теперя друг от друга городимся!
Иногда совсем близко проплывала заблудившаяся льдина и было слышно, как она пахала и скребла дно, сотрясая берег и бревна, на которых я обретался, спеленутый и недвижный. Я пугался ее близости и сокрытой мощи, и чудилось мне, будто это не просто лед, а огромное животное брело по дну, выставив только спину, грязную, затрушенную соломой и конскими катышами, и я окликал в тревоге:
– Деда-а!
– Тут я, тут…
Дедушка хватал острогу на долгом шесте и, упершись трезубой остью в льдину, отводил ее зад под струю. Течение медленно воротило громадину, сволакивало с мели и, подхватив, уносило прочь.
– Нечево ей тут делать, – провожал льдину глазами дедушка. – От них потом грязь одна…
Прибежал Сысой, похлебал возле воткнутого прутика, полил на него и улегся под бревнами.
Постепенно засумерило, утонул во мгле, истаял тот берег с лесным загривком на краю неба. И чем заметнее угасал день, тем ярче расцветала зоревой позолотой речная гладь с резкими прочерками бегущих льдин, кругами сыгравшей случайной рыбы.
Вот в светоносном вечереющем небе послышался гортанный переклик. Усталые звуки, иссякая, бесследно таяли в просторах безоблачной выси.
– Гуси! – Дедушка восторженно замер, прижав к темени шапку.
Я распахнул пошире полушубок и в просвет ворота увидел долгую вереницу больших тяжелых птиц, бронзово сиявших крыльями на неспешном махе. Должно быть, завидев воду, стая начала разворачиваться, заметно убавляя высоту. Тысячная цепь, все время менявшая очертания, наконец порвалась на две ватаги, и обе, снижаясь порознь – одна все еще бронзовея в закатном трепете зари, другая – уже подернутая мглистой синью, – перекликались с тревожной озабоченностью, как бы боясь потерять друг друга.
– Уморились… Шутка ли – Росею перелететь! – сочувственно и уважительно сказал дедушка. – Ночлег ищут. Остров али мелкую снежницу на лугу. Вот ведь как у них строго: все полягут без сил, а сторожа будут стоять на часах, тянуть шею, зыркать туда-сюда, пока не сменит свежая вахта. Чтоб никто не подкрался.
– И волк?
– Дак и волк.
– И лисица?
– Куда ж ей, ежели кругом вода…
– А снежница – это чево?
– А это и есть снежная вода. Она хоть и мелкая, а не подойти: шаги далеко слышно.
А между тем река незаметно догорала, невесть когда сошла с нее позолоченная фольга и вода взялась сизой окалиной, переходящей в бархатную тьму по кутным местам.
На подоконнике горничного окна желтым язычком затеплилась керосиновая лампа. Это бабушка выставила ее подсветить нашему делу.
Но дело уже было закончено, и мы оставались на бревнах просто так, отходя в ночь вместе с окружающим пространством. Мир, погружаясь в темноту, не утихал и даже, казалось, являл свое бытие с новым усердием. Невидимо струилась, всплескивала, теребила затопленные ивняки, звенела льдистой осыпью и где-то тяжко ухала земляными подмывами ночная река, тысячеголосо квохтало, цвикало, утино покрякивало, попискивало мелкой птичью бездонное небо, и тихо прорезался, обозначив восток, ясный коготок молодого месяца.
Совсем низко, так, что мне почудилось прохладное опаханье на щеках, пролетели какие-то птицы и донеслись охватистые взмахи широких крыл: вах, ах, вах, вах…
– Чибиса́ пошли. – Дедушкин голос почему-то отдалился.
– А чибис – это чево?
В темной утробе полушубка было тепло, дремотно, и я уже не знал, было ли то явью, когда почудилось свыше: «Братцы, туда ли мы летим?» и «Туда, туда!» – «Тут где-то Чевокало живет…» – «Датут он, тут! Вон окно в его избе светится!..» Летели кулики…
Кто такие?

1
Дедушка Алексей ходил куда-то с пешнёй, вернулся надвечер – оживленный, пахнущий морозом, в белом окладе инея.
– Все! Стало болото! – оповестил он мальчишески радостно. – Лед аж на вершок. Хоть пляши!
– В самый раз к самовару, – ровно, не оборачиваясь, сказала от стола бабушка. – Садись, чайком обогрейся.
– Завтра, говорю, по камыш надо бы… – возвысил голос дедушка, не отходя от порога. – Будем этак чаевничать, дак и промешкаемся. Всяк того только ждет, чтоб болото схватилось.
Он пересунул на голове вислую баранью шапку, застившую глаза, и вышел обратно в сени, опахнув меня стылым бодрящим предзимьем, повеявшим от его одежды. И оттого, что канавы и лужи сковало льдом и что дедушка пришел весь в инее – и усы, и бахрома его хаджи-муратской шапки, – мне тоже сделалось радостно, как бывает только на праздники.
В оконную продушину было видно, как дедушка выволок из-под навеса салазки, похожие на взаправдашние розвальни. Он смастерил их после того, как свел в колхоз свою лошадь. Сперва переживал, с печи не слазил, даже от еды отказывался. Но потом, отмолчавшись, принес из амбара рундучок с инструментом, навострил топор и принялся тесать копылки, ладить полозья – точь-в-точь как у настоящих саней, только все поменьше, полегче, словно бы для маленькой лошадки. Этой лошадкой и становился сам дедушка Алексей, впрягаясь в санки по разным дворовым надобностям: то по воду, то по хворост в заречную кулигу…
В салазки он положил топор, моток веревки и уже в сумеречном полусвете, усевшись верхом на козелки, взялся отбивать косу. Пройдясь по лезвию еще и оселком, он уложил косу вдоль древка, обмотал мешком и тоже упрятал в санки.
Потом дедушка, измятый морозом, испариной и дорогой, неспешно, отдыхая, ужинал, зачерпывал деревянной ложкой капустные щи с грибами, а я все вертелся поблизости, томимый неизвестностью: возьмет он меня на болото завтра или не возьмет. Спросить напрямую я не решался, боясь получить такой же прямой отказ, а так хоть теплилась надежда, что он все же заметит мою неприкаянность и скажет, смягчаясь: «Ну, ладно, что с тобой делать…» Но дедушка не замечал…
Проснулся я от какого-то беспокойства, докучавшего всю ночь, и, едва открыл глаза, как сразу же испугался, что все проспал. Отбросив одеяло, я подскочил, как ванька-встанька. В проеме кухонной двери оранжево метался отсвет, а на дальней озаренной стене время от времени промелькивала угловатая тень: это бабушка уже растопила печь и орудовала рогачами, переставляя и пододвигая к огню горшки и чугунки. Но дедушки не было ни слышно, ни видно. «Уехал!» – похолодел я и, босый и голопопый, испуганно выбежал на кухонный свет.
– Гляди-ка! Воробей из-под застрехи! На огонь залетел! – завосклицал, заудивлялся дедушка. Он сидел на припечке и в неверном свете пылающей печи пришивал к полушубку пуговицу. – Пошто в этакую-то рань? Еще и петухи, поди, не кукарекали, а он уже – здрастье вам. А-а?
Вместо ответа я залетел прямо на распластанный по коленям овчинный кожух и обхватил дедушку за шею.
– Ты чегой-то, чего?! – Дедушка отвел в сторону руку с иголкой. – Все мое шитво перебил. А ежли б укололся? Или чего нехорошее приснилось? Гляди, волосенки все мокрые, не иначе, как напугался.
– Возьми меня с собой! – жарким захлебывающимся шепотом выпалил я свою истому. – Возьми, деда!
– Ох ты! – изумился дедушка, силясь разъять мои обвитые руки. – Как это – возьми? Небось не крендель: в карман не положишь.
– Я сам… сам побегу… своими ногами, – лепетал я в дедушкину бороду. – Ну, деда, – а?
– Дак это, голубь ты мой, не ближний свет. Это – эвон куда, аж на Буканово болото. Никаких твоих ног не хватит.
– Хватит! – уверял я.
– Ой ли! Это ж туда да таким же порядком обратно. А обратно не с пустыми руками. Ну-ка, раскинь умной головой.
– Ну деда-а… – затряс я дедушку обеими руками.
– Куда это? Куда? – прослышала бабушка.
– Да вот, сорви-голова на болото просится.
– Еще чего! Какое болото? – послышалось из-за печи. – Вот и кошка на мороз лижется, заднюю лапу задирает. А ты – на болото…
Все мои доводы кончились, и я заревел.
– Ну вот… – смутился дедушка. – Ну будя, будя!
Сквозь слезы я смотрел на кошку, которая, сидя на лавке, старательно вылизывала себе брюхо, прямо и высоко выставив из-за уха заднюю лапу.
– Да-а-а… – озлился я на кошку, подтверждавшую какую-то неприятную для меня истину, и это короткое «да» исходило из меня столь нескончаемо и беспросветно, что дедушка еще больше смутился и, огладив мои взъерошенные волосы, заговорил нетвердо:
– Ну ладно, ладно… Что с тобой делать… Ну ша, ша, говорю… Баб, где его теплые чулки?
2
Высокое морозное небо, полное зоревого света, глубоко и торжественно сияло уже без единой звезды, и все, что попадало в это озарение – серп ли припозднившегося месяца, легкая поднебесная гряда облаков или проснувшаяся сорока, торопливо пересекавшая эту пустынную рань, – все было подсвечено и степлено процеженно-чистым отсветом близкого утра.
Здесь же внизу, у земли, еще было сумеречно и сонно: густо синела под ногами первая снежная наметь, таинственно проступали опушённые морозной синевой ивняки, в низинах синели припорошенные кочки и высились заиндевелые изваяния чертополоха, похожие на причудливые подсвечники, кем-то расставленные по всему подсиненному лугу. А если оглянуться назад, то на синем береговом откосе виднелась наша деревня под синеватыми заснеженными крышами, испускавшими из труб густые синие дымы, долго и прямо устремленные в еще заспанное в той стороне аспидно-мглистое небо.
Мы споро вышагивали, подбадриваемые щипучим морозом – дедушка в рыжем, с заплатой на спине бараньем кожухе, охваченном красной опояской, я – в своей ватной одежке, перекрещенной на груди и под мышками шерстяным платком, и в бабушкиных разлатых валенках, набитых по этому случаю соломой и отвернутых для ловкости ходьбы. Под ногами хрустко рушилась смерзшаяся пороша и в звонкой луговой тишине на каждую пару дедушкиных протяжно-скрипучих шагов откликались три-четыре моих торопливых побежки. Дедушка скрипел свое: шак-шак, я свое выскрипывал: шаки-шаки, шаки-шаки. Гляжу на деревню – далеко ушакали!
– Уморился? – окликал дедушка.
– Не-к!
– А то садись в санки.
– Не-к! – бодро не соглашался я.
В санки мне, конечно, хотелось, но вовсе не от усталости, а просто так, ради интереса. Однако я упорствовал и не садился, поставив перед собой задачу доказать всем и дойти до болота своими силами.
– Смотри, нос не прозевай, – наставлял дедушка, сам успевший мохнато заиндеветь, особенно шапка, сделавшаяся похожей на побелевшую головку чертополоха. – Три рукавичкой. А то эвон как прихватывает! В момент отморозишь пипку.
В лугах было сухо и звонко, мороз законопатил все засырелые места, все застойные мочажинки, озерки и лужицы, накопившиеся от осенних дождей, которые прежде пришлось бы докучливо обходить, а ныне, напротив, все они стали даже желанны, поскольку и санки по ним катились играючи, и мы сами – сперва дедушка, а за ним и я, прокатывались с разбега, весело скользили на подошвах. Так что можно было бежать, не глядя под ноги, и дедушка, на самом деле не выбирая дороги, правил напрямки, на всё золотей, всё огнистей занимавшуюся зарю.
«Кру, кру…» – вдруг послышалось сверху басово, глуховато и опять: – «Кру, кру…» Я даже не сразу понял, откуда это шло, но дедушка, остановившись и сдвинув на затылок шапку, сказал, как о давно знакомом:
– A-а! Дозор пожаловал!
Две большие черные птицы, отсвечивающие багряными бликами, с неторопливым, размеренным посвистом крыльев делали вокруг широкий облет. Мы глядели на них, тоже поворачиваясь, переступая на месте.
– Во́роны! – как-то уважительно проговорил дедушка. – Прилетели посмотреть, кто такие объявились в их угодьях.
«Кру, кру?..» – доносилось, как дознание. – «Кто? Кто?»
– Запоминай: без единой пестринки, клюв и тот черный. А под клювом вишь вон – борода. Не ворона, а во-о-орон! Большая, братка, разница. Ворона – та и на забор сядет, и по отхожим местам охоча пошарить, в свином корыте поклевать. А ворон – никогда! Гордая птица! И заметь: завсегда парой летает. Не шайкой, как вороны, не базаром во все небо, как грачи, а только вдвоем: он и она. И никого больше им не надо. Он выбирает себе подругу на всю жисть. Хорошая попалась али плохая – никогда не меняет. Ему все равно хорошая. А жисть у них до-о-олгая. Сколь я бываю в этих местах, считай, от самого детства их вижу. Привыкают друг к другу, как два сапога пара: один сапог без другого не ходок, так и они. Вишь, ладно летают, будто одной веревочкой связаны.
Во́роны сделали над нами полный широкий круг и, в чем-то своем удостоверившись, все так же степенно и слаженно снова повернули к лесу, растворившись в багряном разливе зари.
А солнце было уже совсем близко. Раскаленным углем оно прожигало себе ход в стылой неразберихе ветвей и сучьев приближающейся кулиги. Вскоре и вовсе словно бы пожаром занялся, воспылал лес в том месте. Над верхушками старых ракит вдруг выбрызнулись лучи, а следом красно взбугрилось и само солнце. Оно выкатилось огромное, багровое и вовсе не жаркое, не ослепляющее, каким бывало летом, а как бы уже по-зимнему поостывшее, присмирелое, позволяющее смотреть на себя не застясь, не щуря глаза. Я никогда не видел светила так близко. Казалось, будто оно и на самом деле почивало где-то поблизости, в кулижных дебрях, в пожухлых зарослях дягиля и куманики, и оттого, наверно, не очень хорошо выспалось. Но и полусонное и как бы подзябшее солнце все еще было полно царственной власти над силами тьмы: едва оно приподнялось и выглянуло поверх леса, как по лугу, по всей обозримой округе побежал разлив пробуждающего озарения, от которого румяно вспыхнули снега, дотоль синевшие предрассветно, воссияла морозная опушь прозрачных кустов и ожила, обозначила себя и даже хрустально, празднично вырядилась каждая былинка, всякая травяная бубочка, казалось, уже забытая всеми и не нужная никому. Но пуще всего всполыхнули чистые бесснежные льды в лужицах и озерковых блюдцах, еще недавно жутковато черневшие под ногами. И высветилась золоченой дорогой дренажная канава, прямо пролегшая в самую тайную сердцевину Букановых болот.
«Кру, кру?» – снова завопрошали вороны. – «Кто такие? Кто такие?»
3
Дренажная канава служила нам хорошей дорогой, но вот и она поиссякла, занепроходимела: чернотал, калина, черемушник, вымахавшие по обеим сторонам канавы, чувствовали себя здесь, на бровке, столь привольно, что правобережные заросли местами принялись жить в обнимку с левобережными. А все это кулижное братство еще и опутано повоем и поползухой да пронизано пиками камыша, который вымахал тут, тягаясь в росте с ивняками. Пришлось дедушке извлечь из санок топор, чтобы править дорогу.
В одном месте канаву перегородил почти упавший ствол древней ракиты, некогда, должно быть, поверженной грозой, потерявшей вершину, с пустым гулким остовом, из которого гнило веяло погребом. Опершись на уцелевшие нижние, упористо расставленные ветви, дерево как бы пыталось привстать, приподняться над гибельной топью, но так и не смогло воспрянуть, и от долгой этой попытки приземленные ветви сами успели пустить корни и прорасти прогонистым молодняком – доверчивыми и беззащитными побегами. Даже в эту пору проростки не успели расстаться с листвой, по наивности полагая должно быть, что лето длится вечно… Разглядывая ракиту, что-то бормоча и прицокивая языком, дедушка, наверное, думал, как мне теперь кажется, о том, что, мол, когда-нибудь материнский ствол смирится со своей судьбой, обессиленно рухнет, обратится в труху, которую доедят грибы и короеды, и обретшие самостоятельность побеги наперегонки метнутся вверх, тесня друг друга, захватывая место под солнцем. Кто-то из них, возможно, вознесется настоящим деревом, вымахнет шумной ракитой, радующейся своей молодой силе, упругой гнучести ветвей и неусыпному плеску гомонливой листвы на ветру под солнечной синью. И, может быть, это будущее дерево облюбует залетная и тоже еще не родившаяся кукушка и просчитает отпущенные годы тому, кого тоже еще нет на свете…
– Да-а! – сокрушался дедушка, заглядывая в черное дупло ракиты. – Вот как жисть уломала. Земля она и вознесет, но и пригнет обратно. Все в свой черед.
Чем дальше мы пробирались, тем все гуще простреливали чащобу камыши. Их мягко опушённые метелки кивали от малейшего дуновения, роняя долу искрящуюся под солнцем морозную пыльцу. И вот наконец ивняки дружно разбежались по сторонам, и перед ними сплошной непроглядной стеной встало рыжее камышовое воинство – таинственное, жутковатое, вгоняющее в оторопь, как все, что кажется необъятным и неисчислимым.
– Ну, дак и пришли-и… – с благоговейной торжественностью оповестил дедушка и бросил ненужный теперь топор в санки. – Это и есть Буканово болото.
Переводя дух, он долго озирал камыши, от которых даже в безветрие исходил едва слышный ропот.
– А почему его зовут Букановым? – спросил я.
– Букалище тут живет. Потому и Буканово.
– Какое Букалище? – не понял я, невольно озираясь по сторонам.
– Ну… которое букает. Летом, когда солнце сядет, оно и начинает: «бу» да «бу»…
– А кто это? – допытывался я опасливо.
– Ну, как кто?
– Какое оно – Букалище? – Ко мне начал подбираться нешутейный страх, однако желание узнать было нестерпимо, как влекущ становится свет обжигающего огня для узревшей его комашки. – А, деда? Какое оно бывает?
– Этого я, голубь, не знаю, – признался дедушка. – Сам я не видел, а только слыхал, как оно букает.
От этой неизвестности, недосказанности мне стало еще боязней.
– А чего оно сейчас не букает?
– Ну, дак мороз, холодно, потому и не букает. Теперь оно где-нибудь спит.
– А где?
– Ну, кто ж это знает… Может, в том дупле, что мы давеча видели. А то дак и в камышах, в самой гущине. Огородит себе хатку, натаскает внутрь чего-нито теплого, свернется и спит себе до весны, чтоб опять букать. Ну да ладно, до лета еще не скоро, а зима – вот она. Давай, братка, начнем с Божьей помощью. Где там наша коса? Не обронили б часом по дороге…
Дедушка собрал косу, для пробы цапнул ею несколько близстоящих камышовых тростинок, и те, словно бы не поверив, что их уже подрезали, некоторое время продолжали, как и все другие, стоять, и лишь после того, медленно паруся метелками, нехотя полегли к дедушкиным ногам.
– А камыш весь целехонек! Никто ничего! – обрадованно удивлялся он. – То-то, смотрю, когда еще шли, ни единого следа. Выходит, мы с тобой первые. Ты не озяб ли? Нос цел? Шевелится?
– Шевелится!
– Тогда вот тебе аржаной сухарик, погрызи. А я почну помаленьку.
– А можно я камыш таскать буду? – попросил я.
– Дак ты и так, поди, пристал? Ай нет?
– Не-е!
– Ежели нет, то ладно. Вот сюда будешь складывать. – Дедушка указал место на чистом ледовом плёсе. – Комель с комлем, а метелку с метелкой, понял?
Лед под ногами казался настолько чистым и прозрачным, что поначалу даже было боязно по нему ступать, словно бы его и вовсе не существовало. Стайки мальков безбоязненно проплывали прямо под моими валенками, лишая меня ощущения какой-либо тверди под собой. Иногда проступали заросли каких-то недвижных, будто увиденных во сне, таинственных растений с распластанными листьями, по которым ползали рогатые улитки, волоча на себе витые остроконечные убежища. И только местами пузырьки болотного газа, вмерзшие на разных уровнях, выдавали присутствие льда и помогали осознать его надежную толщу.
Дедушка, позванивая о лед косой, успел сделать первый прокоп по самому краю камышовой чащобы, всякий раз вымахивая стебли на чистое место. Коса легко скользила по гладкой ледяной столешнице, срезая под самое основание вмерзшие дудки, так что после них во льду оставались одни только дырочки, и было удивительно, что через эти отверстия не выплескивалась на лед болотная вода. Тем временем я подхватывал посильные беремки, оттаскивал их в указанное место и там ладил и ровнял, как было велено, в одну общую вязанку.
Тут впору сказать, что в наших местах камышом называют вовсе не то, что в некоторых ученых книжках. По-нашему камыш – это трубчатое растение, перехваченное особыми узелками, какие бывают у хлебной соломы или бамбука. Этим-то камышом у нас кроют крыши, забирают стенки деревенских надворных построек, смазывая их глиной, топят лежанки и печи, а ребятишки мастерят из него певучие дудочки и свистульки. А еще – стрелы для самодельных луков, утяжеляя конец камышинки лодочной смолой. Мальчишки постарше в смоляной наконечник заделывали гвоздь. С такой стрелой шли на какой-нибудь выгон, очерчивали круг и начинали соревноваться в меткости. Стрелу запускали строго вверх, чтобы она потом впилась в землю там, откуда ее выстреливали. Важно было уследить, когда стрела высоко в небе иссякнет в полете, остановится и повернет обратно. И когда она устремится вниз, вооруженная острым гвоздем, только тогда стрелок может покинуть круг. Потерять из виду стрелу было опасно, потому что в таком случае не знаешь, куда лучше бежать.
Со временем я вырос, научился читать книжки, и вот тут-то и обнаружилась путаница. Бывало, загляну в ботанический справочник: тростник! Приеду в свою деревню: камыш, говорят. А что тогда, недоумеваю, тростник? Не знаем, говорят, у нас такого нету, не водится. Ну как же не водится: а который на Букановом болоте? Долгий такой, пустой внутри, с кисточкой на конце? Это что? Дак это, смеются, и есть камыш! Что же тут непонятного?
Что-то путают мои земляки, думал я в растерянности, должно, не в ногу с наукой шагают. От прежней, поди, неграмотности. Тычинок да пестиков ведь не изучали…
Спустя много лет оказался я в сырдарьинских плавнях. Вот где заросли! Дудки в палец толщиной, едет всадник, так султаны выше его головы полощутся. Спрашиваю у местных жителей, казахов, что это за растение? «Камыш, слюшай, камыш эта». – «А может, тростник?» – «Нэт, камыш эта». – «Атростник какой?» – «Эта я не знаю какой, эта у нас нэт такой».
Вот, оказывается, в чем дело: одно и тоже растение имеет два разноязычных названия, как, например, карп и сазан, рынок и базар. Тростник – это славянское название, а камыш – тюркское. Мы, куряне, бывшие соседи степных кочевников, тоже не говорим «рынок», а всякое торжище называем по-восточному – «базар». Оказывается, не мои земляки, в древности порубежники Дикой степи, ошибались, а напутали книжники: для пущей учености принялись тростник и камыш считать разными растениями.









































