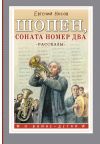Текст книги "Красное вино Победы"
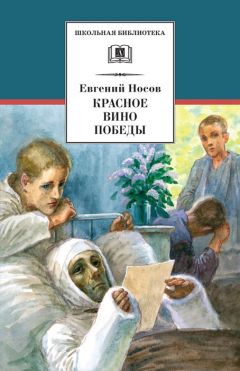
Автор книги: Евгений Носов
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Кулики-сороки
Не спрашивай меня о том,
Чего уж нет,
Что было мне дано
В печаль и в наслажденье.
А. С. Пушкин

В ту весну снега распустило рано, чуть ли не в половине марта, или, как определила моя бабушка Варя, аж на самого Федота, будто бы хранителя санного пути.
Возле бабушкиной избы уличный порядок прерывался никем не занятой излогой, езжий путь прогибался здесь так, что от подводы оставалась видна только одна дуга, мелькавшая в лад с конской побежкой. Днями в эту ложбину забрела из реки ранняя вода, подтопила зимник, и бабушкину избу возницы стали объезжать стороной, огородами.
– Чево деется! – поглядывала она в кухонное оконце, выходившее как раз в излогу. – Это же надо: сам Хведот штаны замочил! Еще недели две опосля Хведота мимо нас на санях ездить бы…
Святочтимого Федота она величала без всякого почтения вроде как обыкновенного деревенского мужика, что-то там не сумевшего спроворить, и не на церковную букву «ферт», а на простоволосый манер: Хведот. Так же, как фонарь называла хвонарем, фуфайку – кухвайкой, а ругательное «финтифлюшка» произносила как «клинтиклюшка». За этот ее косноязычный выговор я, стыдясь за нее, потом долго считал бабушку деревенской темнотой и лишь много спустя открыл для себя, что, оказывается, в исконно славянском языке не было слов на букву «эф» и что все слова с такой буквой в своем начале и даже внутри – чужие, пришлые, несвойственные нашему звукоречию, а потому истинно славянский говор долго сопротивлялся инородному новшеству и переиначивал привнесенные звуки на свой лад. И получилось так, что славяно-русские города всех раньше сдались на милость чужестранного ферта, тогда как удаленные от книжности запредельные селеньица и деревеньки и по сей день упрямствуют, не приемлют чужое, двухперстно, раскольно твердя: Хведор! Хвиллип! Анхвиса! Или: хверма, хвляга, хвуражка, тухли, квасоль, картоха… И было мне, глупому, невдомек, что все эти искажения не от невежества, а следствие естественного, непроизвольного отторжения органов чужого слова, и проистекало оно на уровне православного раскола: тремя перстами осенять душу или двумя? С буквой «эф» осмысливать бытие или без нее?
Тем временем, поглядывая в оконце, баба Варя вовсе не сокрушалась из-за нагрянувшей распутицы, разделившей деревенскую улицу на два конца, и, кажется, была даже рада тому, что какой-то Хведот влез в лужу и замочил штаны. Помянув же о скорых «сорока мучениках», она и тут не померкла лицом в канонической скорби, а как-то озоровато воссияла всеми своими морщинками, верно, своей языческой сущностью больше тяготея не к строгим порталам храма, требующим смирения, а ища и не находя своего бога в родных займищах и кулигах, день ото дня полнившихся вешним лучезарьем, каплезвонким снеготалом, гамом, вскриками и пересвистом сорока сороков сорок, сарычей, грачей и подсорочников.
– Не успел на двор Хведот, а его уже Герасим взашей толкает, – протерла запотевшее стекло бабушка. – А Герасима – Конон, а Конона Василий поторапливает, своего места хочет… У каждого особ норов. На Василья с крыш капает, а за нос еще цапает. Ну, да цапай не цапай, а там уж и сороки – вот они. Знай, готовь квашню, солоди жито… Кулики-сороки полетят…
Был я тогда лет пяти или вначале шестого, медово-рыж, острижен наголо, со следами золотушного крапа, ушаст, безбров и конопат, с болтавшимся на единой жилке верхним молозивным зубом – словом, этакое посконное «чевокало». У бабы Вари я числился внуком-первенцем, так что, если прикинуть, то какая же она бабушка в свои от силы пятьдесят годов? По нынешним временам такие румянят тыквенно округлые щеки и носят вздыбленные гофрированные юбки выше оплывших колен. Моя же баба Варя уже тогда казалась мне законченной бабулей, Варварой Ионовной: под белым косым платочком – желтенькие швыдкие глазки в прищуре, нос утицей, привядшие губы, будто сдернутые шнурочком, чтоб, казалось, не говорила, не просыпала лишнего… Кофтенка на ней неприметная, из ситцевого мелкотравья – мышиный горошек с вязелем, но зато юбка – из грубого волосяного тканья, о которое бабушка, походя, наводила блеск на всякой меди, – и впрямь первая на ней одежка: без определенных размеров, вся в вольных складках, готовых во всякий миг ринуться вправо ли, влево ли вокруг нее, и все это почти до пола, и если меня спросить, во что обувалась баба Варя, то я, пожалуй, не вспомню, потому что под этими складками, кажется, ни разу не видел ее обуви. Зато памятен ветер, который, сама будучи неказистой, ростом деду Алексею по грудную пуговицу, взвихривала своей юбкой, когда принималась домовничать, шастая бесшумно, словно витая от печи в сени, из сеней снова к печи с беремком лозовой поруби и опять за порог с переполненной лоханью, на погребицу за капустой или в горницу к лампаде за огоньком.
– А сороки – это чево?
– Это когда со всех деревень в урёму слетятся сорок сороков сорок да почнут гнезда ладить.
– А урёма – это чево?
– Лесная чащоба, которую весной половодьем заливает. Урёма, стало быть…
– Дак и чево?
– Ну, слетятся, почнут хлопотать свои хлопоты. Бывалая сорока – та прежний свой домок принимается прихорашивать, а которая впервой – той приходится новый заводить. Сорочье гнездо – не так себе, а затейливое. На него много надо палочек. Сорок прутиков – это токмо на донце, два раза по сорок – на застенки, да еще сорок – на кровлю, чтоб невзгода не досаждала. Сорочин палочки носит, а сорочиха их кладет, тот принесет – та положит, опять принесет – опять положит. Эдак с утра до вечера. Толечки заря наклюнется, а они уже за свое. И вот тебе затопорщится по болотным гривам, на недоступных деревах, в калиновой чаще сколь пар сорок, столь и птичьих починков.
– И чево?
– Как это – чево? Вылупятся сорочата, начнут на весь свет сорочить, есть просить – вот тебе и весна! Птичья забота.
– А кулики – чево?
– А кулики, знай себе, полетят. Каждый кулик со своей куличихой. В одну ночь сорок, да в другую сорок, да еще сорок. Сколь пар, столь надобно и кулижек. Пи-и-ти – пить! – эдак они с дороги просят. Издалека, поди, летели, уж намахались-то. Присядут на песочек, засунут в тинку сорок пар носов, напьются вдосталь и давай дудеть, выдувать пузыри: бу да бу, бу да бу! И оттого у них, у куликов, своя весна получается, свои хлопоты. А от птичьей весны и нам чего-нито перепадет – хлопот да веселья.
По бабушкиным счетам до сороков оставалось еще два дня, а мне хотелось, чтобы все деялось сразу, и потому время мне короталось в томлении, похожем на скрытое недомогание. Все эти дни дедушки Алексея не было дома, с ранним светом он уходил к мужикам на деревню смолить чью-то лодку, приходил потемну, от него дегтярно разило варом, а от усов пахло водкой и сырым головчатым луком. Он ершил мою сонную голову, цокал нескладным языком и шел спать на поостывшую печь.
Бабушка, опасаясь, что я непременно залезу в мокреть и замочу ноги, не выпускала меня за порог, и я, скучный, готовый реветь, весь остатный день обретался дома, отыскивая себе сколько-нибудь подходящие шкоды. Больше всего я торчал у окна, примечая вешние перемены. Бабушка ставила передо мной блюдце с зеленым конопляным маслом, посыпанным солью, возле клала ржаной ломоть – для моей занятости, а сама, набросив на плечи ватную одежку, в который уже раз шла кликать, заманивать в сени гусыню по прозвищу Матвевна, или просто Мотя, чтобы посадить ее на гнездо. Матвевна – серая, дородная, медлительная гусыня, вдруг засвоевольничала, не хотела вылезать из большой замоины перед избой и вместе с соседскими гусями в гомоне и перебранке истово макалась в набрякшую снежную кашу, наплескивала на себя воду изворотами шеи и, довольная, вскидывалась на пунцовых ногах, восторженно простирая крылья, как бы просушивая их на хватком весеннем сквозняке.
От кухонного окна я перебирался вместе с хлебом и блюдцем к окнам безлюдной горницы, где в сумеречном углу перед невнятно мерцавшими образами разновеликих икон ровно, без вздрагиваний и колебаний, процеженный и хранимый синим стеклом лампады, блекло мерещился голубоватый пламенёк, вызывавший у меня, непосвященного, трепетную робость и желание поскорее пройти мимо. И ничуть не переча этой смиренной горничной тишине и отрешенному свечению негасимо бдящего комелька, бойко, озабоченно маятили ходики, пересчитывая и распределяя секунды: «туда-зюда, туда-зюда…», металлически подскаргыкивая, вернее, подзюкивая на правом качке.
Эти ходики считались единовластной собственностью дедушки Алексея. Всем остальным раз и навсегда воспрещалось к ним прикасаться. Он единственный во всем доме и даже в деревенском роду имел право подтягивать гирю, запускать маятник, двигать стрелками, поверяя их верность ходом харьковского экспресса, ровно в полдень громыхавшего по гулкому чугунному мосту в трех верстах от деревни и полнившего заречный лес раскатистым ревом, многократ повторенным дубравным эхом.
Ходики были приобретены в самый расцвет нэпа на одной из многочисленных тогдашних ярмарок, ломившихся от изобилия еды и добра, и сами имели весьма веселый, «процветающий» вид, который придавала им лицевая цифирьная доска, окрашенная белой эмалью с разбросом по ней синих васильков.
Перед каким-либо большим праздником, когда бабушка Варя устраивала вселенскую стирку, выскребку горшков, чугунков, черепух и черепушек, кислым тестом обмазывала оба самовара – чайный и постирушный, а потом драила их шерстяной рукавичкой, дедушка Алексей тоже ввязывался в уборку: снимал с гвоздя свои ходики и шел с ними к горничному столу, всегда заправленному скатертью. Там он отдергивал ситцевую занавеску, чтобы было виднее, и, надев очки в тонкой проволочной оправе, каковые нашивал Добролюбов, и напустив на себя значимости и чина, принимался обстоятельно изучать часовой механизм, время от времени дотрагиваясь ногтем до какого-либо колесика или винтика, пробуя их на долговечность. Не найдя, что следовало бы исправить, дедушка доставал запрятанное на божнице специальное гусиное перышко, на котором оперенье в виде лопаточки было оставлено лишь на самом конце ости, макал им в пузырек с деревянным маслом и дотрагивался прозрачной капелькой до всех причинных мест в механизме, где происходило какое-либо верчение, качание или иная полезная работа.
– Ну, теперь будем ждать харьковца, – удовлетворенно говаривал дедушка, водворяя часы на прежний гвоздь.
Из двух горничных окошек виделась близкая река. Она грозно вздыбилась поднятым льдом с долгими зияющими разломами. Ледовое поле отделилось от берега сплошной черной полыньей, которая исподволь, день ото дня скрадывала береговую отлогость и уже подступила к нижним огородам, подтопила плетни, капустные гряды с торчащими кочерыгами, и было видно, как межгрядные тропы уходили прямо в темную глубину.
– Не сёдня завтра вода сорвет лед, – говорила бабушка. – Того гляди, попрет во дворы…
– И чево?
– А тово! На печи будем сидеть…
В горнице я не задерживался подолгу: быстро наскучивали пустынная затаенность реки, неуют протаявших берегов, и я опять возвращался на кухню, откуда по ту сторону затопленной излоги виднелось несколько деревенских дворов. Там всегда находилось что-либо живое. Вон в затишке у забора под надзором осанистого, в золоченых позументах петуха копошились куры, дружно, всей артелью выгребали что-то из-под куста, взмелькивая желтыми голенями. По тесовой крыше соседнего сарая, по самому ее гребню, поддерживая равновесие отвесно задранным распущенным хвостом, пробирался тетки Затеихи рыжий котище. Он воровато озирался, надолго замирал в неловкой позе, должно быть мня, будто его никто не видит, тогда как этот ворох огненной шерсти с белой помаркой на носу уже давно приметили все окрестные воробьи, и даже мне издалека было видно, что крадется к скворешне неисправимый пройдоха и плут. Сама же тетка Затеиха в тени сарая, на синем куске оставшегося снега, налегке, с оголенными до плеч руками, истово, будто провинившегося, колотила веником полосатый половичок. А у воды толпились пацаны, краснолице галдели, меряли заберегу шестами, пускали скачущие «блинцы»… И время от времени все летели и летели на ту сторону, в лесное заречье, взмелькивали белым, будто вспыхивали при каждом взмахе, долгохвостые сороки.
Иногда перед окном, когда я ел свой хлеб, появлялся дедушкин пес Сысой – неловкий лопоухий увалень желтоватого телячьего окраса. Ему было всего только семь, не то восемь месяцев, а он уже сшибал с меня шапку дружеским помахиванием хвоста. Дедушка Алексей под веселую руку привез его от знакомого лесничего как гончего щенка. Ружья, однако, у дедушки не имелось и никогда не было, тем паче, что к зайцам из-за торчащих желтых резцов он относился с брезгливой опаской и сроду не ел их мяса. Для чего понадобился дедушке именно гончак, начисто неспособный что-либо охранять по двору, никто не знал, да и сам дедушка тоже.
– A-а, ладно! – Он с добродушной виной махал от себя ладонью, будто кого-то отпихивал, и, смеясь, разрешал все недоумения. – Пускай себе бегает…
Сысой глядел на меня, склоняя свою огромную голову с ложбинкой посередине из стороны в сторону, обвисая то правым ухом, то левым, нетерпеливо пританцовывал передними лапами или же присаживался на зад и скреб жесткой когтистой пятерней дощатую завалинку. Глаза у него тоже желтые, теплые, совсем как у бабушки Вари, в них не было ни капушки злости, а лишь открытый и ясный свет доверчивой души щенка, верящего, как и все мы, что он рожден для счастья и все ему друзья, а еще – желание пообщаться, дружески лизнуть щеку. Над каждым его глазом бугрилась темная родинка с пучком длинных волос, время от времени он вздергивал эти родинки, удивленно морщил лоб, будто недоумевал, почему я, его лучший друг, не отвечаю… И как бы испробовав все способы пробудить мое внимание, приоткрывал алую, истекающую слюной пасть, встряхивал оборками щек, коротко и резко выдыхал: «Дай!»
А как я мог дать, если был отгорожен двойной оконной рамой? Хлеб я уже доел, осталось только немного масла на самом донце блюдечка, которое я пытался собрать согнутым пальцем. Давать было нечего, и я замахнулся на Сысоя, пробормотав слышанное от взрослых: «Бог подаст!»
Сысой не понял и еще раз встряхнул брылами: «Дай!»
– Сказано, нету-у! – осерчал я и повернул к нему пустое блюдце. – Видишь, нету ничего? Какой беспонятный!
– С кем это ты балакаешь? – В дверях горницы появилась бабушка Варя.
– Да вон… вытаращился… Лапой скребет…
– A-а, Сысойка! Щас, щас я ему щец вчо́рошних… А то, говорят, нехорошо, ежли собака так-то глядит да в свое окно лается…
– А чево – нехорошо?
– Говорят, не к добру это… Будто к неурожаю, к бесхлебице…
Поди, и верно это: на другой год бабушка уже не выдергивала лебеду у плетня да по-за сараем, а берегла ее и даже поливала – в хлеб добавлять. Это – в тысяча девятьсот тридцать втором…
И еще она сказывала, будто перед самой войной точно так же скребся в окно Сысой, уже взрослой собакой, с понятием… Вынесли ему похлебать, а он только понюхал, но есть не стал и сызнова принялся скрести под окном завалинку.
А после войны, в самый раз на День Победы, увидел Сысой в открытом окне дедушку Алексея, сел перед ним и завыл, срываясь иссякшим голосом. А вскоре сбежал со двора и больше не вернулся… В том же году по осени ушел из дому и дедушка Алексей – просить милостыню…
В самый канун сороков я проснулся среди ночи от ощущения неуюта, как если бы со мной что-то случилось. Провел языком по тому месту, где еще днем телепался передний зуб, но язык беспрепятственно провалился в ужасающую пустоту. Казалось, что дыра простиралась от уха до уха, будто настежь распахнутые ворота. Большего унижения я никогда прежде не испытывал. Я почувствовал себя таким несчастным, что, отрешившись от всего, одинокий и жалкий, ткнулся ничком в подушку и заревел. Это была моя первая серьезная потеря, ринувшая меня в бездну предчувствия собственной бренности.
– Што ты? Што ты? – сонной торопью отозвалась из своего угла бабушка.
Я продолжал гундеть в подушку, дергаться оголенными плечами.
Бабушка свесила босые ноги с лежанки.
– Иду, голубь мой! Иду…
В просторной полотняной рубахе с выпавшим на грудь крестом она присела на край моего топчана.
– Приснилось чево?
– Да-а! – заревел я опять, на этот раз обидевшись на бабушку, на ее непонятливость, и сердито вытрубил: – Зу-уб!
– Ах ты, мой голубчик белый! – Бабушка шершаво огладила мое плечо. – Ну, будя, будя… Горе твое не горькое. Зубки еще нарастут… Уж не проглотил ли часом?
Она запустила под меня руку, провела ею по простыне и радостно объявила:
– Ан вот он, зубок-то! Нашелся! Махонький, как зернышко! Как пошаничка! На-кось, взгляни!
Глядеть на свой зуб я брезгливо не захотел, и бабушка сказала:
– А вот мы ево щас под печку забросим…
Придерживая щепотью долгую ночную рубаху, она прытко, босоного прошлепала в кухню, тускло озаренную каганцом на припечке, что-то там пробубнила, черной тенью отражаясь в простенке, и вернулась веселая:
– Ну вот, отдала зубок… Подарочек сделала…
– Кому? – не понял я.
– А старичку-домовичку, што в подпечи живет… На тебе, говорю, зуб старый, а ты нам за то дашь новый. Зубок новый, каленый, стойчей злата, прочней булата. Не будешь ослушником – дак и даст…
– А он – кто?
– Дак старичок, говорю. Этакой, меньше пальца. Но не гляди, што мал, зато серди-и-ит бывает! Коль не уважишь. Ежли што не так, ни за што печь не истопишь. Будет дымить, глаза выест. Топишь, топишь – а картошка в чугунке сырьем громохтит… Потому как огонь без силы: руки в него сунешь – и хоть бы што… Это когда он рассерчает… А ежли уважишь – ну, тогда и хлеб спечется на славу, и каша духовита да рассыпчата… Вот завтра увидим, когда куликов начнем печь… доволен ли твоим зубом?..
Прикорнув рядом, бабушка Варя еще долго наговаривала что-то, ее негромкие, шелестящие слова лились обволакивающей струйкой, размягчая тело, затуманивая мысли, и я покатился, покатился было куда-то в заполненное теплой тишиной пристанище, как вдруг в покинутом мной мире раздался резкий и жесткий вскрик, от которого я вздрогнул, напрягся тревогой.
– Ба-а! – позвал я, потянувшись рукой.
– Вот она я, вот она… – обняла меня бабушка.
– Это – чево? Чево кричало?
– Дак это Матвевна… Спи давай, спи…
– Какая Матвевна? – начисто запамятовал я.
– Да гусыня наша, Мотька! Никак не угомонится, оглашенная. Только сёдни на гнездо посадила. Под лавкой в лукошке сидит. Ишь как гагакнула, аж ведра зазвенели.
– Чево ей?
– Гусей чует. Теперь там в темноте дикие гуси летят. Переговариваются между собой, штоб не потеряться. Я не слышу отсюда, из хаты, а Мотя слышит. И как гомонят на лету, и как крыльями посвистывают. Ей ведь тоже с ними охота. Все воли хотят, да каждого свое бремя держит…
«Ке-гех!» – опять призывно, остро, со стальной звонцой вскрикнула Мотя, и желтый косячок ночника на выступе печи закачался ответно.
Проснулся я поздно, разморенно, с ленью во всем теле и не сразу вспомнил, какой нынче день. А вспомнив, подскочил как подстегнутый, спрыгнул с топчана и кинулся к горничным окнам в предвкушении увидеть что-то необыкновенное, что ожидалось все эти дни. Но за окном клубился серый туман, заполнивший все пространство будничностью и скукой. Порой его ватные рулоны подкатывались к самой избе, отчего в горнице делалось сумеречно, как в зимнюю вьюгу. И только когда мятущиеся клубы отступали вспять и туманная толща редела, обозначая просветленные разводы, по скоротечному золоченому сиянию в них угадывалось, что где-то в заречье, по-над лесом, уже воспряло солнце и принялось за свои неотложные дела.
За космами тумана я не сразу заметил устрашающую близость полой воды. Зловеще-темная под сизой наволочью, она уже не подбиралась вкрадчиво, а, вся в разводах пенных завитков и воронок, истово, напористо мчалась в нескольких шагах от завалинки, так что я поначалу даже отпрянул, устрашась этой ее близости.
– Видал, чево деется? – окликнула меня бабушка, громыхтевшая на кухне утварью. – Не упомню такой воды. А теперь вот туман доест последний снежок – того боле прибавит. Хоть берись вязать узлы да на чердак стаскивать… А дедка наш и не ночевал ноне. Все чужие лодки смолит. А своя небось щелястая…
В избе было натоплено, половицы ласково теплили босые ноги, сама же печь, уже прикрытая заслонкой, умиротворенно, вся в знойной истоме, еще издали двошила сухим крепким жаром, источая дух каленых кирпичей с пряной примесью ржаного хлеба.
Вид большой деревенской дёжи, уже опорожненной, заляпанной остатками теста, и это живое обволакивающее дыхание истопленной печи вернули мне чувство праздничной необыкновенности. И в то же время холодом полоснуло при мысли, что все уже состоялось без меня, что самое главное я проспал…
– А где кулики? – поспешил я выяснить в испуге.
– Ишо и не думала, – обидно сообщила бабушка.
– Как не думала? – враз разлюбил я ее. – Ты же говорила.
– Ну да не пришел черед. Сперва хлеб надобно. Буден день правит всякий праздник. В будни не поешь, дак и в святой день калачом не наешься. Вот токмо хлебушко посадила, помогай Господь. Ну-ка, семь ковриг вымесить: две взаймы брато, еще две – тоже не себе, остальные – наши. Это же кажную вынянчить да огладить да на под высадить… Жаркая это затея, небось кувшин квасу испила… Так што, голубь мой, за куликов ишо и не бралась. Вот передохну маненько, да и примемся с тобой за свистульки.
Бабушка присела на лавку, сложила в колени расслабленные руки с грубыми, онемело замершими пальцами, и я, глядя на них, тайно удивлялся, как можно такими корявыми пальцами что-либо вылепить из непослушного теста.
И уже убрав со стола все лишнее, выскребя ножом столешницу и высевая пшеничную муку тонким волосяным ситом, она наговаривала мне, восторженно следившему за каждым ее действом.
– Кулик – это тебе не то да се да энто самое… Ево из хлебного остатка, из одольев не вот-то сварнакаешь. Сиволапый получится. Кулик – он ба-а-а-рин. Белой мучицы требует. Штоб лепился-то ладно да послаже был… Вот берегла запасец на случай хвори, избавь, Матерь Божья, ну да ладно, коли слово дала.
Ситечко, величиной с обеденную тарелку, часто, монотонно мелькало в ее руках. Бабушка удерживала посудинку одними только пальцами, тогда как сами ладони оставались свободными, коими она и подталкивала лубяной обод то вправо, то влево, и так часто, что казалось, будто это вовсе не сито, а веселый плясовой бубен в ее оживших руках: та-ти, та-ти, тати, та-ти…
Белый ворошок просеянной муки постепенно нарастал на середине стола, мучная пороша тонко рассеивалась вокруг. Я выставил указательный палец и провел по столешнице произвольную зигзагу.
– Эт ты чево нахудожничал?
– Так просто…
– Уж большой просто так пальцем водить, – осуждающе сказала бабушка.
– А как? – Я не понял строгости в ее голосе.
– Ты давай учись буквы писать. Знаешь буквы?
– Н-не-к…
– Вот тебе раз! Выходит, я – темень и ты не больно-то грамотей.
Бабушка стерла ладонью мою прежнюю загогулину и на том месте подсеяла свежей муки.
– Вот и давай… И бумаги не надо, и карандаш при тебе.
Я этим самым карандашом почесал в раздумье макушку.
– «Аз» знаешь?
– Это чево?
– Буква такая. Самая первая.
– Н-не-к…
– Пиши палочку.
Одолевая робость, я неуверенно выставил указательный палец, тогда как остальные собрал в кулак. Поразмыслив, как писать: повдоль или поперек? – я наконец решился, опустил подушечку пальца в нетронутую мучную целину и потянул на себя, образуя первую, не очень ровную линию для будущей своей науки.
– Так! – одобрила бабушка. – Теперича энту самую орясину да подопри другой… Чтобы та не упала. Понял как?
– Угу-у! – готовно кивнул я, сообразив, что от меня надобно.
– Подпер?
– Ага-а!
– Так. А теперича прибей между ними посередине тесовину. Одним гвоздем прибей к левому столбу, а другим – к правому.
– Готово! – кивал я азартно, принимая бабушкину игру и в гвозди, и в молоток…
– Ну, вот тебе и «Аз»! – Она перестала нашлепывать сито и оглядела меня с пристрастием. – Запомнил?
– Ага! – поспешил я заверить, и это была правда: бабушкиного мучного Аза, самую первую букву моих долгих дальнейших университетов, я запомнил навсегда.
– А теперича пиши «Буки»…
– Где писать?
– Рядком и пиши, сперва «Аз», потом «Буки»…
На «глаголе» – этом суровом, аскетическом знаке, всегда потом казавшемся мне орудием Голгофы или Аппиевой дороги, у бабушки закончилась белая мука и мое учение само собой оборвалось. Я сбегал в горницу взглянуть, оставалась ли вода в прежней поре или еще ближе подобралась к дому. Бабушка же принялась подмешивать в дёже остатное от хлеба тесто, после чего выложила колоб на стол и заходила по нему обоими кулаками, ловко, со шлепками подтетешкивая и подминая один край под другой.
Но вот тесто готово, бабушка нащипала от него несколько комков, затем, все так же неуловимо мелькая и шелестя ладошками, бесформенные комья превратила в аккуратные яблочки, которые, в свою очередь, пришлепнув на столе, раскатала в удлиненные лепешки, похожие на подошевки – носочек пошире, пяточка поуже. На широкой части подошевки бабушка сделала несколько просечек ножом, обозначивших перья распущенного хвоста. Такие бывают у голубей, когда они парят на одном месте. Два боковых отростка, там, где должна быть талия, один справа, другой слева, она отогнула на спину, уложила друг на друга и в этом месте пальцем сделала вмятину – получились как бы сложенные на спине крылья. Узкую же часть подошевки бабушка приподняла кверху, отчего птица тотчас вскинула шею и насторожилась, после чего ловкими, быстрыми щипками она обрамила птичью головку узорчатым кокошником, а двуперстиями каждой руки одновременно оттянула и округлила немного теста, так что у кулика получилось сразу два носа – один спереди, как и положено, а другой – на затылке, вроде как запасной.
– У-ух! – шумным выдохом подытожила бабушка и бережно приподняла на руке кулика. – Ну, здравствуй!
И что-то еще поправив на фигурке, сказала:
– Сбегай-ка в сени, там калина висит, глаза сделаем…
– Ух ты! – еще больше завосхищался я, и, как был босый, вышмыгнул в дверь.
От вставленных на месте глаз калиновых ягод кулик и вовсе ожил, воспрял каким-то азартом бытия, словно был готов вскочить на лапки, побежать спорыми строчками, затрепетать крыльями, а то и запустить один из носов в миску с водой и протрубить свою весну. Ах, как мне не терпелось схватить птицу и помчаться с ней куда-нибудь на волю, на теплые проталины!
Тем временем бабушка принялась за следующего кулика, а я, опершись о стол подбородком, очарованно созерцал только что родившуюся птицу, полонившую мое воображение.
Единственное, что не очень нравилось мне в кулике, – это два его клюва. Как так? Почему? – недоумевал я и робко поведал бабушке о ее ошибке.
– Неуж? – удивилась она весело, уже живя праздником, родившимся от работы, от чудотворности ее рук.
– А вот смотри: один нос тут, а другой тут, – указал я на оба клюва.
– Какой приметливый! – восхитилась бабушка. – А я дак и без внимания. Леплю да леплю. Этак вроде ладнее: щипнул-крутнул – и на́ тебе.
– Так неправильно! – убежденно уличал я искусство во святой лжи.
– Матушка моя этак лепила, и ее матушка… Спокон веку.
– Ну неправильно же! – горячился я.
– И пусть себе… – благодушествовала бабушка. – Лишнего не склюет…
– Ну ба-а! – совсем заобижался я оттого, что не хотели понять очевидное. – Ведь так не бы-ва-е-ет!
– А как, голубь мой?
– Все птицы должны быть с одним носом! – провозгласил я истину, обязательную для всех.
– Ну, ладно, ладно, – закивала она согласно. – Ты уж прости меня, глупую. Все так делали, и я так… Это ж все для веселья, для праздника.
И, приподняв на ладони еще одного готового кулика, запричитала напевно:
Куличок-веснячок!
На тебе зиму,
А нам лето!
На́ тебе сани,
А нам телегу!
Голос у бабушки тонкий, паутинчатый, с переливной звенью, пела она, не шевеля губами, отчего казалось, будто пение помимо нее возникало из самой тишины. Особенно любил я слушать ее пение, когда она строчила на своем «Зингере»: ее негромкая звонца вкрадчиво переплетала мерный шелест швейного челнока.
Кулики куликали,
На кугиклах пикали.
Пикали, пикали,
Красну весну кликали.
Бабушка тронула меня за плечо: «Давай запоминай, прилаживайся» – и продолжила закликать Весну:
Ты приди, красна девица,
Дай из рук твоих напиться.
Наконец пришла пора хлеба!
Взглянув на ходики, бабушка Варя всплеснула руками: «Ох, заигралась я!» Она даже переменилась в лице, посерьезнела, губы сдернула суровым шнурком и не проронила ни единого слова до самого конца хлебного дела. А дело было такое. Из вороха рогачей и ухватов бабушка выбрала нужное орудие – большую кочергу на долгом древке и, повернувшись к Николе, осенила себя знамением, словно собиралась предстать не перед печным устьем, а пред огненной пастью самого Змея Горыныча. Еще раз мелко покрестив пазуху, она решительно потянула на себя заслонку, следом за которой хлынула волна крутого жара. В черном печном нутре завиднелись глянцевитые маковки тучных ржаных ковриг, и в нос ударило помрачающим бражным хлебным духом.

Крюком кочерги бабушка подцепила крайнюю ковригу, вытащив ее на загнетку, поворочала туда-сюда, поохлопывала и вдруг припала к ней лицом – оказывается, затем, чтобы определить, удалась ли выпечка. Если нос терпит, стало быть, хлеб не клёклый и уже не содержит избытка обжигающего пара. Теперь ковриги можно смело извлекать из печи, раскладывать по свободной деревянной лавке, с чистого гусиного крыла побрызгать водицей, чтобы умягчить корочку, накрыть холщовым рушником, после чего оставить хлебушко благостно отдыхать и вызревать окончательно, набираться силы, сладости и смаку. Хорошо, говорила бабушка Варя, ежли бы при этом не топали ногами, не грохали топором, не хлопали дверью, не устраивали сквозняков и вообще лучше, ежли дверь притворить и хлеб оставить наедине, без посторонних. Потому как от всяких помех хлеб никнет и мрет, как ушибленная душа.
– Ну, слава те… – выдохнула бабушка. Она обникла на лавке рядом с хлебными кругляшами, разбросала снова ставшие ненужными руки, недвижно уставилась долу и вдруг воспрянула, воссияла, как прежде: – Чево ж я сижу, непутевая?! Чего дожидаюся? Покамест ослабнет? Пора куликов румянить!
Бабушкина юбка опять заволнобродила по кухне, и, поди, через полчаса одна из свежеиспеченных птах уже была в моих руках. С рубиновыми глазами из калины, сиявшими пуще, чем прежде, весь еще хрупкий, неотвердевший, пламенный, куличок радостно обжигал пальцы, и я перебрасывал его шершавое ореховое тельце с вкусными подпалинами на боках с ладони на ладонь, терпя жар, ликуя и пролепетывая бабушкино присловье:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.