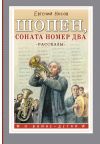Текст книги "Красное вино Победы"
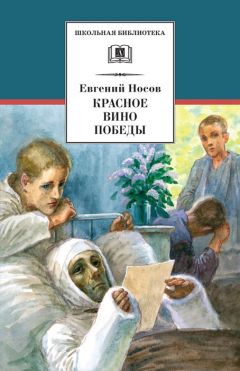
Автор книги: Евгений Носов
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Дёжка

Заплутались мы было в мрачноватом Жерновецком лесу: сунемся по одной дороге – завал, ветролом навалял старых трухлявых осин, свернем на другую – уводит в низкий, сырой распадок, заросший мелкой кабаньей чащобой. В какой уже раз хватались за лопату, крошили сухостой, гатили провальные колеи, залитые черной сметаной, и так угваздались колесными выбросами, что и сами стали походить на лешаков. От долгой и бестолковой возни с машиной мы почти не разговаривали, из колеи несло удушливой сернистой вонью, источаемой, казалось, самой преисподней, а тут еще лес давил на нервы своей равнодушной, глухой, колодезной замкнутостью пространства, в котором резкий разносимый эхом сорочий вскрик еще больше порождал щемящее чувство непролазного одиночества.
Родившись на открытых холмах, я с детства ощущал себя в лесу лишь гостем, робким и присмиревшим, озираясь, невольно ожидал какой-то таившейся внезапности, а шлепки переспелых желудей, падающих с дубов на сухую подстилку, чудились мне вкрадчивыми шагами. Это потом закрепилось на всю жизнь, и я не смог бы поселиться в лесу добровольно, как живут, скажем, костромские молчаливые лесовики, довольствуясь всего только клочком неба над избушкой.
Мне же подавай небеса от края и до края, всю их устоявшуюся погожую синь или всю уймищу облаков, которые вдруг объявятся у горизонта и потом, гонимые дохнувшей прохладой, много дней подряд бредут и бредут разрозненно и вольно, будто нескончаемые небесные овны. Или же апокалипсическое боренье туч-великанов, косматых, встрепанных, волочащих по земле изодранные рубища, в порыве титанических страстей подминающих одна другую с утробным и натужным ворчаньем и вдруг потрясающих вселенную громовым многообвальным хохотом, от которого и на тебя, застигнутое ливнем ничтожно малое существо среди необъятности земли и неба, нисходит возвышающая душу причастность к буйству стихий. И ты счастлив, что испытал и пережил такое. Может, потому и не терплю я плотных заборов, теснящей дачной огороженности, за которой всегда мнится чье-то незримое око, и убежден, что никакая душевная песня не сможет зародиться в лесу, в загороди, а только там, где «степь да степь кругом» и «далеко, далеко степь за Волгу ушла…»
И когда наконец выбрались из лесу и, заглушив издерганный и перегретый мотор, взбежали на ближайшую горушку и повалились на залитую солнцем упругую траву, мы распростали свои тела с таким блаженством, какое испытал, наверное, толстовский Жилин, вырвавшийся на свободу. После сырого сумеречного леса здесь, на высоком полевом угоре, было необыкновенно светло и просторно, над нами бездонно и умиротворенно млело вечереющее небо, а в придорожных клеверах и кашках размеренно и упоенно стрекотали кузнечики и каждая былка, каждый полынок и богородничек, обласканные теплом и светом, щедро источали свои сокровенные запахи, которые подхватывал и разносил окрест сухой, прогретый ветер.
Мы не знали, где находимся, в какое место выехали, но из всего того, что нас окружало, – из простора, горьковатого веяния трав и сияния солнца, – возникло успокаивающее чувство дома и родины, и мы беспечно задремали.
Поначалу показалось, будто это причудилось мне во сне, но, когда я открыл глаза и снова увидел живое небо, стало отчетливо слыхать детский голосок, звеневший бесхитростно и ломко:
И без страха отряд поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва…
Я приподнялся над травами: неподалеку, в сизом от ягод терновнике, бродили коровы, трещали ветками, прочесывая бока о колючий кустарник, а чуть поодаль, верхом на крепком чернявом коньке в самодельном тряпичном седле восседал годов десяти пастушонок. На нем была синяя школьная олимпийка и мягкая буденовка с большой красной звездой. Не замечая нашего присутствия, вдохновляемый простором и вольным безлюдьем, он-то и распевал во всю мальчишескую мочь, никого не стесняясь:
Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои карие очи…
«Ты, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих…»
Я встал и пошел расспросить про дорогу. Завидев меня, заляпанного лесной грязью, пастушок оборвал песню, диковато набычился. И только вблизи я разглядел, что из-под буденовки торчали девчачьи соломистые косицы, оплетенные голубыми лентами.
– Не бойся, – сказал я как можно дружелюбней. – Это я в лесу так выпачкался. Машину толкал… А я думал, ты – мальчишка… Тебя как зовут-то?
Пастушонка хотела было не отвечать, но, поизучав меня с высоты седла серыми безбровыми глазами, не удержала-таки строгости и вдруг широко, конопато воссияла:
– Дёжка я.
– Как это?
– Ну, Надежда. А если по-простому, то Дёжка.
– A-а, теперь ясно. Значит, чья-то надежда. Мамкина небось?
– Ага, – просто согласилась пастушонка.
– И папкина?
– А папки нету.
– Ах, так… – смутился я.
Молодой конь нетерпеливо переступал передними ногами, повитыми бугристыми жгутами мышц, отмахивая мух, гулко бил по животу задним копытом, с волосяным посвистом сек себя хвостом, нервно подергивал холкой, и темная шелковистая шкура на нем антрацитно лоснилась, играла на солнце живыми слепящими бликами. От коня крепко, хорошо и почти забыто пахло здоровой силой (как давно не был я вот так рядом с лошадью, какой неожиданный пласт воспоминаний всколыхнула ее близость!), и, счастливо хмелея от этого конского духа, я дружески взял конька, беспрестанно мотавшего мордой, под самодельные веревочные уздцы. Конь не потерпел моей руки и норовисто дернул и вырвал уздечку, едва не свалив меня с ног. Дёжка, однако, чувствовала себя на его неспокойной, ходившей ходуном бочкоподобной спине вполне уютно и непринужденно, будто прилипшая к телу муха.
– Значит, пастушничаешь?
– Ага.
– По очереди?
– А я и вчера пасла, и позавчера… Кажин день.
– Что так?
– Люди за себя просят. Кто заболел, кому просто день нужен. Вечером постучатся: Дёжка, попаси за меня завтра. Да и мамка говорит: уважь, доча. Чего зря дома сидеть? А у меня каникулы. Ну, я и согласна. Не за так, конечно.
– За что же?

– A-а, не знаю… Мамка сама договаривается. Говорит, теплые сапожки к зиме в школу надо и платок. А я лучше б проигрыватель…
– А не боязно тебе здесь?
– Не-к!
– Ну, одна все-таки…
– Я не одна, я – с конем…
– Да, хороший у тебя конек. – Я протянул было ладошку, чтобы потрепать по гривастой шее, но конь так недобро, неприязненно покосился закровенелым глазом, что я невольно убрал руку. – Как зовут-то?
– Никак… Просто конь, и все.
– Ну, как это – просто конь? У каждой лошади должно быть имя. Ведь оно в колхозной инвентарной книге значится.
– А он в колхозе не живет.
– То есть как это – не живет? А где же?
– А нигде…
– Как же так – нигде?
– Так вот… Где ночь застанет, там и ночует. Это мамка его заловила и на двор к нам привела. Хлебца, хлебца ему – он и зашел. Потому как мне пасти надо. Без коня пасти уморно, не сдюжаешь. Поначалу мамка на него мешок с картошкой клала, чтоб привык. Сперва маленько насыпала, а потом побольше, потяжелей. А там и я залазить научилась. А больше никого не подпускает. Я мамке говорю: давай насовсем себе оставим. Нет, не хочет, говорит, не выдумывай. Вот до школы попасешь, а там и отпустим.
– И как же зимой, где он будет?
– А нигде… В поле…
– Один?
Дёжка неопределенно передернула плечами и посмотрела поверх меня, куда-то далеко.
– Ну, а пасти коров не скучно ли?
– He-к… Мне нравится. Кругом – воля. Далеко видать. Самолеты летают, ленты по небу делают. Облака разные: только что было такое, а отвернулся – оно уже по-другому. А вчера цапли летали. Четыре штуки. Высоко-высоко. И всё – кругами… А еще хорошо песни петь. Въедешь на горку, глядишь, глядишь вокруг – красота! Так бы и полетела… Ну, полететь не полетишь, а покричать охота. Песни сами находят.
– И какие же?
– А всякие.
– Ну, а все-таки?
– «По Дону гуляет…» – слыхали такую?
– «…казак молодой»?
– Вот-вот! – обрадованно закивала Дёжка. – Эту. А еще – «Выхожу один я на дорогу» – знаете?
– А как же!
– «Белеет парус одинокий»?
– Тоже знаю.
– «Пуховый платок»? – Теперь уже Дёжка экзаменовала меня.
– Знаю.
– А про калину?
– «Что стоишь, качаясь»?
– Не-е! – торжествующе засмеялась она. – То про рябину. А про калину так… – И она, придав лицу строгую отрешенность, напомнила голосом:
Калина красная, калина вызрела,
Я у залеточки характер вызнала.
Характер вызнала, характер он такой:
Я не уважила, а он пошел с другой…
– Да это совсем другая! – рассмеялся я. – И откуда ты все это берешь?
– От бабушки. «Позарастали стежки-дорожки», «Зачем тебя я, милый мой, узнала» – это я от бабушки. Она у нас не ходила, все лежала. И голосу почти не стало. Едва слышно. А все равно пела мне. Возьмет за руку и тихо так напевает… Полежит-полежит, отдохнет и еще споет. Это, говорит, чтоб ты меня помнила… А я, верно, я все ее песни помню, ни одной не забыла…
– Теперь уже не забудешь никогда.
Дёжка внимательно посмотрела на меня, осмысливая мои слова.
– Вот… А «Калину красную» – это я уже без бабушки, по телевизору. А еще Аллу Пугачеву знаю.
– «Все могут короли»?
– Ага! – кивнула Дёжка.
– Нет, бабушкины песни лучше.
– А то еще про маэстро, – и пояснила скороговоркой: «Я в восьмом ряду, в восьмом ряду…»
– Покажи-ка нам все-таки, – перебил я Дёжку, – как на большую дорогу выбраться. Не пойму, куда мы заехали.
– А тут недалеко. Сейчас покажу, – готовно согласилась она. – Вы только за мной поезжайте.
Я крикнул своим, чтобы сошли к машине. Насунув покрепче буденовку, взмахивая оттопыренными локтями в лад гулкому на сухой убитой дороге копытному скоку, Дёжка пустила конька впереди нас.
На маковке холма конь нетерпеливо затанцевал и зафыркал от выхлопов рядом работающего мотора, а она, натягивая поводья и обводя взглядом открывшиеся окрестности, принялась пояснять:
– Во-он, видите, от леса лог пошел?
– Так, так…
– Там наша речка Виногробль начинается.
– Ага, ага…
– Ее нигде не переедете до самой плотины.
– Так, а как же на плотину попасть?
– А вы вон по той кукурузе ступайте. Все прямо и прямо. Там дорога ведет на плотину.
– Ну, спасибо тебе, Дёжка! – помахал я рукой в открытое автомобильное оконце. – Хорошее у тебя имя! Ты и впрямь мамина надежда.
Дёжка, раскачиваясь на вертлявом, никак не желающем стоять коньке, смущенно и счастливо заулыбалась.
– В нашем селе не я одна! – прокричала она. – Многих девочек так называют. И маму мою Надеждой зовут.
– Вот как!
– Это, сказывают, еще от Надежды Васильевны пошло. По ее имю.
– Кто такая? Какая-нибудь колхозная знаменитость?
Дёжка что-то ответила, но нетерпеливый конь заплясал, застучал копытами и вдруг понес ее прочь от машины.
Я еще раз помахал ей рукой.
За кукурузой, по ту сторону холма, вдруг открылось большое, широко раскинувшееся село с целой системой прудов по логам и развилкам, позолоченно блестевших при закатном солнце. И по этим давно мне знакомым прудам я догадался, что перед нами знаменитое Винниково.
– Братцы! – крикнул я. – Это же Винниково!
Да, это отсюда почти век назад вывезли на неуклюжей крестьянской колымаге четырнадцатилетнюю девочку, обладавшую дивным голосом, дабы по бедности определить ее за монастырские харчи в хорошее пение. Оттуда она вскоре бежала в большой песенный мир, к Собинову и Шаляпину, чтобы стать Надеждой Плевицкой.
И уже на большой асфальтированной дороге, перебирая впечатления минувшего дня, вспомнил, что и знаменитую певицу в босоногом винниковском детстве тоже кликали Дёжкой…
Нет, все же есть, есть что-то песнотворное в этих открытых небу и ветру холмах!
Акимыч

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, заилило, забило песком последние сеймские омута.
Вот, говорят, раньше реки были глубже…
Зачем же далеко в историю забираться? В не так далекое время любил я наведываться под Липино, верстах в двадцати пяти от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуна, была одна заветная яма. В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратно-круговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепа, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и денно и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну, а ночью у омута и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжко обрушится подмытый берег или полоснет по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матерый хозяин-сом.
Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирал золотистый корд из обрезка приводного ремня – замышлял перемет. И все сокрушался: нет у него подходящих крючков.
Я порылся в своих припасах, отобрал самых лихих, гнутых из вороненой двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрел просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами, повертел перед очками и насмешливо посмотрел на меня, сощурив один глаз:
– А я думал, и вправду крюк. Придется в кузне заказывать. А эти убери со смеху.
Не знаю, заловил ли Акимыч хозяина Липиной ямы, потому что потом по разным причинам образовался у меня перерыв, не стал я ездить в те места. Лишь спустя несколько лет довелось наконец проведать старые свои сижи.
Поехал и не узнал реки.
Русло сузилось, затравенело, чистые пески на излучинах затянуло дурнишником и жестким белокопытником, объявилось много незнакомых мелей и кос. Не стало приглубых тягунов-быстрин, где прежде на вечерней зорьке буровили речную гладь литые, забронзовелые язи. Бывало, готовишь снасть для проводки, а пальцы никак не могут попасть лесой в колечко – такой охватывает азартный озноб при виде крутых, беззвучно расходящихся кругов… Ныне все это язевое приволье ощетинилось кугой и пиками стрелолиста, а всюду, где пока свободно от трав, прет черная донная тина, раздобревшая от избытка удобрений, сносимых дождями с полей.
«Ну уж, – думаю, – с Липиной ямой ничего не случилось. Что может статься с такой пучиной!» Подхожу и не верю глазам: там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на большую околевшую рыбину, и на том меляке – старый гусак. Стоял он этак небрежно, на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдомек, глупому, что еще недавно под ним было шесть-семь метров черной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкой.
Глядя на зарастающую реку, едва сочившуюся присмиревшей водицей, Акимыч горестно отмахнулся:
– И даже удочек не разматывай! Не трави душу. Не стало делов, Иваныч, не стало!
Вскоре не стало на Сейме и самого Акимыча, избыл его стародавний речной перевоз…
На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в «Багратионе», вместе ликвидировали Бобруйский, а затем и Минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце. Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он – в Углич.
Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращенно глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо.
«Уж не помер ли?» – нехорошо сжалось во мне, когда я набрел на обгорелые останки Акимычева шалаша.
Ан нет! Прошлой осенью иду по селу, мимо новенькой белокирпичной школы, так ладно занявшей зеленый взгорок над Сеймом, гляжу, а навстречу – Акимыч! Торопко гукает кирзачами, картузик, телогреечка внапашку, на плече – лопата.
– Здорово, друг сердечный! – раскинул я руки, преграждая ему путь.
Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.
– Ты куда пропал-то?! Не видно на реке.
Акимыч вытянул губы трубочкой, силясь что-то сказать.
– Гляжу, шалаш твой сожгли.
Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.
– Так ты где сейчас, не пойму?
Все еще не приходя в себя, Акимыч кивнул головой в сторону школы.
– Ясно теперь. Сторожишь, садовничаешь. А с лопатой куда?
– А-а! – вырвалось у него, и он досадливо сунул плечом, порываясь идти.
Мы пошли мимо школьной ограды по дороге, обсаженной старыми ивами, уже охваченными осенней позолотой. В природе было еще солнечно, тепло и даже празднично, как иногда бывает в начале погожего октября, когда доцветают последние звездочки цикория и еще шарят по запоздалым шапкам татарника черно-бархатные шмели. А воздух уже остер и крепок и дали ясны и открыты до беспредельности.
Прямо от школьной ограды, вернее, от проходящей мимо нее дороги, начиналась речная луговина, еще по-летнему зеленая, с белыми вкраплениями тысячелистника, гусиных перьев и каких-то луговых грибов. И только вблизи придорожных ив луг был усыпан палым листом, узким и длинным, похожим на нашу сеймскую незатейливую рыбку-верховку. А из-за ограды тянуло влажной перекопанной землей и хмельной яблочной прелью. Где-то там, за молодыми яблонями, должно быть на спортивной площадке, раздавались хлесткие шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячьих вскриков, и эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия.
Все это время Акимыч шел впереди меня молча и споро, лишь когда минули угол ограды, он остановился и сдавленно обронил:
– Вот, гляди…
В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидная лицом, с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Кто-то сорвал с нее платье, а голубенькие трусики сдернул до самых башмаков, и то место, которое прежде закрывалось ими, тоже было истыкано сигаретой.
– Это чья же работа?
– Кто ж их знает… – не сразу ответил Акимыч, все еще сокрушенно гладя на куклу, над которой кто-то так цинично и жестоко глумился. – Нынче трудно на кого думать. Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набираются. С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там – под забором ли, в мусорной куче – выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает – без головы или без обеих ног… Так мне нехорошо видеть это!.. Аж сердце комом сожмется… Может, со мной с войны такое. На всю жизнь нагляделся я человечины… Вроде и понимаешь: кукла. Да ведь облик-то человеческий. Иную так сделают, что и от живого дитё не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги – не могу видеть. Колотит меня всего. А люди идут мимо – каждый по своим делам, – и ничего. Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках – бровью не поведут. Детишки бегают – привыкают к такому святотатству. Вот и тут: сколько мимо прошло учеников! Утром – в школу, вечером – из школы. А главное – учителя: они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю! Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!.. Эх!
Акимыч вдруг побледнел, лицо напряглось той страшной его окаменелостью, а губы сами собой вытянулись трубочкой, будто в них застряло и застыло что-то невысказанное.
Я уже знал, что Акимыча опять «заклинило» и заговорит он теперь нескоро.
Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновьи уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой ее продолговатые контуры. Ростом кукла была не более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс. Обровняв стенку, он все так же молча и отрешенно сходил к стожку на выгоне. Принес охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на кукле трусишки, сложил ее руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл ее остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату.
И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью:
– Всего не закопать…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.