Читать книгу "Красное вино Победы"
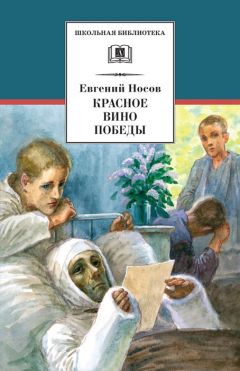
Автор книги: Евгений Носов
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
А давайте заглянем в Даля, не раз он выручал в подобных запутанных делах. Читаем: «Камыш, тростник; болотное, дудочное, коленчатое растение. Ошибочно путают с рогозой, ситником и пр.» Видите: растение-то одно и то же, но его «ошибочно путают»… Уж само собой, не народ путает, не мои толмачи из деревни Толмачево (кстати, «толмач» по-тюркски – переводчик, посредник в языке), а те, кто занимается наукой в стороне от Буканова болота.
Но я отклонился от описания похода за камышом. А тем временем дедушка навалял его столько, что сам остановился и объявил, часто выдыхая клубы морозного пара:
– Ну, пока будя! Давай малость передохнем.
Признаться, мне уже давно наскучило таскать охапки, и я делал это уже без прежнего рвения, часто останавливался, зевал по сторонам и даже успел изгрызть дедушкин сухарик. Но дедушка не замечал моей наступившей лености или делал вид, что не замечал. Он оглядел меня всего и, сняв рукавицу, запястьем потрогал мои щеки.
– Не озяб?
– Нет…
– А ну помаши руками, погрейся! – Дедушка принялся высоко вскидывать разом обе руки и затем крест-накрест шлепать себя по бокам. – Вот так, вот так надо! – приговаривал он. – А ну, делай, делай так-то, погрейся!
Я и на самом деле не смерз нисколечко, но глядеть на дедушку было весело, и потому я тоже запрыгал, замахал руками.
– Ага, ага! – смеялся дедушка, прихлопывая большими шубными рукавицами, обшитыми синим сукном. – Ага! Поддай, братка, жару! Это мы так-то на царской войне. Мороз как прижмет, а ты на посту. Сапог о сапог колотишь. А то уж и мочи нет, стужа под шинелку начинает пробираться. Отставишь ружье, да и давай так-то руками махать да подпрыгивать. Ну как, теплее стало?
– Ага!
– Знай наперед, ежли когда озябнешь, – верное дело так вот ох лопаться.
Дедушка предугадал: пришлось, пришлось потом и нам на войне вот так же охлопываться… Пригодилась его наука.
Он расстелил поверх накошенного ворошка мешковину, достал из торбочки сало с хлебом, и мы сели перекусить.
К полудню солнце так и не поднялось над камышами, однако пригрело настолько, что осыпало с кустов и метелок морозную опушь, и та запорошила, забелила чистый лед. Стали заметны каждая черноточинка, каждое прикосновение, будто на свежем листе бумаги, и уже успела наследить на нем, настрочить мелким бисером то ли птаха, то ли болотная мышка. И тут же на выбеленную прогалину вышмыгнула из рыжих осок белая продолговатая зверушка не более рукавички, перебежала открытое место и скрылась в камышах. Я увидел сперва не ее самое, почти невидимую на беспредметной белизне осыпавшегося инея, а промелькнувшую голубую тень, нечаянно задевшую мое зрение, и лишь потом, насторожившись, увидел три черные точки – нос и бусинки глаз. Зверушка шустро прошла туда-сюда заросли, снова метнулась по чьему-то следу и за последними стеблями обмерла столбиком, свесив на груди лапки с черными ноготками.
– Деда! – прошептал я завороженно. – Кто это?
Зверушку будто сдуло этим моим жарким шепотом, и дедушка поглядел окрест уже впустую:
– Ты про что?
– Да вот… там… кто-то был…
– Кто, не пойму?
В этот момент зверушка снова вышмыгнула из камышей и встала столбушкой ровно на том месте, где только что была.
– A-а! Ну так это ластвица! Мышковка! Ишь ты!

И опять зверушка от дедушкиных слов умчалась в чащу, откуда спустя объявилась снова, любопытно вытягиваясь, обращаясь в недвижный столбик.
– Это она сальце учуяла. Эвон кожица лежит. Я давеча отбросил. Ну, бери, бери, не бойся. Ах ты, лапушка!
Ласка, словно послушавшись, сделала несколько поскоков в сторону кожуры, внезапно остановилась настороженно, после чего в последнем прыжке схватила кожицу и молниеносно исчезла в камышах.
– Ну бедова! – щурился дедушка, тепло глядя в то место, где только что сидел зверек, – был и нет его, будто сновидение. – А лето придет – у нее опять свой наряд. Вот как льнет к земле, к годовому времени, вот как ластится: и зимой ее вроде нет, и летом не видно. Потому небось лаской, ластвицей зовут. Осьмушка весу, а тоже живая душа. Все про тебя знает, что ты за птица, каков гусь. А мы, братка, в суете своей да в гордыне про нее – ничего. Да-а… За это с нас и спросится, придет время… Живем – под собой земли не видим… Ох, дела наши! Давай, голубь мой, вязаться, к дому править.
4
Срубленным шестом дедушка проколол ворох камыша, развалил на две части и обе доли отделил друг от дружки.
– Один возок заберем, – пояснял он при этом, – а за другим днями приедем. А то сразу все не по мощам нашим: ты – маленький, а я – старенький… Такое дело… Старенький, а жадненький: накосил на хорошего коня… Ну да что теперь говорить про коня… Тю-тю! Ну, а сам я не кован… Из пяток вон солома торчит…
Дедушка делал все ловко, сноровисто, но для меня поначалу непонятно: взял, например, веревку, распустил ее по льду, один конец привязал к шесту, и получилось что-то вроде кнута.
– Деда, а для чего это?
– А вот гляди.
Он подсунул шест под камышовый ворох и таким простым способом продел под ним веревку. После чего обоими веревочными концами охватил вязанку, стянул крепко коленом и, поддев шест под узел, еще туже закрепил, как это делают ребятишки, вращением палочки-кречика притягивая к валенкам коньки.
– Ну вот: возок легок на глазок, да только конь брыкается… – весело удовлетворился дедушка и опять невольно помянул коня, уже который раз за день. Да и то сказать: куда ж ему, исконному пахарю, даже без слова о нем? Как его, сердечного, было не помянуть, прожив вместе жизнь душа в душу? Так думал я уже теперь, вспоминая дедушку. А он, еще раз оценивающе оглядывая связанный камыш, сказал: – Ну вот, дело сделано. А теперь напоследок пойдем калины поищем. Бабка наказала наломать на солодуху. Не едал солодухи?
– Не-к!
– И не надо! – засмеялся дедушка.
– Почему, деда?
– Да боюсь я, парень, язык проглотишь! Такая получается у бабки забава!
Дедушка запихнул топор за опояску, пересунул его за спину, и мы, выбирая открытые бескамышные места, пошлепали валенками по ледяному паркету: чак-чак, чаки-чаки… И все казалось мне, будто где-то рядом, таясь в зарослях и следя за нами, бесшумно, незримо сновала ластвица – таинственное существо, похожее на снежное завихрение, роняющее голубую тень. Казалось, я ощущал на себе ее быстрый колючий погляд и то и дело косился на камыши и оборачивался от навязчивого чувства чьего-то близкого присутствия.
Как-то незаметно объявились тальники и старые разбросанные ракиты, напоминавшие древних согбенных старух, с черными рукастыми ветвями, распростертыми над кустарниковой чащобой. От их нависшей черноты болото сразу посуровело. Тут и там в крепях замелькали сорочьи гнезда, похожие на сухих ежей, запутавшихся в ветках. Чувствовалось, что под нами начались большие глуби.
– Во куда забрели! Я и не помню, бывал ли здесь когда, – возбужденно озирался дедушка. – Сюда, поди, и дед Леха не захаживал. Разве летом сюда доберешься? Как все заплетет, как укроет сверху – солнца не увидишь. Комар напрочь заест…
– А кто такой дед Леха? – насторожился я.
– Ну… про него не надо… особенно вслух… Старичок такой… Тезка мой.
– А чего не надо?
– Мы с тобой говорим про него, а он может, рядом стоит. Ты думаешь – это пенек, а это – он… Любит чем-нибудь прикинуться… Да-а… Жалко, весь хлебец съели. А то бы ему кусочек подбросить… Чтоб дорогу не путал… Осерчает, дак и куры́ может напустить. А уж ежели снег закурит – вертайся сразу, беги без оглядки… И сани, и камыш бросай. Со мной так-то уже бывало… Всю ночь туркался. Куда ни сунусь – то кусты стеной, то заметь по пояс… Весь кожух продрал, топор невесть когда обронил… Под утро цапнул карман – сухарик завалялся. Положил его на пенек и побрел не оглядываясь. Вот тебе и кура унялась, и в небе посветлело, и места все знакомые стали…
– Деда, а это зачем?
В нескольких шагах от берега, там, где кончались камыши, торчали вмерзшие в лед колышки. В каждом подозрительном сучке мне теперь виделся злой умысел.
– Ну-ка, ну-ка… Тычки, гляжу, руками деланы. – Дедушка присел на корточки. – Ох ты! Да, никак, вентерь! А ну, разметай снег, давай поглядим, что там…
Распластавшись ничком, дедушка протер рукавицей лед до оконной ясности. Глядя на него, я тоже расчистил себе оконце.
– Ты ложись, чтобы солнце не мешало, – наставлял дедушка. – С боков заслоняйся. Ну, видишь чего?
– Ага… Сетка какая-то…
– Так и есть! Вентерь это. Вот гляди: одна тычка держит одно крыло, другая тычка – другое крыло. Видно тебе?
– Видно!
– А между крыльями – зёв, куда рыба заходит. Зайти-то она зайдет, да больше не выйдет… Уразумел?
– Ага…
– Вентерь еще до морозов ставлен, – продолжал пояснять дедушка. – С лодки. А может, и взаброд. Взаброд, правда, холодновато. Ну, да кому какая охота… А я думал, в этой глуши сам дед Леха и тот не бывал.
Я напрягал глаза, пытаясь за толщей коричневатой воды, за нитяной сеткой увидеть плавающих туда-сюда рыбешек, ищущих возможность выбраться на свободу. Вентерь был большой, просторный, распираемый тремя гнутыми обручами. Однако внутри него ничего не было, кроме разве большого толстого топляка, положенного на дно для того, наверно, чтобы ловушка не всплывала.
И вдруг конец топляка слабо шевельнулся, мелькнув чем-то оранжевым. Я потрясенно замер: в недвижном буро-зеленом, как бы покрытом осевшим болотным илом топляке я внезапно угадал огромную рыбу!
– Деда! Там рыба! – наконец выпалил я. – Вон она!
– Да где? – Дедушка еще плотнее приник ко льду. – Где ты видел?
– Ну, вон же она! – Мне сразу сделалось жарко. Теперь, вглядевшись, я даже различал, как размеренно приоткрывались и захлопывались жаберные крышки по обе стороны темно-зеленой вытянутой головы.
– A-а… Совсем худо с глазами… Окомелок какой-то… Палка, говорю, а боле ничего…
– Это не палка! – выпалил я. – Это рыба! Она хвостом шевелит! Я сам видел!
– Ага… так, так… Теперь я вижу… Это щука! Экое бревно! И как она только вентерь не изорвала.
– Опять, опять хвостом шевелит! – оповещал я, понижая голос. – Он у нее как огонь!
– Вижу, братка, вижу… У-y, разбойная твоя душа. Сколь, посчитать, рыбы похватала. Да что рыба! Такая и чирка сглотнет. И курочку-камышницу. Зазевайся только.
– Гляди, деда, из-под жабер пузыри пускает!
– Вздыхает, стало быть! Вспоминает про свое вольное житье. Сыто, видать, жилось. Фунтов на двадцать потянет. А то и поболе! Экие мяса! Чистая купче-е-вна! Ваше благородие, язви т-тя…
– Чего это она задом пятится?
– Дак и шут ее знает… Так-то ей, поди, не развернуться… два аршина небось. А чего? Сетью ее не взять в этих крепях, удочку тоже не закинешь… Вот и вымахала дурында. Вот только на вентерь напоролась. Ночью должно, сослепу. Тыкалась, тыкалась вдоль вентерьного крыла, да и в зев угодила… Во, браток, мы с тобой как в зверинце побывали: на тигру поглядели… Ну, вставай, вставай, будя… А то зазябнешь.
– А как же щука? – спросил я.
– А что – щука?
Мне вдруг стало жаль рыбину, и я пытливо покосился на дедушку:
– Деда, давай ее выпустим!
– Вот те на! Это зачем?
– А чего она там…
– Попалась – вот и там… Ну, вставай, подымайся. Тебе, что ли, жалко ее?
– Ага…
– Ну, дак она ж разбойница. Ты ее выпустишь, а она поплывет и сразу кого-нибудь съест. Первого попавшего. Никого не пожалеет. Ни мальца, ни слабого… да и как мы ее ослободим?
– А у тебя топор…
– Ишь ты! Скумекал! – удивился дедушка. – Топором, конечно, можно… да тут, братка, такое дело… Мы щуку-то выпустим, да кто же поверит, что мы ее отпустили? Скажут, себе взяли…
– Но мы же ее взаправду выпустим?
– Нет, негоже это. Завтра придет хозяин: что такое? Лед изрубили, вентерь пустой… И скажут про нас с тобой: воры! Ладно ли это? Лучше пошли, голубь мой, калину брать: хороша с морозу!
Мы повернули к какому-то острову, я несогласно бежал позади дедушки, и мне все еще было жаль щуки.
5
Калина и впрямь оказалась хороша. Пока мы возвращались к санкам, я всю дорогу сощипывал со своего пучка и глотал морозно хрустящие ягоды прямо с плоскими костяными лепешечками внутри.
Возле вязанки уже успел кто-то побывать: кругом наслежено куриными крестиками и строчками пятипалых продолговатых перчаток.
– A-а, гости пожаловали! – обрадованно сказал дедушка. – Это вот сорока накрестила: искала, не обронили ли чего. Она все подберет: и съестное, и несъестное. Обронил пуговицу – сгодится и пуговица, отнесет в старое свое гнездо. Забыл ножичек – тоже дай сюда! Такая она. А это вот – лиска… Так, мимоходом. Не лиска, а сам Лис Патрикеевич: вот тут и лапку поднял, нажелтил под наши санки… Ну, веселый народ!
Дедушка снял с себя опояску и, привязав к вязанке, подергал ее, пробуя на крепость.
– Так… Сейчас, стало быть, и отчалим.
– А как же санки? – не понял я.
– А санки мы вот этак… – Дедушка перевернул их вверх полозьями и положил сверху вязанки. – Вот так вот…
Оказалось, он собрался тащить камыш прямо по льду, волоком.
Возок, правда, легко и послушно поволокся за дедушкой.
– Ты давай иди вперед, – посоветовал он. – А то на камышовые хвосты наступишь да и упадешь. А лучше полезай на воз, а то небось от ног отстал.
– Не-к!
– Ну, герой, герой!
На широких, открытых местах дедушка бежки разгонял возок, сам же, отбросив опояску, отстранялся с дороги, и тогда камышовый ворох скользил сам собой, без всякой упряжки. В таких случаях я тоже разбегался, догонял копнушку сзади, падал на ее пологий пушистый хвост и некоторое время, раскинув руки и ноги, сладко затихнув, катился вместе.
– По льду хорошо! – не противился дедушка. – Так-то по льду мы можем до самого дома добежать. Минуем болото – там начнется дренажная канава, а канава – в реку… Ну, а там – по реке, по реке– до затона… Вот мы и дома! Оно, конечно, малость подальше, но зато везде гладко. Не сравнить, ежели напрямки, по лугу. Там волоком не потянуть, а санки не един раз перевернутся.
У выхода из болота остановились передохнуть. Над нами взметнулись черные ольхи, усыпанные обильно уродившимися черными шишками. Оттуда, с ольховых верхов, доносился не то перезвон, не то пересвист, а больше походило на тот тонкий и мягкий звук, какой издает бахрома из стеклянных трубочек.
– Щеголья! – упредил мой вопрос дедушка. – Шишки теребят.
И верно, внизу, под деревьями, и далее вокруг на белой пороше темнели мелкие ольховые крылатки. Иногда легким дуновением их подхватывало и относило прочь, и тогда, взмелькивая на солнце прозрачной пелеринкой, окружавшей темное семечко, крылатки походили на летнюю танцующую в воздухе мошкару.
Птицы не выдержали нашей близости, шумно снялись и, не прерывая стеклянного гомонка, в характерном для щеглов качельном – вверх-вниз, вверх-вниз – полете и в черно-желто-красном мелькании скрылись за тальниковым гребнем.
Щеглов уже давно не стало, а дедушка все глядел и глядел в ту сторону, забывшись.
– Одно слово – птицы! – наконец сказал он с грустным восхищением. – Куда захотели, туда и полетели. Ни тебе вода, ни огонь – все нипочем. То-то что воля! Да-а… А я и сам… Иной раз завеюсь, запропастюсь куда-нито… Аж душа возликует! Займется радостью и согласием со всей этой тишиной и благодатью. И ты – как в младенчестве, как заново народился. Все тебе чуется внове: и как земля пахнет, и кора, и снег. И забываешь про все на свете и про себя самого: и что у тебя болит, и что ломит, и про еду не помнишь, про утробу свою… Одни глаза да уши… да мир в душе… А где-то там по деревне полномоченные ходят, зеленым табаком плюют, матерятся, недоимки трясут… Где-то люди в неправде барахтаются, в поеде друг друга, в суете непролазной… Да одумайтесь вы! Раз живете! Эх, дела наши… Вот остаться бы тут, да нельзя: опять надо в суету людскую, как предписано… Ты вот что… давай-ка полезай на копну, да и тронемся помаленьку. Солнце на исход пошло.
Я было заотнекивался, захорохорился упрямо, но дедушка изловил меня, поддел под мышки и усадил на верхотуре.
– Отдохни, отдохни маленько. А потом опять побежишь, – увещевал он, впрягаясь в красную опояску. – Еще до дому эвон сколь! А хочешь, я тебе стишок скажу… Сколь живу, столь и помню. Когда-то учитель наговорил, а я, малявка, враз схватил, и вот до си не забылся.
Он натянул кушак и, подавшись вперед, сдернул приросший было ворох. И отмеряя неспешные, упористые шаги, принялся выкрикивать в белый свет:
Чудотворец и целитель, —
Ухожу к нему порой.
Ухожу я в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И в свои младые годы.
Я слушал, опрокинувшись навзничь, блаженно и отрешенно глядя в морозное искрящееся небо. Подо мной монотонно шуршал влекомый камыш, затушевывая дедушкин голос, и вскоре я непробудно уснул и проспал всю неблизкую ледяную дорогу.
И конечно, не слыхал я, как еще раз над нами прошлась пара воронов, гортанно вопрошая: «Кто такие? Кто такие?..»
Покормите птиц!
Дмитрию Борисовичу Спасскому – заслуженному биологу

Как-то прибирался я на книжных полках, приводил в порядок разновеликие и разноименные творения, скопившиеся за многие десятилетия. Иные давненько не брал в руки, хотя и по-прежнему любил ровно и преданно за одно только их существование. Попалась оранжевая книжка стихов Александра Яшина с памятной веткой рябины на обложке. Эта ветка служила как бы символом, смысловым знаком всей его горьковатой и обнаженной поэзии. Разломил книгу наугад, в случайном месте, и вот открылись строчки, словно завещанные ушедшим поэтом:
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
А ниже звучит и вовсе моляще:
Сколько гибнет их – не счесть…
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Право, достал, достал меня Яшин этой своей тревогой, будто больно пнул мою совесть, умиротворившуюся было тихим сентябрьским деньком.
Не закрывая книги, я подошел к окну. А там исподволь уже делалось вот что: за минувшее лето уличные березки своими верхними побегами дотянулись до моего балкона на пятом этаже. Концевые листочки еще по-летнему весело и беспечно полоскались друг перед дружкой: «Я так могу, а я так умею!» Но первые утренники уже пометили их обманной лимонной нежностью, определив срок, когда порыв близкой невзгоды бросит их под ноги прохожих или вовсе унесет невесть куда.
А давно ли над этими березовыми вершинками с ликующим визгом проносились вставшие на крыло молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости задевавшие бельевые прищепки на балконе, которые и сами походили на вилохвостых ласточек, присевших передохнуть на протянутые веревки.
Стрижи исчезли в самый день Яблочного Спаса, когда в соседнем школьном саду еще дозревали, багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат которых в открытое окно опахал и мой письменный стол, отчего казалось, будто лето остановилось в своем необратимом благоденствии. Но как раз в этом голубом августовском безвременье внезапно обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и неуютом. Нас всегда смущает всякое прикосновение времени, его рокового перста. Неожиданный отлет стрижей и был знаковым предвестником надвигавшихся перемен, в котором мы, пребывая в ложном ожидании грядущей вечности, не всегда горазды уловить эти вкрадчивые перемены.
А между тем в легком перистом небе уже заходили предзимними кругами хороводы повзрослевших грачей. Они кружили высоко, на пределе своих возможностей, почти без взмахов, распластавшись крылами. Их гортанный переклик едва долетал из поднебесья. Грачи предавались доступной им радости своего бытия, взмыв над неприютной и всегда враждебной землей, на которой приходилось пребывать озираясь, а крылья держать наготове, будто взведенные курки. Эта радость кружения была выше радости сытости и покоя, потому что приходила вместе с чувством свободы. С бывалыми, умудренными птицами кружил молодняк, обучавшийся лёту – крутым виражам и захватывающему скольжению с посвистом ветра в упругом молодом пере. Должно быть, каждый взлетевший впервые испытывал ликующую гордость от ощущения себя птицей, не ведающей, что ждет ее там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и грянут цепенящие морозы.
Синицы объявились прилюдно только с первой прохладой. Они не попадались на глаза все минувшее лето, и даже не было слышно их тонко зинькающего голоса. В летнюю пору, поглощенные семейными хлопотами, они напрочь исчезали из виду и вели скрытную неслышную жизнь в кронах окрестных деревьев, порой прямо у нас над головой. Да и до песен ли, до праздного ли мелькания, пока не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых пискунов? И каждый, едва только забрезжит свет, уже пуще другого разевает оранжевую глотку: дай, дай, дай! Вот и крутись мать-синица с утра до вечера: в гнездо с букашкой, из гнезда с какашкой… Сказано это не ради смешка. Если за оглоедами не убирать, то вскоре этим непотребством гнездо наполнится до крайнего предела.
Да и сами-то букашки – они ведь не на каждом кусте, не на всяком листе. Их еще и разыскать надобно да исхитриться поймать. Те ведь тоже умеют прятаться или притворятся не тем, что они есть. Да еще желательно, чтобы добыча была не кусача, не растопырена во все стороны. А то иная гусеница так устрашающе волосата, будто ерш для чистки бутылок, а малиновый клоп этак вонюч, что с души воротит. А пуще всего подавай им пауков, что развешивают свои тенета меж кустов и построек. Их брюшко наполнено уже готовой белковой кашицей, которую они сами высасывают из мягкотелых насекомых. Такой паучок для птенца – сущее лакомство, за которое он готов выклевать глаз своему братцу и даже вытолкнуть из гнезда.
Все эти премудрости мамаше надо знать, чтобы не летать попусту, не носить в гнездо напраслину. В иной день до трехсот вылетов приходится совершать родителям в поисках завтраков, обедов и ужинов для своих ненасытных чад. А в иное благоприятное лето, не дав себе опомниться, собраться с новыми силами, синичья пара заводит новую кладку. И все начинается сызнова: туда-сюда, туда-сюда с рассвета до заката, без отгулов, без выходных. Поглядишь на эту птаху-кроху – в чем только душа держится: комочек перьев на тонюсеньких ножках да пара бусинок черных глаз, а какая материнская отвага, какое самопожертвование! А то бывает: папаша еще докармливает первый выводок, а синица-мать тут же, поблизости, в запасном гнезде, насиживает яички второго захода…
Наш великий классик Пушкин как-то, не подумавши, написал:
Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда…
Ой ли, однако!
И все же напрашивается вопрос: зачем синице этак напрягаться, выбиваться из последних сил? Для чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл такого самопожертвования?
А резон тот, что уж больно много этих милых, веселых, никогда не унывающих птичек погибает в лихие зимы. Из дюжины выращенных птенцов одолевают холода едва ли две-три синички. Оттого их генетический механизм устроен таким образом, что синицы, дабы вовсе не сгинуть со свету, вынуждены выращивать потомство с большим запасом, как бы упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь да уцелеет… Такую жестокую дань они платят за то, чтобы не покидать свою родину, не искать чужого тепла и сытости, как делают иные, а еще для того, чтобы с первым дыханием весны оповестить округу своим веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть невзгоды и встретить желанную весну – надежду всего сущего в мире – воистину дорогого стоит!
И Александр Яшин напоминает нам об этой удивительной верности:
Разве можно забывать:
Улететь могли б,
Но остались зимовать
Заодно с людьми.
В предзимье каждый выводок начинает совершать кочевые облеты того участка, который достался ему как бы в родовое наследство. В соседнем школьном саду перепархивают синички одной семейки, тогда как насаждения нашего переулка – уже вотчина другого выводка. Всякое посягательство на чужую собственность пресекается строгим синичьим законом. Свои хорошо знают друг друга и ревностно следят, чтобы в их владения не залетали чужаки – особи без определенного места жительства, или, по-нашему, бомжи.
Садовый участок, конечно, побогаче, поукормистее уличного. Там растет десятка полтора фруктовых деревьев, в шершавой, растресканной коре которых много укромных затаек для всяких куколок и зимующих яичек. Кроме того, яблони имеют широко распростертую крону, и не все листья опадают с похолоданием. От укусов насекомых под воздействием специальных ферментов эти листья сворачиваются в трубочки, фунтики и прочие пригодные упаковки, в которых и зимуют зародыши будущих вредителей. Но кроме яблонь и груш в саду много и чего другого: вишенника, смородины, непроходимой черноплодки и даже ломкой пустотелой бузины, из которой получаются отменные трубочки для стрельбы на уроках жеванной бумагой.
Владельцам же уличного участка скоротать зиму намного хлопотней. В их распоряжении всего-то несколько березок, парочка рябин, куст всегда пощипанной черемухи, костлявая неприютная акация, с которой даже собачата избегают общаться…
А еще разогнавшийся было в рост молодой каштан, этот лопоухий и простодушный верзила, которого вскоре и обрубили с одной стороны, чтобы не мешал телевизионной антенне. Впрочем, каштан у синиц не считался гостеприимным деревом: он рано сбрасывал свою квелую листву, в неприступных колючих плодах не заводится червоточины, а ветви его просты и незамысловаты для укрытия поживы.
Что и говорить: не велик и не густ лес в нашем переулке, всех его щедрот едва ли хватит, чтобы можно было десятку синиц безбедно скоротать предстоящую зиму.
Ну, допустим, в октябре, когда еще не вся листва опала, удается отыскать какое-никакое пропитание: глядишь, синяя муха села погреться на теплую, озаренную солнышком древесную кору и даже довольно потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе места для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-то поукромней; а то и шальная бабочка, будто с похмелья, вдруг неловко затрепыхает своими цыганскими оборками над сладко, обманно повеявшей на нее черемухой. Но сколько понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз в сутки склевать что-либо съедобное в промозглом, то сыплющем моросью, то секущем колючей крупкой ноябре? И сколь раз синичка с надеждой постучится в окно, завидев зелень на подоконнике? А в пугающем омертвелостью голых ветвей декабре? А в крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль не подарок, и, считай, половина марта не мед.
Каждый день стайка синичек из конца в конец облетает свой небогатый, задымленный автомобильными выхлопами уличный участок. Уже давно развернуты и обысканы подозрительно скрюченные листья, обследованы все трещины и щербатинки на каждом стволе, все развилки и надломы в кроне. Но все реже и ничтожней добыча, все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни.
И вот, сколько ни старайся, сколь ни оглядывай уже много раз осмотренные места, наконец приходит то роковое время, когда ничего не нашедшая, окончательно выбившаяся из сил, голодная, мелко вздрагивающая птаха забивается в свое гнездовье, а то и просто в какую-нибудь застреху или поленницу дров, где столь же люто, как и снаружи, где по-нашему не включишь свет, не затопишь печку, не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь ее под озябший бок и где, подобрав под себя одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову морозно шуршащими крыльями, забывается она в опасном беспамятстве. Так, едва вживе – каждую долгую ночь, которая в глухую пору начинается в пять часов вечера и тянется, терзая птаху лютостью, до девяти утра следующих суток. И каждый раз – без надежды, что эта ее ночлежка озарится для нее новым грядущим днем…
В безнадежную пору зимнего прозябания начинает рушиться порядок в синичьих семьях. Одни, отчаявшись, покидают родное урочище и принимаются скитаться по чужим местам – всегда гонимые и не принятые, другие пускаются обшаривать помойки, мусорные баки, всякие свалки и скопления мусора. Иные превращаются в профессиональных воришек-«домушников», устраивая шмон везде, куда возможно заглянуть и проникнуть, вплоть до плохо закрытой кастрюли с застывшим говяжьим борщом, выставленным хозяйкой на балкон вместо холодильника. А то и залазят в сетчатые авоськи, если там окажется курица, и даже внутрь выпотрошенной курицы.
Голодное, нищенское существование птиц (как и людей) нарушает свойственное им поведение. Шастанье по мусоркам и задворкам, случайные ночевки в закопченных расщелинах печных труб, в вентиляционных вытяжках и всяческих закутках, источающих самую малость тепла или хотя бы заслоняющих от ветра, со временем оборачиваются тем, что синицы утрачивают свою природную статность и привлекательность, от неопрятности бытия тускнеет, обтрепывается некогда нарядная одежка, приводить в порядок которую постепенно пропадает желание. Из прежних, ладно пригнанных рядков оперения часто выбиваются встрепанные, вывернутые наружу перышки, так и не заправленные снова вовнутрь, как бы сделала нормальная сытая синица. В эту зимнюю невзгоду появляются и просто бесхвостые синицы, не иначе как побывавшие в лапах таких же голодных и обездоленных наших прежних диванных мурлык, некогда мытых шампунем и пухово расчесанных гребнем.
Не доводите, пожалуйста, до этой унизительной стадии наших крылатых единопланетян и начинайте мастерить кормушки.
Лучше это делать в разгар листопада.
Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело:
Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Кормушка – вещица нехитрая. Под нее иногда приспосабливают даже обыкновенный пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится. А вообще-то кормушки всякие важны, кормушки всякие нужны… Только не надо их путать с птичьими домиками для жилья. Конструкций таких домиков великое множество, по крайней мере на страницах всяческих изданий: от «Веселых картинок» до «Сада и огорода на вашем балконе». В иные годы пускаются конструировать птичьи коттеджи даже такие солидные органы, как «Труд» и «Сельская жизнь», а также многочисленные общества и организации, вплоть до любителей стрельбы по боровой и водоплавающей дичи. Устраиваются межрегиональные выставки и конкурсы на предмет «Чей дизайн лучше?» с вручением призов и почетных грамот. Правда, случается это всегда весной, когда приходит маревая теплынь и сочатся соком расковыренные березы, когда всем хорошо – и уцелевшим после зимы птицам, и особенно самим конструкторам: весна же! Пора сбросить надоевшее пальто и вволю позабавиться лазаньем по деревьям. В иных коллективах «День птиц» проводится даже под пиво и музыку.
После такой вдохновенной жилищной кампании в наших садах и рощах пернатых становится гораздо больше. Осчастливленные птицы, обзаводясь потомством, особенно не просчитывают, что с ним будет зимой. Устроители же веселого «Дня птиц» тоже не больно задумываются на сей печальный счет…









































