Текст книги "Петербургское действо. Том 2"
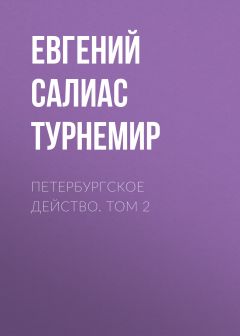
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
XXXIX
В тот же вечер все три брата Орловы, взяв с собой и молоденького кадета Владимира, а с ними Ласунский, Пассек и Талызин весело пообедали в трактире и уже вечером вышли на улицу.
Майская ночь была великолепна: тихая, теплая и ясная. Полная луна на небе светила так ярко, что на дворе было светло, как днем. Всем поневоле захотелось пройтись пешком, и они отправились к берегу Невы, по направлению к дворцу принца Жоржа.
Талызин, флотский офицер, обожавший море, предложил воспользоваться чудной ночью и затишьем и прокатиться в лодке.
Все единодушно согласились, только один Григорий Орлов стал отказываться, чувствуя страшную усталость. Он отсутствовал всю ночь из дому, вернулся со свидания только в шесть часов утра. Этого никто не знал и не видал, кроме старого Агафона, который его каждый раз упрямо дожидался одетый и с фонарем на столе. Теперь он чувствовал себя усталым настолько, что уже мечтал только об одном – очутиться в постели.
– Нет! – воскликнул Алексей. – Уж ехать, так всем ехать! И ты ступай! А коли разберет сон, ложись в лодке и спи.
– Что ж с вами делать! Поедем…
Вся компания направилась вдоль набережной по направлению пристани, помещавшейся против мыса Васильевского острова. Здесь всегда бывали перевозчики и всякие лодки.
Талызин, как знаток, выбрал самую большую лодку. Все вошли, расселись и взялись за весла.
Алексей Орлов сел передним гребцом и взял два огромных весла. Талызин сел к рулю. Только Григорий отказался грести наотрез, умостился за братом на самом носу лодки и, подложив себе под голову снятый Алексеем мундир, тотчас улегся…
И лодка стрелой понеслась вниз по течению благодаря бойким взмахам гребцов и силе быстрого течения. В десять минут лодка была уже на взморье. И сразу развернулось перед ними, будто обхватило их в огромные объятия, просторное, спокойное и необозримое лоно вод, перерезанное пополам лунной сверкающей полосой. Будто серебряная, но зыбкая и обманчивая дорога – по ровному, по темному и неведомому царству! Будто символ жизни нашей!
Талызин, сидевший лицом к великому простору, глянувшему вдруг на них среди ночи и затишья, не выдержал.
– Стой! – вскрикнул он. – Убирай весла!
Все повиновались.
– Поворачивай голову! – смеясь, скомандовал он. – Гляди и чувствуй. Где лучше? У вас или у нас? В казарме или на корабле?
Все обернулись, и никто не сказал ни слова. Все залюбовались тихим таинственным простором вод, и на всех повеяло чем-то чудным, новым, чего нет в городе, нет в поле…
– Гриша, – сказал наконец Алексей, – гляди, что за диво? Знаете, ребята… Чудно! Просто хоть молиться. Гриша!
– Отстань! А молиться хочешь, так и меня помяни, а я спать хочу, – промычал тот в ответ.
– Ну, матросы, за весла! – скомандовал Талызин. – Мы еще с полверсты двинем в море, а там назад.
И лодка снова понеслась по гладкой, незыблемой поверхности. Только весла, всплескивая воду, нарушали общий сон и затишье, и будто серебром посыпало по бокам лодки, да серебристый след вился за ней, как хвост, и, расходясь в обе стороны, страшно разрастался, но все-таки пропадал и умирал в безбрежном и живом просторе.
Гребцы, налегая усердно на весла, молчали; всякий думал свою думу, сознавая, что ставит судьбу свою на карту…
Григорий Орлов тоже, скорчившись и согнувшись на носу лодки, думал свою думу. Он думал о том, как много перемен совершилось за последнее время. Он вспомнил двадцать четвертое апреля, которое теперь на всю жизнь останется у него запечатленным на сердце. Он почти не шутил, когда говорил старому Фошке, что закажет мраморную доску, вырежет на ней это число и будет поклоны класть.
«И для Фридриха это число важное! Трактат мирный его сочинения одобрен…»
Затем, думая о последних днях, мысль его поневоле сосредоточилась на Теплове. Человек этот, присоединившись к их кружку, по-видимому, должен был совершенно все круто видоизменить, и к лучшему.
«Это действительно заправила наш, – думал Григорий Орлов, – и действительно я клад нашел. Только одно мучит душу. Ну вдруг, не побоясь угрозы нашей, одумается он, оробеет, пойдет за прощением к государю и в доказательство раскаяния назовет всех по именам. И все дело пойдет прахом! И все мы будем… бог весть где!»
Долго думал об этом Орлов, припоминая малейшее слово, малейшее движение, даже оттенок голоса нового члена кружка, самого старшего, самого влиятельного…
Но вдруг среди тьмы зажглись огоньки и фонари улиц петербургских. Среди темной ночи каким-то зловещим, красным светом сверкнули эти огоньки. В аду, верно, этакой вот огонь неугасимый. Лодка, сильно покачиваясь на волнах, быстро двигается по узкой темной реке.
«Как Нева узка! – думает он. – А говорят, самая широкая на свете. Куда! Висла и та шире гораздо».
Лодка все двигалась и наконец с маху уперлась в берег.
Григорий вышел с братьями на берег, и в ту же минуту среди темноты несколько военных подходят к ним.
– Вы Орловы?
– Мы, – говорит Алексей.
– Вы арестованы.
– За что? – воскликнул тот.
– Там узнаете… Идите.
Не прошло нескольких мгновений, как все три брата и товарищи уже на гауптвахте. Они стоят перед зеленым столом, за которым сидят Нарышкин и Гудович, заменившие Тайную канцелярию.
Дело простое. Теплов всех выдал. Перед Гудовичем лежит длинный список, во главе которого стоят имена трех братьев Орловых.
В соседней комнате слышен гул и шум: туда свозят всех арестованных товарищей.
Григорий ясно слышал голос Шванвича, который божится и клянется всеми святыми, что он никогда у господ Орловых не бывал, что он их только бивал.
– Бывал! Бивал! – восклицает кто-то и хохочет весело.
И в каком-то круговороте Григорий с полуслов и намеков узнает от Гудовича, что государыня арестована на время в Смольном дворе. Не далее как завтра она будет отвезена в Шлиссельбург и заключена навеки.
Гудович и Нарышкин начинают подробный допрос братьев как главных участников. Григорий отвечает истину, но брат Алексей вдруг хватает его за руку.
– Гриш, нечего попусту языком болтать! – восклицает он. – Что тут сказывать, дело простое, они сами лучше нас все знают. Виноваты кругом, ну и руби головы! Дело такое, и святое и грешное, и правое и виноватое! Или пан, или пропал. Та же чехарда! Не сел на конь, стань конь! Я больше ни слова! Хоть пытай, хоть на дыбу тяни!
И через минуту Григорий уже в отдельной каморке, где стоит только одна кровать, даже без матраца. Окошко решетчатое. И в это окно проливается слабый свет не то от фонаря, не то от луны. И в этой каморке так же тихо, как в гробу. Только мышь в углу грызет гнилую доску. Да ведь и это, поди, в гробу бывает; ведь есть земляные мыши, которые прокладывают дорожку к зарытому покойнику.
«Я всех погубил! Я этого Искариота, хохлацкого наперсника, раздобыл. И всех перебрали. Никто даже не останется цел, чтобы ему, по крайней мере, горло перерезать. А она? Что она? Проклинает его!»
И под наплывом горя и отчаяния Григорий забыл о каморке. Кто-то взял его за руку.
– Что? – восклицает он, вздрогнув.
– Иди!
Он послушно встает и идет за каким-то преображенским солдатом. Солдат оборчивается, это – Квасов.
– Ты как в рядовые угодил?! – восклицает Григорий. – Ты ведь, леший, у нас не захотел быть. Так за что же тебя-то разжаловали?
Но Квасов не отвечает и только махнул рукой. Не зная сам, как и когда прошел он длинный коридор, спустился по какой-то страшно крутой, будто винтовой лестнице, – Григорий уже на улице. На дворе свежо, солнце еще не подымалось, и он чувствует, как озябла голова его без шапки. Бессознательно идет он за Квасовым, проходит крыльцо, какие-то ворота и сразу вступает в кучку телег.
И все тут! Да, все до единого! Ни одного не позабыл Теплов.
Гробовое молчание царит между ними, никто ни слова. Да и что тут говорить! Но одно только видит Григорий, чувствует, и болью отдается оно у него на сердце. Он видит на всех лицах, читает во всех взорах одно – укор!
«Ты Теплова привез! Ты нас погубил!» – говорят все эти мертво-бледные лица и трепетные взоры. И он невольно опускает глаза, закрывает лицо руками и не хочет даже знать, видеть, что происходит кругом.
Его посадили на какую-то телегу; он боится открыть глаза, но чует, что и все садятся. Он двинулся, его везут, но он чувствует, что не один он едет, всех везут, и братьев и друзей! Неужели и мальчугана Владимира не пожалели они? Чем он виноват? Тем, что родня! Как он держал его у себя на квартире? Зачем не отправил его к брату Ивану в Москву? А брат Иван, и до него доберутся? Он чем виноват? Уже три года, как не видались они. Да что он? Что братья? Букашки, прах… Она! Она им погублена. Но куда ж везут их?
И Григорий, открыв глаза, вскрикнул и схватился за сердце.
Вереница тележек выехала на Адмиралтейскую площадь, и здесь, где так часто гулял он, ездил верхом, здесь, где еще вчера проходил, спеша свидеться… здесь уже состряпали на скорую руку высокий помост, столбы и плаху…
Как часто слыхал он в детстве рассказы отца и матери, рассказы мамушек, рассказы Агафона о бироновских казнях. И вот вдруг его черед! И как скоро, просто, незаметно привела его сюда судьба и толкает на плаху…
– Не срамись, Гриша! – слышит он рядом с другой тележки. – Баба ты или офицер? Умирать так умирать! Нешто мы не виноваты?! Повернись дело вправо – были бы герои, повернулось влево – и преступники!
И от слов брата у Григория светлей на душе, он бодрее поднимает голову.
Тележки останавливаются у высокого помоста. Тысячная толпа заливает кругом и помост и телеги, но мертвое молчание царит в этой толпе. Никто ни единым словом, ни единым взглядом не хочет оскорбить преступников. Нет, на всех лицах Орлов читает жалость и сочувствие. Да, православные все знают, что за правое дело они погибают.
– Первого – Орлова Григория! – слышится голос. – С него начинать.
– Ну, что ж! – восклицает он. – Спасибо за честь! Коли всем класть головы, так уж, конечно, мне первому. Простите, братцы. Прощайте. Будь проклят Теплов! Благослови, Господь, ее, государыню, ни в чем не повинную! Ну, рубите, что ль, скорей! Куда класть башку-то? Эй, палач, укажи, где класть. Одолжи разок, в другой раз сам буду знать! – шутит Григорий, а на глазах слезы…
Но чьи-то руки уже хватают его за плечи. Палач знает свое дело. Ишь как ухватил! Того гляди, плечо вывернет…
– Да вставай же. Ну! – кричит палач и пуще ухватил и тянет.
– Вставай! Государь простил! – говорит палач.
Нет, это не палач, это он сам себе говорит.
Площадь дрогнула, заколебалась вся и пошла каким-то странным круговоротом. Люди, тележки, дома, небо – все завертелось! И сразу стало светло! Прямо перед глазами круглая, ясная луна, будто кружок серебристого льда. А над ним нагнувшийся брат Алехан.
– Ну, заспался, брат. Насилу растолкал! Да еще бормочет: «Государь простил!» Аль Котцау во сне опять бил?
Григорий Орлов протер глаза, глубоко вздохнул и огляделся дико кругом.
– Что это? Где? Что? Палач! Умирать… Ну…
– Что ты! Типун тебе на язык! Экие слова на всю улицу орешь… – воскликнул Алексей. – Вставай! Все уж пошли… Вон уж где…
– Господи! Сон! Привиделось! – И Григорий вскочил на ноги. – Привиделось! Алехан! Алехан!!
И он так бросился на шею к брату, что лодка покачнулась.
– Что ты! Ошалел, что ли? Чего целуешься?
– Господи помилуй и сохрани! Господи помилуй! – начал креститься Григорий и затем, радостно ахнув, выскочил на берег и запрыгал, как мальчуган.
Алексей недоумевая вылез из лодки за братом и выговорил:
– Аль сон какой поганый?..
– Ах, что я видел! Алеханушка, что я видел! Что я видел!..
– Черта, что ли? – нетерпеливо вскрикнул Алексей.
– Ой, хуже… Ох, господи помилуй! Да ведь как живо-то! Как живо! Господи!..
И Григорий начал снова креститься, но вдруг остановился… и взбесился.
– Тьфу!.. Даже зло берет! – отчаянно воскликнул он.
Часть третья
I
Прошло две недели после маскарада у Гольца, а много воды утекло.
Кружок братьев Орловых увеличивался не по дням, а по часам. Наконец квартира Григория Орлова уже не могла вместить всех лиц, которые собирались по утрам, иногда поздно вечером и далеко за полночь. Приходилось подумать о другом месте для собраний. Неизвестно, долго ли Орловы прособирались бы найти новое помещение, если бы осторожный Теплов не взялся за дело сам.
За последнее время стали появляться в квартире Орловых личности, которых они не приглашали и которые сами навязывались в дружбу. При этих личностях, за которых ни один из братьев не мог отвечать, приходилось, конечно, осторожно молчать или просто играть в карты.
Один из этих неизвестных гостей, особенно навязчиво пристававший к Орловым повсюду, где встречал их, и раза два уже явившийся на их сборища, был приятель Фленсбурга, член кружка Гудовича – Будберг. Первый, сообразивший, в чем дело, был, конечно, Теплов.
– За нами начали присматривать, – объявил он, – Будберг таскается неспроста.
И Теплов отгадал верно.
До принца Жоржа, с одной стороны, до Гудовича – с другой, дошли положительные слухи, что в квартире Григория Орлова, где прежде бывали только кутежи и картежная игра, теперь собирается много народу уже не для вина и карт, а для бесед о разных государственных вопросах. Конечно, ни принцу, ни начальнику Тайной канцелярии, ленивому Гудовичу, не могла и на ум прийти та причина, которая руководила сборищем Орловых. Если бы кто-либо сказал, что там замышляется государственный переворот, то, конечно, каждый из «голштинцев», то есть приверженцев императора, похохотал бы до слез над такой глупостью.
Единственный человек, который отнесся к известию об этих сборищах серьезно, был Фленсбург, и он отрядил к Орловым своего приятеля Будберга с просьбой поразнюхать, что там творится.
Причина, руководившая Фленсбургом, была личная. Он искал теперь повсюду кругом себя средство как-нибудь отличиться в глазах государя. За последнее время личные дела Фленсбурга шли скверно. Фортуна отвернулась от него; графиня Маргарита почти перестала его принимать и обращалась с ним сухо и резко; а между тем Фленсбург был влюблен в нее еще более прежнего и более, чем когда-либо, ревновал ее ко всем: и к доктору Вурму, и к старому Скабронскому, и к самому Гольцу, и, наконец, за последние дни, уже на основании фактов, ревновал к мальчишке, которого Маргарита с невероятной ловкостью сделала в один месяц из рядового офицером.
Помимо неудачи в своих сердечных делах Фленсбург перестал быть тем, чем был еще недавно, – хотя и тайным, случайным, но все-таки самым влиятельным лицом в Петербурге. Еще недавно он имел полное влияние над принцем Жоржем, который в свою очередь имел влияние над племянником, то есть над государем. Теперь принц точно так же любил своего фаворита и переводчика, но сам не пользовался прежним значением при государе. Принц, а следовательно, и Фленсбург были побеждены и уничтожены другим человеком.
Этот победитель, захвативший теперь в свои руки чуть не всю Россию, по крайней мере судьбы России, был, конечно, прусский посол. Первый же друг Гольца в Петербурге была теперь графиня Скабронская. И влюбленный, ревнующий Фленсбург ясно предвидел, к чему приведет вскоре дружба Гольца с государем и с красавицей иноземкой. Фленсбург не сомневался в скором возвышении графини Скабронской, если только она не испортит все дело своим неосторожным поведением. Он не сомневался тоже, что первый человек в Петербурге, который при этом пострадает, будет, конечно, он. Вдобавок один из голштинских офицеров, бывший в маскараде Гольца, слышал ясно, как «Ночь» просила государя о высылке Фленсбурга.
И вот честолюбивый шлезвигский дворянин стал мечтать теперь о том, чтобы, помимо принца, как-нибудь приблизиться к государю. Прежде всего он стал ухаживать за Гудовичем более, чем когда-либо, и собирался, бросив место адъютанта ничего не значащего теперь Жоржа, поступить членом в канцелярию для разбора тайных дел. Он уже намекал об этом Гудовичу, обещая работать день и ночь, что, конечно, ленивому Гудовичу было на руку, и тот обещал ему поговорить об этом с государем.
Одновременно с этим Фленсбург стал присматривать за кружком Орловых. Как умный и тонкий человек, он решился следить за ними как можно осторожнее и накрыть только тогда, когда время приспеет и ему можно будет блистательно отличиться и сразу сделаться близким человеком к государю. И вот тогда-то, видя государя часто, он померяется силами с Гольцем и с отвергнувшей его красавицей. Силен Гольц, красива Маргарита, но Фленсбург не сомневался в победе. Над Гольцем он имел то преимущество, что знал страну ближе и говорил по-русски, над Маргаритой же – в том, что знал за ней кое-что, могущее в случае нужды погубить ее в глазах государя.
Впрочем, первая попытка Фленсбурга следить за Орловыми не удалась. После двух или трех назойливых посещений Будберга сборища в квартире прекратились. И, несмотря на все свои старания и даже несмотря на наемных солдат из голштинского войска, говорящих по-русски, Фленсбург не мог узнать, продолжаются ли где-нибудь сборища. Говорить же об этом он никому не хотел, даже принцу Жоржу ни слова ни разу не сказал о своем новом занятии, потому что ему хотелось вести дело одному и, накрыв подозрительных людей, присвоить себе всю честь великого дела.
Между тем орловский кружок далеко не в том виде, в каком был Великим постом, перебрался в огромный, вновь нанятый дом глухого квартала Выборгской стороны. Теперь в этом доме, кое-как меблированном на общие средства, собирались уже не одни молодцы гвардейцы. Здесь стали появляться люди пожилые, даже старые, из самых разнообразных кружков столицы. Тут было уже несколько чиновных людей, занимавших разные довольно видные должности в разных ведомствах, было уже несколько сенаторов и, наконец, несколько духовных лиц. В числе последних появился, хотя, правда, только один раз, сам Сеченов.
Деятельность кружка под управлением Теплова стала кипучая, хотя простая. Она заключалась в двух вещах: находить деньги пожертвованиями для раздачи в разных полках через офицеров и затем вербовать… и вербовать! И всякий вербовал другого и обращался к нему с одним и тем же неизменным вопросом:
– Пойдете ли вы против перемены?.. Помешаете ли чем-либо действу против существующего правительства, если таковое действо будет?
И подобного человека в столице почти не оказывалось!
Если бы Орловы и вся компания заговорщиков обращались с просьбой о помощи, с требованием действовать, то, конечно, они никого бы не нашли. Но они только заручились обещанием ничего не делать против тех, кто что-либо начнет… И отовсюду было полное согласие.
В двух только полках гвардии – в конном и Преображенском – можно было насчитать человек с двадцать офицеров, к которым нельзя было приступить с какими бы то ни было откровенными речами… Все остальные офицеры принадлежали уже кружку и сорили сборными деньгами в своих полках. В Преображенском солдаты обожали Алексея Орлова, Пассека и Баскакова, в Семеновском также обожали и повиновались Федору Орлову, в Измайловском – Ласунскому и братьям Рославлевым, а в конном делали, что хотели офицеры: князь Волконский, Хитрово и Бибиков.
Теплов играл ту же роль в сенате и мог перечесть немалое количество сенаторов, которые обещали в случае чего-либо «пальцем не двинуть». Что касается духовенства, то Сеченов ручался, что во всем Петербурге не найдется ни одного человека, носящего рясу, который бы был «сам себе враг». После отнятия вотчин у монастырей и после указа детям духовных поступать в солдаты кто же бы из них согласился ратовать за правительство, приводившее в исполнение эти пагубные для них меры?
Наконец, всякий из собиравшихся на беседы ручался за свой собственный дом, за домочадцев, за прислугу.
Прислуга была в свой черед распространителем известных речей по кабачкам и трактирам.
Таким образом, в скором времени тайные нити опутали столицу. Центром всего были Теплов и братья Орловы, из которых один бывал всякий день у императрицы. Но многие в кружке этого даже не знали.
Сама государыня тоже не теряла времени. Не было ни одного крупного сановника в столице, начиная с графов Разумовских, Панина, канцлера Воронцова, у которого бы она не выпытала, как поступит он в случае, если будет проявление недовольства и какое бы то ни было действо народное. Часто по очереди государыня беседовала со всяким из этих вельмож, но никогда ни разу не звала их вместе на общую беседу об этом предмете. Разумовские и не подозревали, что государыня осторожно беседовала с ними о том же, о чем беседовала вчера с Сеченовым, третьего дня с Паниным…
И таким образом, все и всё – от первого вельможи в государстве до последнего кабатчика – знали, ожидали и мечтали об одном и том же, но между собой об этом не говорили, воображая, каждый в свою очередь, что только один он посвященный, а другие все чуть не «голштинцы».
Единственный человек во всем Петербурге, который неосторожно, резко и откровенно заговаривал о невозможности положения дел, была княгиня Дашкова. Она чуть не самому государю говорила при встречах, что «так царствовать нельзя»! Но никто не обращал на нее внимания, всякий пожимал плечами и объяснял все словом «баба» или «фантазерка».
Вести себя так Дашкова могла, конечно, только в качестве родной сестры фаворитки и благодаря добродушию крестного отца, государя. Разумеется, из того, что знал Теплов, что знал Григорий Орлов, что знала государыня, Дашкова ничего не знала. Вреда принести она не могла, но и пользы от нее не было никакой. Она предлагала государыне действовать, заручаться друзьями и приверженцами, и государыня только улыбалась. Она предлагала государыне разные меры, но особенные, характерные. Однажды она предложила, чтобы всякий приверженец императрицы, негодующий на правительство и готовый стать на сторону ее и наследника, имел какое-нибудь отличие: подавая, например, руку, делал бы франкмасонский знак, носил бы на левой руке браслет. Особенно браслет с замысловатой надписью по-латыни преследовал княгиню и днем и ночью, и с ним преследовала она государыню настолько, что Екатерина однажды, рассмеявшись, отвечала:
– Ах, голубушка, да закажите вы себе его да и носите!
И часто государыня, оставаясь одна после визита Дашковой, весело усмехалась и думала:
«А ведь если, бог даст, совершится что-либо счастливо и удачно, то ведь она всю честь на себя возьмет!»
И ей невольно приходила на ум одна басня Лафонтена о мухе и путешественниках.
Муха в басне, назойливо кружившаяся над лошадьми, людьми и экипажем, который с трудом поднимался в гору, наконец отстала, уселась на дереве и с приятным чувством исполненного долга объяснила себе, что после всех хлопот она может и отдохнуть!..
Итак, целая сеть, невидимая и тонкая, лежала над столицей, и нити от этой сети были в руках государыни.
Но, однако, одна вещь была совершенно никому не известна: когда? что? как будет совершено? Через месяц? Или через год? Открытый бунт и кровопролитие?! Или что-либо еще ужаснее? Нападение на личность государя?!
Пассек, у которого были все бумаги кружка, а равно и деньги, выработал целый проект народного действа, но он был немыслим.
Близкий приятель Орловых, Баскаков, жертвовал собой и предлагал покончить одним разом все…
Но его предложение было единогласно отвергнуто, и даже Григорий Орлов говорил, что не решится довести до сведения государыни, что именно берет на себя одного Баскаков.
Много было переворотов в Питере с Петра Алексеевича по наши дни, говорило большинство, но ни один из них не был запятнан пролитием крови! Нет, нужно христианское, общее от всех состояний действо без преступления заповедей Божьих и во славу отечества и свою собственную.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































