Текст книги "Петербургское действо. Том 2"
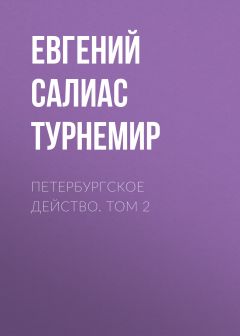
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
XXXIII
Около получаса простоял Шепелев, в подробностях обдумывая, как он, вернувшись в казармы, попробует убить себя.
«Не хватит храбрости, – думалось ему, – но попробую, все-таки попробую. Может быть, как-нибудь нечаянно сам себя обману. Буду говорить, что только ради пробы, ради шутки, и как-нибудь вдруг застрелюсь или зарежусь».
– Господин сержант! – раздался около него голос, от которого вся кровь хлынула у него к сердцу и к лицу. – У меня до вас большая просьба… – говорила стоящая перед ним кармелитка, но уже без маски, которую она держала в руке.
Шепелев едва двинул губами, все чувства его онемели, а сердце стучало настолько, что казалось, даже она заметила это по галуну и пуговицам, которые равномерно вздрагивали на его груди.
И кармелитка сделала движение рукой, совершенно закрытой длинным рукавом, как бы приглашая юношу отойти к окну вместе. Сделав несколько шагов, она стала ближе к нему и выговорила:
– Вы здесь должны быть весь вечер на часах?
– Да-с, – через силу вымолвил Шепелев.
– В таком случае вы исполните мою просьбу. Очень важную просьбу! Гораздо более важную, нежели она вам покажется, нежели вы думаете. Сегодня здесь будет на бале, должна быть каждую минуту, одна замаскированная гостья, недавно приехавшая прямо из Вены и не знающая никого в Петербурге, незнакомая даже лично с господином посланником, хотя и приглашенная им сегодня. Если я или барон будем в эту минуту здесь в дверях, то моя просьба к вам окажется излишней, но если ни меня, ни барона не будет, то я прошу вас провести эту даму. Она предупреждена и двинется прямо за вами. Вы, идя перед ней, незаметно проведите ее к посланнику и, найдя его среди гостей, знаком укажите ей. Поняли вы меня?
– Понял. Это я понимаю! Но зато, кроме этого, я ничего не понимаю, – выговорил Шепелев, немного придя в себя. – То, что для меня вопрос жизни и смерти, того я не понимаю. Неужели вы, графиня…
– Ну, об этом после, – резко выговорила она. – Теперь не время, и я… Вы поняли мою просьбу?
– Да-с.
– А как вы узнаете ту даму, про которую я говорю? – рассмеялась кармелитка.
Шепелев подумал и вымолвил неохотно и даже с оттенком грусти в голосе:
– Да, правда. Как же мне узнать ее?
– Я вам скажу ее костюм. Ее заметить будет немудрено. Она явится на этот яркий и пестрый бал, как пятно.
– Признаюсь, не понимаю.
– Да. Ее костюм будет… среди других, как черное чернильное пятно среди белой бумаги.
Юноша не понял. Маргарита повторила:
– Она явится в черном с головы до ног. Понимаете?
– Понимаю-с.
– Ошибиться мудрено, я надеюсь…
– Мужчины, графиня, вообще не ошибаются, как может ошибиться женщина, – грустно выговорил Шепелев. – Женщина, в особенности красавица и кокетка, может ошибкой дать даже поцелуй.
– По ошибке поцелуя не дают, а дают иногда… из жалости! – рассмеялась Маргарита.
– За это, право… – вдруг глухо выговорил Шепелев. – Право, можно зарезать…
– Тут, на бале… Полноте… Вот и видно: ребенок. Да неужели вам не жалко было бы убить женщину, которую вы любите?.. И как любите! Ведь вы говорите, что умираете от любви.
И Маргарита звонко расхохоталась, но немного искусственным смехом.
– Пощадите, графиня… – упавшим голосом вымолвил Шепелев.
– Ну, так помните, не спутайте. Окажите эту милость для меня. Исполните как следует мою просьбу об маске.
И Маргарита, весело и беспечно смеясь, отошла от Шепелева и прошла в бальную залу. Он был возмущен до глубины души ее словами, и голосом, и смехом.
«Понадобился на то, на что годился бы всякий лакей в доме, – озлобленно подумал он. – Господи! Неужели уж нельзя перестать любить ее? Бросить, забыть… Ну, влюбиться в другую! Она жестокосердая, злая… Ей все только смех… Может быть, здесь, на бале, человек сто, которых она так же целовала, как и меня».
И долго размышлял юноша. Ему, конечно, доставила наслаждение возможность поговорить с ней хотя минуту, но едкое, горькое чувство как будто еще прибавилось. Она насмехалась над ним. Понятно, она даже явилась из такой комнаты, где может остаться до утра, которую почему-то заготовил ей заранее хозяин дома. И Шепелев вдруг злобно рассмеялся.
В эту же самую минуту в зале и прихожей началось маленькое волнение.
Гольц двинулся снова к дверям лестницы, но спустился по ней донизу, а вслед за ним хлынула и пестрая, блестящая кучка сановников. И через несколько минут прихожая и вся лестница были полны вышедшими навстречу гостями. Только узкое свободное пространство оставалось по лестнице. Приехал государь.
Шепелев на минуту забыл свое горе. Он редко и издали видал государя, и ему хотелось теперь не упустить этого единственного случая видеть русского монарха не на коне, не на плацу, а простым гостем на бале.
Через несколько минут государь, взяв под руку Гольца, поднялся по лестнице, весело кивая головой направо и налево, изредка подавая руку, преимущественно старикам и иностранным послам. За ним вслед поднимался по лестнице принц Жорж, а за Жоржем непременный хвост его, всей гвардии ненавистный Фленсбург. Все прошли в залу. Грянула музыка, и начался менуэт.
Тотчас же стало известно на бале, что государыня хворает и быть не может.
Шепелев, занятый своей заботой, все-таки невольно заметил после этой вести много сияющих и торжествующих лиц. Вскоре мимо него прошли и стали невдалеке два сановника. Шепелев знал, что один – воспитатель наследника, а другой – наперсник и друг братьев Разумовских. Эти два человека считались во всем Петербурге самыми умными и самыми образованными, учившимися за границей. Юноша слыхал даже, что Панин, не любимый императором, считался в лагере «елизаветинцев» и был в числе явных друзей императрицы. Он слыхал тоже, что Теплов «голштинец», горячий и искренний приверженец императора, друг всем немцам, ибо говорит великолепно по-немецки и воспитывался в германском университете. Шепелеву было даже интересно поближе рассмотреть Теплова, так как говорили, что оба графа Разумовские у него в руках и делают, что он прикажет. Если бы не этот Теплов, то Разумовские, по словам Квасова, были бы еще более любимы в столице, но теперь их стали любить меньше, потому что Теплов заставил их тоже сделаться чуть не «голштинцами».
Идя мимо и не обращая внимания на сержанта, Панин горячо воскликнул:
– Однако ж позвольте, Григорий Николаевич. Положим даже, что она и не захворала, положим, что ей не захотелось быть на этом торжище, где празднуется позор Российской империи. Наконец, вспомните, что сегодня только четыре месяца и одна неделя, что скончалась государыня. Можно было бы пообождать скоморошествовать и всякие дурацкие костюмы напяливать на себя.
– Не согласен, Никита Иванович, – спокойно отозвался Теплов. – Вы знаете мой образ мыслей насчет всего этого. Договор этот я не считаю позорным: у нас будет надежный союзник. Земли мы ему отдали назад такие, которыми владеть бы не могли, которые никогда российскими бы не сделались. Что касается до болезни ее величества, то скажу даже с вашей и ее точки зрения: нехорошо мелочами раздражать государя и общественное мнение. Что стоило сюда приехать, когда здесь вся столица, и здесь, наконец, сам Разумовский Алексей Григорьевич, которому, как вы знаете, покойная государыня тоже была не чужой человек, – многозначительно и налегая на последние слова, выговорил Теплов. – Ему еще тяжелее в его трудном положении через четыре месяца на этом плясе быть, однако приехал.
Шепелев заслушался было беседы двух сановников, говоривших такие слова, которые редко удавалось слышать простому сержанту. Если бы они знали, что сержант их слушает и понимает, то, конечно, понизили бы голос. Тайная канцелярия и «слово и дело», еще недавно уничтоженные, были еще всем памятны. А в канцелярии не разбирали, кто простой человек, хотя бы даже разносчик, и кто сановник, хотя бы даже фельдмаршал.
И Шепелев напрягал свой слух, чтобы слышать окончание беседы…
Но в эту минуту он вдруг ахнул. Поручение той, которая могла все приказать, могла приказать даже умереть… это поручение приходилось теперь исполнить.
В дверях приемной появилась маска. Шепелев двинулся, да и не он один! Все бывшие недалеко от него и даже спорящие Панин и Теплов – все обернулись и двинулись вперед… и смутный гул одобрения, если не восторга, сорвался у всех с языка. Все ахнули, любуясь.
XXXIV
На пороге стояла стройная и грациозная женщина, вся в черном. Она казалась не маской, а привидением. Вся она с головы до ног была окутана в легкий и прозрачный черный газ. На черных как смоль волосах лежала бриллиантовая диадема с большой яркой звездой, из-под которой падал длинный газовый вуаль. Охватив ее всю, как легкое черное облако, он лежал прозрачными волнами на обнаженных плечах, вился по изящному бюсту, сбегал, ниспадая по платью, до полу, и, отлетая назад, развевался за нею над шлейфом, змеей лежащим на паркете. И вся она была осыпана звездами, от буклей прически до башмаков. По юбке рассыпались семь больших звезд в сочетании Большой Медведицы. На вырезанном вороте корсажа, окаймляющем грудь, горит самая яркая звезда, а у пояса, под сердцем, на черном атласном корсаже, плотно обхватившем ее пышный бюст, лежит, покачнувшись и грациозно прильнув к груди, большой сияющий полумесяц. Лунный серп вспыхивает и сверкает… и бьющая волна его света, пронизывая облако газа, обдает алмазным сиянием и всю ее черную фигуру, и все окружающее. И под легкими черными волнами газа снежно белеются, как изваяние, изящные обнаженные плечи и руки, не разделенные рукавом. Только две черные ленты с двумя бриллиантовыми звездочками на бантах отделяют руки от плеч.
Черная маска с плотным кружевом чересчур тщательно скрывала все лицо ее от диадемы на лбу до горла. Лица не существовало, и вместо него была немая мертвая личина, ничего не говорящая, но зато лучистый огонек будто вспыхивал в отверстиях маски, где сверкали два глаза, такие же черные и такие же блестящие, как и вся эта костюмированная «Ночь». Но тот, кто видел теперь эти плечи и руки, как изваянные из белого мрамора, тот ни мгновения не поколебался бы решить, красавица ли эта явившаяся незнакомка или нет.
Шепелев, подобно всем, и даже более всех, стоял как бы под обаянием изящного костюма, эффектно идущего вразрез со всеми остальными.
«Она явится, как чернильное пятно на белой бумаге», – вспомнил он слова Маргариты. Нет, это не пятно. Она явилась сюда, как таинственная, сияющая звездами ночь, которая больше говорит сердцу, более пленяет его, чем самый светлый и сверкающий солнцем день.
Но незнакомка знала, что делала. Она знала, что, когда пройдет, все сотни глаз будут следить за ее змеино вьющимся шлейфом! Она знала, что ей неопасно закрыть лицо, что ее бюст, ее плечи и руки скажут о лице! И скажут больше, чем, быть может, сказало бы оно само за себя! Неведомое всегда чарует человека и всегда очаровательнее того, что он знает и видит…
Шепелев, смущаясь, двинулся к вошедшей, наклонился, хотел что-то сказать. Но, вспомнив, что говорить ничего не нужно, он пошел снова вперед и только косо оглянулся, чтобы видеть, идет ли она за ним.
Она идет. Все взоры выстроившихся рядом сановников, как если бы снова государь проходил, пристально, невольно следят за нею, и, конечно, не чувство почтения приковало теперь их глаза.
Да и впрямь, если это был не монарх, не государыня, то это была тоже царица, но иная… Царица бала. Царица, всегда за все века, всюду провозглашаемая молчаливым, но единодушным решением общественного мнения. И если это царствование кратко, продолжается одну ночь, то всякая, бывавшая хоть раз царицей большого блестящего бала, до старых лет помнит это, передает и детям и внучатам как событие в жизни, как собранную дань с побежденного, как дорогую и светлую минуту. И это воспоминание самое отрадное! Всегда сладко и тепло сказывается оно на сердце какой-нибудь седой, уже морщинистой бабушки!..
Шепелев прошел несколько шагов по зале, увидел Гольца и приблизился к нему, ни слова не говоря и только оглядываясь на «Ночь», каким-то фантастическим видением скользящую за ним по паркету.
Гольц обернулся, сделал движение, выдавшее его удивление, и затем – как показалось Шепелеву – со странным двусмысленным выражением лица быстро подошел к незнакомке и сказал ей громко по-немецки:
– Прошу считать меня вашим давнишним знакомым, даже другом. Прошу вас здесь быть как дома. Я с нетерпением ожидал вас… Прежде всего я позволю себе испросить сейчас позволения у государя представить ему «Ночь», а затем и познакомить с «Ночью» некоторых гостей.
– Благодарю вас за честь быть представленною его величеству, – вымолвила «Ночь» голосом, который показался проходившему мимо нее Шепелеву странным, будто искусственным.
Ему показалось, что костюмированная незнакомка нарочно изменяет свой голос. Он приостановился невольно, хотя не имел на это права, и расслышал еще фразу:
– Помимо государя, барон, я могу в качестве маски говорить с кем хочу, не будучи знакома? И мне широкое поле интриговать, так как я приезжая, не могу быть узнана.
Шепелев нехотя вернулся на свое место и думал:
«Какие плечи и руки! Какая, должно быть, красавица! И опять-таки ее приятельница! Должно быть, и приятельницы ее все такие же красавицы, как она. Эта, пожалуй, даже еще красивее графини».
В ту минуту, когда Гольц, покинув «Ночь», подошел к государю, Петр Федорович стоял у канделябра и читал бумагу, вытащив ее из обшлага кафтана. Лицо его было сумрачно.
Гольц подождал; государь прочел бумагу до конца, поднял глаза и выговорил по-немецки:
– А, это вы, барон, отлично… Подойдите сюда. Посмотрите. Вы можете мне совет дать, потому что и прочитать это можете. Я получил это, выходя из кареты, на вашем подъезде… Приятное очень развлечение для бала!..
И государь передал Гольцу письмо на французском языке.
Гольц быстро пробежал его. Оно было подписано французским именем, и даже громким: Валуа. Содержание письма был донос. Писавший его доводил до сведения государя, что один из важных сановников, господин Григорий Теплов, позволил себе в присутствии нескольких свидетелей отозваться о его величестве в самых ужасных выражениях, прибавляя и грозясь, что скоро всему будет конец: государь будет свергнут с престола, а заменен истинным и законным императором, Иоанном Антоновичем, томящимся в заключении.
– Ну, что же скажете? – вымолвил Петр Федорович, когда Гольц прочел.
– Но кто же этот Валуа? – произнес Гольц. – Француз?
– Я только знаю, барон, – рассмеялся государь, хотя лицо его было угрюмо, – что это не случайный потомок французской королевской фамилии, давно угаснувшей. Но заметьте все-таки, что это имя напоминает целый ряд заговоров, покушений и убийств. Последние Валуа кончили трагически свое существование, хотя сами были тоже устроители самой страшной и позорной в истории резни в ночь святого Варфоломея. Мне часто приходит на ум эта ночь, и я всякий раз с ужасом представляю себе, как это происходило на улицах многолюдного города, где брат убивал брата и отец – сына.
– Да, это была не дипломатическая ночь, – усмехнулся Гольц. – Но позвольте мне, ваше величество, сгладить дурное впечатление, представить вам сейчас другую ночь, не Варфоломеевскую.
Государь не понял и пристально взглянул ему в лицо.
– Позвольте мне представить вам «Ночь», иначе говоря, маску, изображающую «Ночь». Но с одним условием, если вы позволите: я только завтра скажу вам, кто она. Говорить с ней вы можете свободно по-немецки. Она нерусская, приезжая, и ее родной язык – ваш и мой… Прибавлю еще, как необходимую нескромность, что «Ночь» замечательная, поистине красавица и таковою слыла и в Париже, и в Вене…
– Давно она в Петербурге?
– Об этом позвольте мне умолчать до завтра. Завтра вы узнаете все: кто она, что она, откуда и зачем. И мы вместе посмеемся весело.
– Отлично! Пускай она меня интригует как бы простого смертного! – весело выговорил государь и фамильярно хлопнул Гольца по плечу бумагой, которую держал в руках.
Но это движение невольно снова напомнило ему о доносе.
– Но что же с этим делать, барон?
– Право, не могу вам сказать.
– Ах… фуй!.. Русский ответ… Стыдитесь, господин прусский посол! Ну, ну, советуйте, скорее советуйте! Велеть его сейчас арестовать?
– Кого? Этого француза? – спросил Гольц. – Пожалуй…
– О нет! – воскликнул государь. – Теплова, Теплова.
– Я бы этого не сделал, ваше величество. Зачем спешить? Наконец, признаюсь вам… – Гольц рассмеялся добродушно и прибавил: – Признаюсь откровенно, что я, как хозяин дома, прошу отложить этот арест. Зачем вы хотите портить мне бал? Мне хочется, чтобы все сегодня были веселы. А арест такого лица, как Теплов, у меня на бале смутит тотчас весь дом, а затем, конечно, всю столицу, Теплов, наконец, такая личность, что, откровенно говоря, мне кажется все это ошибкой, если не преступным поступком, то есть дерзкой клеветой на русского сенатора со стороны однофамильца французской королевской династии. Вспомните, ваше величество, – рассмеялся Гольц, – что последние короли этой династии были ужасные лгуны и клеветники. Позвольте мне прежде всего, будто от себя, узнать у господина Бретейля, который знает в лицо всех своих соотечественников, что за птица этот Валуа.
Государь согласился и поблагодарил, но попросил барона сделать это тотчас же.
Гольц быстро отыскал среди играющих в карты французского посланника и объяснился с ним. Разумеется, и Бретейлю то же самое пришло на ум, и он выговорил рассеянно, как бы себе самому:
– Les Valois ont regné en France![17]17
Валуа, царствовавшие во Франции! (фр.)
[Закрыть]
– Полагаете вы, что это один из них? – сострил Гольц довольно дерзко.
– О нет! – встрепенулся вдруг уколотый француз. – Если бы, например, один из сыновей гениальной интриганки Екатерины Медичи был теперь в Петербурге, вам не удалось бы, барон, заключить с Россией ваш новый трактат.
И Бретейль язвительно улыбнулся, глядя на Гольца, который невольно вспыхнул.
– Итак, вы не знаете… но не знает ли кто этого Валуа в вашем посольстве?
Бретейль подумал, потер себе рукой лоб, потом пожал плечами и встал, чтобы разыскать секретаря посольства.
От него они узнали, что есть в Петербурге Валуа, простой каменщик, работающий в доме графа Разумовского. Это показалось странным совпадением для Гольца. Валуа писал, что он слышал слова Теплова при свидетелях, не называя места или дома, теперь же оказывалось, что Валуа работает в том самом доме, где Теплов прежде жил, а теперь бывает от зари до зари.
Гольц, ворочаясь к государю, соображал, что если этот каменщик окажется прав, то произойдет сильный переворот при дворе, и ему лично выгодный. Он предвидел неминуемое падение и, пожалуй, ссылку обоих братьев Разумовских, вкруг которых, осторожно и тайно, группировались все враги правительства и самые отчаянные враги его короля и его детища, то есть нового мирного договора.
Сведения, сообщенные посланником, произвели на государя такое же впечатление, как и на Гольца. Государь раскрыл широко глаза и вымолвил любимцу своему тихо:
– В доме Разумовских? Наверное! Конечно! Так! У Разумовских? – И лицо его пошло пятнами. – Ну, барон, – выговорил государь, – если бы это было не у вас, я бы приказал сию же минуту арестовать Теплова, да, пожалуй, и этих близнецов-хохлов. Недаром говорят здесь, что хохлы хитрый и лукавый народ! Ну, завтра к утру Теплов будет у меня уже допрошен. Я им покажу пример всем, что я не позволю шутить с собой. Я не царица-баба вроде тетушки да и не младенец-император, которого из люльки выкинули прямо на снег.
Государь помолчал несколько минут и тяжело переводил дыхание.
– Ну, что вы хотели? – веселее произнес он наконец. – Вы что-то мне предлагали?
Но в ту же минуту государь пристально устремил взгляд в дальний угол залы, где среди яркой, пестрой толпы было странное, черное и сияющее вместе пятно; серебристые лучи от массы бриллиантов даже издали светились.
– Кто это? Что это? Домино? Нет?
– Нет, это она и есть, ваше величество, – усмехнулся Гольц. – Позвольте, я сейчас представлю ее вам.
И Гольц быстро прошел залу, подал маске руку и повел к государю.
– Позвольте, ваше величество, – сказал посол, весело улыбаясь, – представить вам «Ночь», явившуюся в Петербург. Не вашу северную, холодную ночь, а южную, чудную и поэтическую, покровительницу любви и влюбленных. Ручаюсь вам, что вы не будете скучать и даже забудете все ваши заботы и всех этих крамольников, – серьезнее прибавил Гольц и, поклонившись, отошел от обоих.
– Я счастлива, наконец, – заговорила «Ночь» чистым немецким языком, – я достигла моей давнишней мечты видеть монарха, имя которого скоро облетит весь мир и останется навеки в истории, сияющее славой великих дел.
Государь между тем невольно любовался костюмом незнакомки, затем он подал ей руку и повел из залы, где снова начиналась музыка и танцы, в другие комнаты, где можно было говорить.
И всюду толпы гостей становились рядами на проходе государя, но глаза всех все-таки были устремлены не на него, а на его спутницу, всю блестящую в алмазных лучах и сияющую своими снежно-белыми плечами…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































