Текст книги "Чайковский. Истина русского гения"
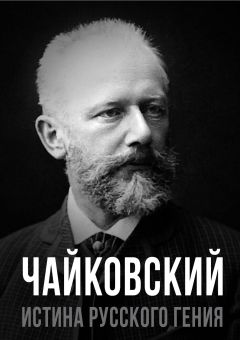
Автор книги: Евгений Тростин
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
В 1837 году И. П. был назначен начальником Камско-Воткинского завода и вместе с женою водворился там. Здесь 9 мая 1838 года у них родился сын Николай и 25 апреля 1840 года – сын Петр. Явился он на свет слабеньким, с каким-то странным нарывом на левом виске, который удачно был оперирован вскоре после рождения.
Федор Маслов. Воспоминания друга
Петр Ильич был любимцем не только товарищей, но и начальства. Более широко распространенной симпатией никто не пользовался. Начиная с изящной внешности, все в нем было привлекательно и ставило его в совершенно исключительное положение.
При поступлении в седьмой класс Петр Ильич особенно был дружен с Белявским, но вскоре последнего заменил я. Второе полугодие седьмого и первое полугодие шестого мы были почти неразлучны. С переходом в последний к нам присоединился Апухтин – мой земляк. Так дело продолжалось до конца 1853 года, когда произошел разрыв. Я заболел и некоторое время пробыл в лазарете. Выйдя оттуда, был очень удивлен, увидев своим соседом по пульту не Чайковского. Он сидел со своим новым другом Апухтиным. Воспоследовала ссора. Прежние друзья перестали разговаривать между собой. В пятом классе мы помирились и до окончания курса, а затем на всю жизнь были в совершенно дружеских отношениях, но первоначальная интимность уже более не возобновлялась. С Апухтиным же я никогда уже более не сошелся.
В музыкальном отношении среди товарищей Петр Ильич, конечно, занимал первое место, но серьезного участия к своему призванию в них не находил. Нас забавляли только музыкальные фокусы, которые он показывал, угадывая тональности и играя на фортепиано с закрытой полотенцем клавиатурой. Со дня поступления он был певчим и первые три года состоял во вторых дискантах, для которых был запевалой. Это было необходимо, потому что туда ставили дискантов, плохих по голосу и слуху. Соседство фальшививших товарищей причиняло ему страдание. Тем не менее Ломакин всегда отмечал его. В седьмом и шестом классах Петр Ильич пел в трио «Исполаэти деспота» в Екатеринин день на архиерейском служении, а позже в пятом классе «Да исправится», но уже не в качестве дисканта, а альта. Регентом всегда бывал воспитанник первого класса. Это было необходимо потому, что на нем лежала не только обязанность чисто музыкальная. Приходилось собирать товарищей на спевки, для чего по отношению к взрослым требовался авторитет старшего по годам и положению в Училище. Но в 1853/54 году в старшем курсе не нашлось достаточно хорошего музыканта, чтобы стать регентом, и таковым был назначен воспитанник младшего курса Гамалей. В 1856/57 году его заменил Христианович (брат композитора), в 1857/58 году – Юренев, а в 1858 году осенью – Чайковский. Он оставался регентом недолго, не более двух месяцев, потому что не проявил ни умения, ни охоты командовать, и Селецкий, был сначала помощником, заменил его.
Курить Петр Ильич стал очень рано, хотя интимнейшие друзья его были не из курящих.
В будничной жизни он отличался своей беспорядочностью и неряшливостью. Он перетаскал товарищам чуть не всю библиотеку отца, но зато и сам, пользуясь чужими книгами, не заботился об их возвращении. В 1869 году в Москве у профессора консерватории, ничего общего с юриспруденцией не имеющего, я нашел юридические сочинения, «зажиленные» еще во время пребывания в Училище, и, между прочим, три экземпляра руководства Уголовного судопроизводства Стояновского.

Петр Чайковский
Петр Ильич всегда был без учебников и выпрашивал их у товарищей, но и его пульт был тоже как бы общественным достоянием, в нем рылся кто хотел. В старшем курсе как-то во время экзаменов Петр Ильич готовился вместе со мной. Местом занятий мы избрали Летний сад, и чтобы не таскать с собой записок и учебников, прятали их в дупло одной из старых лип, прикрытое сверху досками. По окончании экзаменов я вынимал оттуда свои бумаги. Петр Ильич же постоянно забывал это делать, и его учебные пособия, может быть, и поныне гниют в одном из саженцев Петра Великого.
Петр Ильич увлекался литературой и принимал деятельное участие в журнале «Училищный вестник», издаваемом в пятом классе под редакцией Апухтина и Эртеля. Его перу там принадлежала замечательно легко и остро написанная «История литературы нашего класса» [1854].
В последние годы училищной жизни Чайковский вел дневник под названием «Все», где изливал все тайны души, но был так доверчив и наивен, что держал его не под замком, а в том пульте, где в общем ворохе лежали его и чужие книги и тетради.
В годы службы в департаменте Министерства юстиции аристократизм его натуры, в смысле утонченной чувствительности к воспринимаемым впечатлениям, сказывался в том, что он стремился к сближению с верхами общества в переносном и буквальном значении слова, а также в том, что он питал глубокое отвращение к царившему тогда духу солдатчины. Влечение ко всему красивому, ласкающему взор, между прочим, сказывалось в заботах о своей внешности. Будучи беден, он не мог элегантно одеваться, и это причиняло ему страдания.
Маслов Федор Иванович (1840–1915), юрист, товарищ и друг Чайковского по Училищу правоведения и сослуживец по департаменту Министерства юстиции в 1860–1861 гг.
Герман Ларош. Он был добр
Я с ним познакомился в сентябре 1862 года, рано утром, в маленькой комнате демидовского дома (на углу Демидова переулка и Мойки), где помещалась только что открытая консерватория. В этой маленькой комнате от восьми до девяти утра Антон Герке, в то время один из трех или четырех первых пианистов Петербурга, давал фортепианный урок трем «теоретикам» и одному фаготисту. Это был «обязательный класс фортепиано», то есть, другими словами, фортепиано для не пианистов. «Теоретики», то есть ученики, желавшие посвятить себя композиции, были в данном случае Чайковский, я и П. Т. Конев, впоследствии преподаватель фортепиано в Московской консерватории, умерший несколько лет тому назад. Фаготист был молодой поляк Огоновский, которого мы очень скоро потеряли из виду.

Герман Ларош
Дни быстро уменьшались, и в конце года уроки уже происходили при свечках. Так как с января и Чайковского, и меня освободили от этого класса в качестве игравших «совершенно достаточно для теоретиков» (средства тогдашней консерватории были скудны и расходы урезывались насколько возможно), то у меня об этом совместном с ним учении, о первых наших музыкальных беседах и спорах осталось воспоминание, связанное именно с представлением темноты петербургского осеннего утра, какой-то особенной свежести и бодрости настроения, соединенной с легким волнением от непривычно раннего вставания.
Трудно сказать, зачем его определили в этот класс: он играл не только «совершенно достаточно для теоретика», но и вообще очень хорошо, бойко, с блеском, мог исполнять пьесы первоклассной трудности. На мой тогдашний вкус исполнение его было несколько грубоватое, недостаточно теплое и прочувствованное – как раз противоположное тому, которое прежде всего мог бы представить себе в воображении современный читатель. Очень может быть, что я в известном смысле нашел бы то же самое даже и теперь. Дело в том, что Петр Ильич как огня боялся сентиментальности и вследствие этого в фортепианной игре не любил излишнего подчеркивания и смеялся над выражением «играть с душой». Если ему не нравился термин, то еще менее нравился сам способ игры, обозначавшийся термином; музыкальное чувство, жившее в нем, сдерживалось известною целомудренностью, и из боязни пошлости он мог впадать в противоположную крайность.
Как бы то ни было, но он играл не по-композиторски (да он в 1862 году и не был композитором ни с какой стороны), а совсем по-пианистски. У меня долго хранилась (быть может, существует и теперь у кого-нибудь) элегантно, на толстой бумаге отпечатанная программа благотворительного музыкального утра или вечера, на котором Петр Ильич вместе с К. К. фан Арком, ныне профессором Петербургской консерватории, исполнил fis-moll'ную фантазию Макса Бруха для двух фортепиано. За период нашего с ним знакомства это был единственный случай, когда он играл публично, но мне кажется, что бывали и другие разы, раньше.
Пианист-любитель соединялся в нем с певцом-любителем. Он пел небольшим, на мой слух, очень приятным баритоном, с необычайною чистотой и точностью интонации: иногда ради шалости я ему аккомпанировал «La ci darem» («Дай [ручку] мне» – итал.) в As-dur или в B-dur, заставляя его петь в A-dur, и не было случая, чтобы он сбивался. Замечательно, что он любил итальянское колоратурное пение. Он сам вокализировал чисто и бегло; быть может, вследствие этого он охотно, хотя наполовину в шутку, украшал свой репертуар такими произведениями, как арии и дуэты из «Семирамиды», из «Отелло» и т. п. Кстати или некстати скажу, что в России он в то время любил чрезвычайно; часть этой привязанности сохранилась в нем на всю жизнь.
Я полагаю, что оба этих таланта – пианиста и певца, – по-видимому, находящиеся в очень слабой связи с главным делом и главным призванием его жизни, оказали ему громадную пользу и служат единственным объяснением той несомненной дирижерской жилки, которая обнаружилась в нем так поздно и доставила ему столько лавров. Как дирижер он не успел сделаться мастером, а остался на ступени талантливого начинающего, но, как это часто бывает в нашем искусстве, а вероятно, и в других, талант здесь оказался неизмеримо существеннее опыта и выучки. Исполнение под его жезлом в подробностях постоянно оставляло желать то того, то другого, но в целом было жизненное и интересное; выбор темпа (я говорю о тех сравнительно редких случаях, когда он дирижировал чужими сочинениями) делался верно, с заметною, впрочем, склонностью к скорым темпам. У капельмейстеров, как у магнитной стрелки, всегда есть отклонение или в ту, или в другую сторону, и пока оно остается в известных границах, в таком отклонении нет никакой беды. Петра Ильича, при его пылком и нетерпеливом темпераменте, если влекло в сторону, то исключительно в сторону ускорения. Это вполне соответствовало его нраву и привычкам – быстрой походке, быстрому писанию писем, которых с каждым годом приходилось писать больше, быстрому чтению (помню, как он с непонятною для меня скоростью пробегал три-четыре газеты подряд за вечерним чаем или в купе вагона), быстрой работе как механической, так и творческой. В этой скорости не было ничего лихорадочного или насильственного, потому что он себя к ней (исключая разве единичные случаи) не принуждал. Она вытекла из его природы, в которой соединялись нежность и нервность, бросавшиеся всем в глаза, с мужественною энергией, мало обнаруживавшеюся в сношениях с внешним миром, но лежавшею в основе его характера, так как лишь благодаря ей он мог сделать все то, что сделал.
Под «сделанным» им я разумею здесь не одни лишь музыкальные сочинения, хотя для потомства, без сомнения, интереснее всего они. Лет двенадцать подряд Чайковский был профессором Московской консерватории, где преподавал (хотя не в одни и те же годы) все отделы теории музыки от элементарной до свободной композиции включительно, а в течение нескольких лет имел до тридцати часов в неделю; бывало так, что он находил досуг сочинять только по вечерам, и именно в это время (в первой половине семидесятых годов) плодовитость его была чрезвычайная. Вторая симфония, некоторые из лучших романсов, весь «Опричник» относятся к этому периоду. Преподавание он мало любил, исключая того случая, когда (что было под конец его педагогического поприща) находил ученика действительно талантливого; таким он чрезвычайно увлекался и имел на него самое благодетельное влияние. Из этой категории его питомцев я назову С.И. Танеева, усвоившего направление, совершенно отличное от своего учителя, и служащего живым доказательством того, как Чайковский умел беречь индивидуальность и нравственную независимость молодого артиста, доверившегося его руководству. Вне того случая, составляющего более или менее редкость, он профессорствовал «с горя», сначала – потому, что не имел других средств существования, впоследствии – потому, я полагаю, что не желал выходом из консерватории огорчить своего друга Николая Рубинштейна, так как, помимо приносимой им пользы, имя его, вместе с именами самого Рубинштейна и Лауба, придавало учреждению блеск и служило ему украшением. Итак, он преподавал неохотно, но и здесь выказал ту чрезвычайную добросовестность и честность, которые вносил и в частную жизнь, и в общественную, и в художественную деятельность. Он даже составил учебник, весьма понравившийся ученикам ясностью изложения и прекрасно написанными примерами.
Эта же честность была причиной того, что он, как только это стало возможно, отделался от несимпатичного ему ремесла музыкального рецензента, каковым он состоял, если не ошибаюсь, в течение двух сезонов, от 1872 до 1874 года, при «Русских ведомостях», в которых изредка писал и позже. Читатель, я надеюсь, поймет мои слова не в том смысле, чтобы я находил ремесло музыкального рецензента несовместимым с честностью вообще. Помимо невежливости к моим коллегам, такое суждение было бы самоубийственно относительно меня самого. Я только хотел сказать, что печатная деятельность не нравилась Петру Ильичу; он же всю свою жизнь стремился делать только такое дело, которое любил и которому мог отдаться весь. Принялся он за музыкальную литературу, сколько я могу судить, по тем же побуждениям, которые сделали его профессором: с одной стороны, ему недоставало материальных средств, а с другой – трудно было не уступить просьбам тогдашнего редактора «Ведомостей» Н.С. Скворцова, с которым он был в приятельских отношениях. Публика, особенно петербургская, мало знает эту сторону деятельности Чайковского, тем более что он подписывался не своей фамилией, а буквами Б. Л., никогда при посторонних не говорил о своих статьях, при близких же относился к ним мало сказать скромно, но даже скептически. На мой взгляд, он сильно преувеличивал. Независимо от богатого музыкального чутья, независимо от собственного композиторского навыка, которые давали суждениям его твердую опору, он был весьма талантливый литератор, писал безукоризненным слогом, ясно и живо излагал свои мысли. Скажу к слову, что литературный талант его не ограничивался прозой: он весьма недурно владел стихом и, как известно, между прочим, сделал прекрасный перевод «Свадьбы Фигаро» да Понте и многих романсов для русских изданий; ему же принадлежат стихи во многих отдельных местах его опер, хотя ни одного из своих либретто Петр Ильич не написал целиком.
Все эти и им подобные занятия, если не являлись эпизодами в его жизни, то ощущались им как помеха, как препятствие к осуществлению его идеала. Я сейчас говорил, что он всю свою жизнь стремился делать только такое дело, которому мог отдаться весь, и здесь прибавлю, что он задолго до своей смерти достиг желанного. Он принадлежит к числу тех немногих счастливцев, у которых жизнь устроилась в полном согласии с требованиями их сознания и их внутренней природы. Место жительства, обстановка, окружавшие его люди, распределение часов – все было делом его выбора и все способствовало достижению его главной цели – иметь полную свободу для сочинения. Конечно, эта свобода временно прекращалась то концертными путешествиями, то поездками в столицу для постановки его опер и балетов. Конечно, и в остальные месяцы, когда он жил и работал у себя дома, некоторая часть дня все-таки уходила на не совсем приятное занятие просмотра сочинений, которые ему отовсюду присылались начинающими композиторами и нередко представляли мало привлекательного, а также на деловую переписку с издателями, антрепренерами, театральными и концертными агентами и артистами всякого рода (Петр Ильич на всякое получаемое им письмо отвечал и никого не заставлял дожидаться); но и то было хорошо, что он жил в деревне, вдалеке от докучных визитов, свободный от всяких служебных уз, и в то же время близко к столице, которая все-таки от времени до времени была ему нужна своими музыкальными и умственными ресурсами.
Не имея ни клочка собственной земли, он нанимал дачу на круглый год, причем случалось так, что он летом мало жил в ней, а гостил у родных или знакомых на юге России, и, наоборот, проживал в ней большую часть зимы. Дачу он менял несколько раз; сначала, с 1885 года, он жил в двух верстах от Клина, в имении Н. В. Новиковой Майданово, где жила также и сама помещица, а летом имелись и дачники-соседи в нескольких домах, построенных в общем парке, а потом – в гораздо большем уединении, в двенадцати верстах от Клина, имении госпожи Паниной Фроловское, в старомодном одноэтажном домике с мезонином, напоминавшем декорацию первого действия «Онегина»; при доме имелся большой запущенный сад и роща, которая, к величайшему огорчению Петра Ильича, постепенно вырубалась и к концу третьего года исчезла совершенно. Кажется, что это был единственный недостаток Фроловского. Любимая композитором тишина была полная: владелица жила в Бессарабии и, сколько мне известно, в свою подмосковную не наведывалась; кругом на большом расстоянии не было не только дач, но и помещичьих усадеб. Наконец, в последнее время Петр Ильич жил в самом Клину, или, вернее, у Клина, в доме, стоявшем вне города, но у самой заставы. В этой квартире я ни разу не был, и потому мои показания о ней – не «документы».
Входя в деревенский приют композитора, вы сейчас же чувствовали, как охватывала вас какая-то мирная, счастливая атмосфера, чуждая не только внешней сутолоки, но и внутреннего брожения и разлада. То наслаждение творческим трудом, красотами природы и деревенским комфортом, которое любил описывать прохладный, осторожный и рассудочный Гораций, здесь досталось в удел настоящему художнику, всеми чувствами и помыслами жившему в мире волшебных грез, поэтических видений. Нужно ли прибавить, что в нем не было ничего экстатического, что именно вследствие полной гармонии между внутренним стремлением и внешним складом жизни он был спокоен и казался удовлетворенным вполне? Но было бы недостаточно и узко изобразить его человеком, добившимся своего и потому чувствующим себя в отличном настроении духа. Счастье его не было результатом механической удачи, плодом комбинации, умно задуманной и ловко выполненной. Вообще вся сфера внешнего, механического и рассудочного была чрезвычайно далека от этой богатой и подчас загадочной натуры. Петр Ильич поступал так, а не иначе потому, что руководствовался чутьем правды и, если смею так выразиться, чувством прекрасного. От этого жизнь его была правдива и прекрасна, и ее красота, в свою очередь, налагала печать примирения и тишины на господствовавшее в нем настроение.
Как известно, в искусстве он не был таковым. Он, как мне всегда казалось, находился под действием не столько Байрона, которого узнал лишь поздно, да и то урывками, сколько французов тридцатых годов, особенно Альфреда де Мюссе, к которому питал любовь восторженную. От этих французов он заимствовал ту изящную растерзанность, которая была так чужда ему в жизни, но которая так часто обнаруживается в его музыке («Фатум», «Франческа да Римини», «Манфред», «Мазепа», «Гамлет», «Патетическая симфония»), Я всегда приписывал этим влияниям, а также любви его к Лермонтову то обстоятельство, что он не любил новейших натуралистов, особенно Золя, талант которого он не мог не признать, но который внушал ему, вместе с тем, глубокую антипатию, так что однажды, читая его «Assomoir» («Западня» – фран.) и наткнувшись на подробность, возмутившую его, он разорвал книгу на клочки. Сопоставьте с этим его любовь к повестям Мериме, к «Chartreuse du Parme» («Пармская обитель» – фран.) Стендаля – и вы получите впечатление романтика, сохранившего в семидесятых и восьмидесятых годах нашего столетия вкусы времен Людовика-Филиппа. Таково было его отношение к французам. В русской же литературе сказывалось опять другое. Он, как и все мы, находился под обаянием того удивительного подъема, который русская литература обнаружила в последние годы Николая Павловича и в первые – Александра Николаевича. Из корифеев этой литературы, столь неточно названных «людьми сороковых годов», когда самые капитальные их произведения почти все относятся к пятидесятым, ему дороже всех были Островский и Лев Толстой. Под впечатлением Островского он написал одно из самых ранних, незрелых и горячих своих произведений – увертюру к «Грозе» (в 1865 году), оставшуюся в рукописи и затем, если не ошибаюсь, пошедшую по клочкам на другие композиции. Так же как Глинка и как другие, Чайковский не любил, чтобы у него что-нибудь пропадало, и когда сочинение не удавалось или не могло быть исполнено, оно являлось частями в другом виде и в соединении с другими элементами. Следует прибавить, что эти переработки почти всегда были в ущерб сочинениям, хотя иногда нравились публике. Так, например, он, будучи учеником консерватории, написал прелестную первую часть смычкового квартета на тему песни, которую услышал от одной крестьянки в Киевской губернии; Allegro это сыграли на консерваторском вечере, но квартет не был дописан, а песня и отчасти ее разработка послужили для Scherzo russe, с успехом исполняемого пианистами в концертах, но, по-моему, составляющего весьма огрубелую переделку первоначального сочинения.
Симпатиям Петра Ильича в отношении русской литературы соответствует другая сторона его музыки, противоположная той, о которой я говорил, и, если не ошибаюсь, гораздо менее любимая массой и менее известная ей. У него далеко не все минор и не все мировая скорбь: в высочайшие, на мой взгляд, моменты его вдохновения является чувство бодрое и светлое, иногда ликующее, и эти-то моменты почти всегда носят отпечаток русского духа, русской ширины и величавого размаха. Нередко темы или прямо заимствованы из народных песен (финал Второй симфонии), или, по крайней мере, вдохновлены ими, сочинены в их стиле (первое Allegro Третьей симфонии). К этой же сфере настроения, но, конечно, без специфического характера народной песни, принадлежит могучий Польский из «Черевичек», это чудное соединение энергии и праздничного блеска. Странно, что, несмотря на красоты этого номера и на любовь публики к Чайковскому, именно Польский «Черевичек» встретил ледяное молчание и в первую постановку оперы (под заглавием «Кузнец Вакула»), и в позднейшей редакции.
Возвращаясь к чтению и литературным симпатиям Петра Ильича, игравшим в его жизни большую роль и отнимавшим у него по несколько часов в день, я скажу, что кроме поэтов и беллетристов он преимущественно любил историю, и притом почти исключительно русскую. Если меня спросят, чего он искал в истории, я скажу: как раз того, к чему высказывает глубочайшее пренебрежение Бокль. Общее тяготение больших масс, изменения в политическом и экономическом строе государств и обществ его не занимали нисколько; он (и в этом, вероятно, сказывался художник, может быть, именно драматический композитор) интересовался одними только личностями, их характерами, частною жизнью, домашнею обстановкой, и мельчайший анекдот, если в нем отпечатывалась психологическая или бытовая сторона, привлекал его более, чем самые хитроумные рассуждения о причинах и последствиях переворотов. Он в течение многих лет получал едва ли не все наши исторические журналы (я не говорю, конечно, о сборниках чисто ученого характера) и, хотя имел кокетство жаловаться на слабость памяти, по моим наблюдениям, отлично помнил их содержание. Не будучи «живою справочною книгой», он мог, однако, во многих случаях давать справки и делать указания. Любимою его эпохой был XVIII век, и этим, быть может, отчасти и объясняется то предпочтение, которое он, вопреки приговору большинства, питал к своим «Черевичкам», при переделке которых он сам написал слова для куплетов Светлейшего в стиле екатерининских времен.
Архаические его вкусы не простирались на музыку. За исключением Моцарта, которого он любил с юности и которому остался верен до последних дней, и разве-разве Гайдна, интересовавшего его полосами, он к добетховенской музыке питал равнодушие, к величайшему моему огорчению слышать ничего не хотел о моих милых бельгийцах и венецианцах, не любил даже Баха. Зато к явлениям современной музыки он относился с отзывчивостью и чуткостью, которые опять-таки (повторяю прежде сказанное) показывали в нем критический талант. Он едва ли не из первых «открыл» Бизе, а в последние годы жизни почти ежемесячно открывал какой-нибудь талант или талантик, которым интересовался и которому, в случае надобности, старался давать ход. В нем не было нездорового энтузиазма: он и здесь сохранял свое счастливое равновесие, но только он по отношению к музыкальной молодежи был слегка оптимистом, незаметно для себя преувеличивая ее хорошие стороны и смягчая или скрывая от себя недостатки. Это происходило не от одной доброты, которою природа его щедро наделила, а также от некоторой конгениальности настроения и направления: вначале встреченный нашею критикой как продукт консерваторской рутины и отсталости, он, напротив, во всем, что касалось музыки, живо сочувствовал движению века и как сам во многих случаях искал «новых путей», так и в других ценил и любил это стремление. Я не хочу сказать, что он был музыкальным радикалом: он инструментовал «Mozartiana» и писал балеты с популярными веселыми мелодиями; он не только, как Рихард Вагнер, восхищался вальсами Штрауса, но даже «обожал» «Сомнамбулу» и советовал мне писать большую статью о Беллини. Но, оглядываясь на совокупность им сочиненного, я нахожу, что классические и итальянские его симпатии очень мало отразились на нем, что они жили в нем как-то отдельно, тогда как влияние на него левого фланга глинкинской школы и, в последние годы, Рихарда Вагнера несомненно и весьма ощутительно.
Я редко встречал художника, которого так трудно было бы определить одной формулой. Сказать ли, что он был эклектик? На первый взгляд – да: в нем совмещались многие стороны, он был чужд всякого фанатизма, в течение своего поприща заметно подавался вправо и влево. Но эти уклонения так мало касались сущности его таланта! Что бы он ни писал, он явно оставался самим собой, и отпечаток его стиля так же легко узнаваем, как стиль Мейербера, Антона Рубинштейна, Брамса или Верди. Сказать ли, что он был «чисто русская душа»? Это значило бы принять часть за целое. Есть в нашей современной музыке натуры гораздо более определенно русские: достаточно назвать гг. Балакирева и Римского-Корсакова. В Чайковском, как в Алексее Толстом, с которым я вообще нахожу в нем немало родственного, очень сложно сочетались космополитическая отзывчивость и впечатлительность с сильною национально-русскою подкладкою. Я однажды, по поводу «Евгения Онегина», попробовал сказать, что он несравненный элегический поэт в звуках. Но ведь и это, в конце концов, было определение части, а не целого: в то время уже существовали Третья симфония и «Черевички», с тех пор появились и фортепианная фантазия с оркестром, и Третья сюита, и «Спящая красавица», и «Щелкунчик». Нет, элегическое настроение, может быть, и преобладало, но оно то и дело заглушалось мощным, светлым аккордом, и, как я уже говорил, мажорный лирик по силе и глубине вдохновения по меньшей мере равен минорному. Я даже не решусь сказать о нем, как было сказано о Пушкине, что он «преимущественно художник». Это годится для Моцарта, для Глинки; о Петре же Ильиче это дает понятие, лишь до некоторой степени соответствующее истине. Многосторонняя отзывчивость, уменье и, по временам, желание подделываться под чужой стиль, постоянное внимание к внешней формальной стороне искусства – все это черты художника, но я не вижу в Чайковском той симметрии, того равномерного господства над всею областью искусства, той неуловимой объективности, которою поражает Глинка, которою в особенности поражают Пушкин и Моцарт. У творца «Патетической симфонии» чрезвычайно много порыва, увлечения; в сочинении большого объема он редко удерживается на одинаковой высоте и легко впадает в неровность. Он очень богат и, на мое чувство, – односторонен. Нет, я не сумел и, вероятно, никогда не сумею найти формулу.
Быть может, окажется легче определить человека, который в нем, как это, хотя и в разной степени, всегда бывает, отчасти совпадал с художником, отчасти же был ему противоположен. Светлый и ясный ум его, один из восхитительнейших умов, которые я когда-либо встречал (Между прочим, он не любил, когда я его хвалил за остроумие, которым он в моих глазах несомненно обладал, и я готов был бы подумать, что он считал остроумие низменным и нежелательным даром, если бы не тот факт, что Петр Ильич никогда не идеализировал себя и не имел о себе никакого высокомерного представления.), легко и быстро овладевал предметом и часто удивлял меня простотою, с которою он разрешал сомнения и противоречия. Но в этом уме не было ничего логически формального; отвлеченности были ему чужды, порою можно было подумать, что он мыслил воображением и сердцем и что эти подставные органы, действовавшие на славу, были единственными его руководителями. После его смерти, а отчасти, кажется, даже и при жизни было много говорено о его доброте, действительно редкостной и составившей хотя далеко не главную, но, во всяком случае, одну из причин той обширной популярности, которою он пользовался и помимо своих артистических заслуг. Совершенно верно, что он был очень добр, но я совсем не нахожу, чтобы это качество составляло фундамент его натуры или давало ключ к ее разгадке. Я никак не могу отождествить его образ с образом безупречной сестры милосердия, хотя очень хорошо знаю, что бывали случаи, когда он проводил день за днем у изголовья умирающего друга. Доброта Петра Ильича была лишь последствием другого его свойства, которое, насколько мне дано его понять, было в нем главным и решающим.
Петр Ильич был изящная натура. То полное примирение, которого так часто тщетно искала его грустная и тревожная муза, царило в его жизни и в его душе. Все в нем было прекрасно, начиная от его удивительного умения распоряжаться временем и иметь вид досужего человека после самой трудной и волнующей работы и кончая талантом угадывать характеры, мысли и намерения людей и избегать в разговоре всего, что было бы им непонятно и чуждо. Он умел нравиться людям самых противоположных вкусов и самых различных слоев образования; может быть, он когда-нибудь и прилагал заботу к тому, чтобы нравиться, но в огромном большинстве случаев он очаровывал потому же, почему был добр, – то и другое вытекало из необычайной красоты, из гармонической законченности его натуры. И подобно тому, как он с годами хорошел, так что лицо его, сохраняя выразительность и оживленную оригинальность юных дней, становилось приятнее, он делался мягче и доступнее с годами, сохраняя на шестом десятке лет способность сходиться с людьми, дружиться и делаться необходимым элементом их жизни. Параллельно тому, как росла его художественная слава, все выше и выше поднималась волна любви и поклонения, окружавших его в частной жизни. Но ни то, ни другое не было способно его испортить. Несчастие не сломило бы его энергии и не ожесточило бы его против людей; счастье не вызвало в нем ни самомнения, ни эгоизма. В его тонкой и нежной душе была заключена сила, не только покорявшая всех нас, знавших его, но и перевешивавшая все то, что могла принести или отнять у него судьба.









































