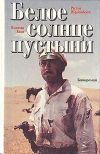Читать книгу "Где золотое, там и белое"

Автор книги: Евгения Джен Баранова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом

Евгения Джен Баранова
Где золотое, там и белое
© Е. Дж. Баранова, текст, 2022
© А. Николаенко, иллюстрации, 2022
© А. Маркина, дизайн, 2022
© Формаслов, 2022



Когда мы превратимся в имена
«когда утрачиваешь речь…»
когда утрачиваешь речь
синицу языка
когда скользишь земле навстреч
у зимнего ларька
когда в плечах скрипит пальто
и времени слюда
ты понимаешь что готов
уйти из навсегда
запоминаешь треск машин
движение холма
твоей некаменной души
расходится крахмал
и только птичками расшит
небесный карантин
мертвец в мертвецкую спешил
да ожил по пути
«И я к тебе испытываю страх…»
И я к тебе испытываю страх,
как мошкара в электропроводах,
но выдох-вдох – и гаснут разговоры.
Был робок снег, тепла его кровать,
лати́няне готовились страдать,
диванные войска хранили Форум.
Но что мне до, когда нелепа мгла,
когда в тебе шевелится игла —
расплёскивает солнце по винилу.
Игрушечный бездарный режиссёр,
смотрю на эту музыку в упор,
не замечая конников Аттилы.
Когда мы превратимся в имена,
от пены дней останется слюна,
от цезаря – салат или могила.
У наших храмов призраки звенят,
расстрелянных приводят октябрят,
но смерти не бывает – я спросила.
«Мир меня поймал, но не ловил…»
Мир меня поймал, но не ловил.
Что поделать с пленником – не знает.
Я живу от клавиш до чернил
и над запятыми унываю.
Ничего не будет хорошо,
из телëнка сделают ботинки.
Выдумала пасеке стишок —
выдумаю подвиг для пчелинки.
Выдумаю море во дворе,
выдумаю почерк на конверте.
Интересно, думал ли орех,
что родится шкафом после смерти?..
Интересно, думала ли я,
хлопковая куколка пустая,
что уйду в молочные края,
в киселе и йогурте растаю?..
«Знакомый мужчина закончил роман…»
Знакомый мужчина закончил роман.
Другой незнакомец в раю
компьютерных истин.
Полей уретан
живыми нас держит в строю.
Я мелкая пыль – как меня ни гони,
забьюсь под рукав и усну.
Вокруг происходят великие дни,
на шее сжимается снуд.
То катятся к чёрту, то лезут наверх,
то песнь хоровую поют.
А я только снег, только снег, только снег,
лечу потихоньку, клюю.
А я только шорох, я только вода,
стиральный/зубной порошок.
(Великая Песня Большого Труда
звучит и звучит поперёк.)
«Нас очень много – пишущих и длящих…»
Нас очень много – пишущих и длящих,
впадающих в верлибр или в немилость.
– Ах, Машенька, была ли настоящей?
– Ах, Петенька, конечно, я приснилась.
Проходим незнакомцами смешными,
качаясь на верëвке бельевой.
– Ах, Дашенька, осталось только имя.
– Ах, Фёдор, не осталось ничего.
И букли, и турнюр, и гимнастëрка —
ничто не изменяет, всë искрит.
– Ах, Полинька, вы ждали слишком долго.
– Ах, Всеволод, оставьте ваш иприт.
Нас очень много.
В этом ли причина
неузнавания – хоть вейся, хоть лютуй.
– А если буквы – поезд журавлиный.
– А если тело – только поцелуй.
«Я слишком тëплая, я слишком ножевая…»
Я слишком тëплая, я слишком ножевая,
по мне бежит водица дождевая,
по мне идëт бровастый пионер
и галстуком расчерчивает сквер.
Я слишком земляная, плоть от пыли,
я помню всех, кого недолюбили,
их лица отражаются в моëм,
а я дрожу, как вязкий водоëм.
А я плетусь кореньями Толстого —
до скорого, до четверти шестого,
почтовые, товарные – вперëд.
Я там была, где не был мой народ.
Я там была – а вынырнула рядом,
я камбала с глазницами снаряда.
Я тëплая – угля не сосчитать.
Я зайчика отправилась искать.
«Жизнь проснётся…»
Жизнь проснётся,
жизнь качнётся,
улыбнётся и застынет,
оттого и остаёмся
есть смородину с куста.
По обоям бродят тени,
что-то ищут в аспирине,
освещают беглым жаром
карантинные места.
В магазине – глухо, глухо.
В переходе – глухо, глухо.
В телефоне – глухо, глухо.
Ловят пальцы потолок.
Жизнь качнётся в коридоре
тонкой розовой старухой.
Жизнь оставит жёлтым бёдрам
лишь резинку от чулок.
Да и мы просить не станем.
Да и мы прощать не будем.
В наших призрачных кроватях
спят нездешние жильцы.
Разве что заплачет краской
нарисованная Мати,
разве что укроют зубы
золотые леденцы.
«Ты хотела двадцатые?…»
Ты хотела двадцатые?
Вот двадцатые:
пожелтевшие лица на Беговой.
По больницам разъехались завсегдатаи
литсалонов,
любители ар-нуво.
Мы идём на Кузнецкий (штаны не клëшены),
лишь троллейбус усиком шевелит.
Бедный транспорт!
Его завернули в прошлое,
как Москву завернули в густой covid.
Жёлтой лентой скамейки на солнце жмурятся.
BMW опаздывает в кювет.
Город треплет свидетелей,
словно курица
бьёт соседку
клювом
по голове.
«Мы внуки выживших детей…»
Мы внуки выживших детей.
Мелкоморщинистые дни
глядят из кожи веселей,
как будто вечные они.
Как будто шалость удалась,
оставлен в Избранном физрук.
Нас тренирует божий глаз,
мы реагируем на звук.
Мы начинаемся как пыль
и завершаемся на ней.
Мелкоморщинистый текстиль
незаживающих людей.
«Много говорили, мало спали…»
Много говорили, мало спали,
разливали в чашки кипяток.
В серебристом холоде эмали
растворяли огненный восток.
В комнату входили, как в молитву,
дни перебирали, как пасьянс.
Мягко разжимали челюсть лифта,
ссорились, слонялись по друзьям.
В сущности, история простая.
Дрожь в ресницах, вынужденный смех.
Видишь, недотыкомка летает,
пьёт из лампы, словно человек.
В метро
О подозрительных предметах
не говорите машинисту.
А вдруг там облако в кальсонах,
креветка, утица, фонарь.
А вдруг там Панночка, а вдруг там…
Хотя чём я? Только чистый
испуг, отмеченный приливом,
застывший в бабочке янтарь.
О подозрительных контактах
не сообщает микросхема.
Под нашим куполом несложно
любых во всём подозревать.
Состав скрипит, состав получен
от Одиссеевой триремы,
он скручен мышцей икроножной
и обречён не успевать.
О, сколько зрителей ненужных
закрыто в банке из-под джема!
Стеклянный видится зверинец
в краю седых пуховиков.
Как подозрительные лица,
глядят на рельсы хризантемы.
И я стою внутри вагона,
как подозрительный Иов.
«Жизнь – возможность тратить время…»
«Жизнь – возможность тратить время», —
говорил мой друг-певец.
У меня внутри деревня
из несбывшихся сердец.
Там, где музыка гремела,
где клубился Амстердам,
остаётся только тело,
то, что пляшет неумело
по стихам.
То, что пляшет водомеркой
и скулит – о ком? о ком?
Нарезает зелень мелко,
заправляет чесноком,
выбирает соус (лучший
из предложенных) в салат.
Жизнь – возможность тратить душу
на ненужные дела.
Переезд
Жизнь уместилась в 14–20 коробок.
(Грузчики выпьют, но только когда привезут.)
Так комсомолки цветастых боятся колготок,
так остывает души пережжённый мазут.
Лампа (сгорела?), фонарик (поломан? потерян?).
Тени как зебу, к луне холодильник прибит.
Под одеялом уснули стеклянные двери.
Зеркалу странно, когда отраженье болит.
Сон непрерывен,
смотри, как сугробы накрыло.
Им хорошо,
их снежинки влюблённые ждут.
Снится сугробам, что в ямах межзвёздного ила
люди плывут – и коробки за ними плывут.
«Человек за розовым выходит…»
Человек за розовым выходит,
человеку странно одному.
У него кристальная решётка
прохудилась, атомы звенят.
Он идёт (за лесом через поле),
он идёт (проспать бы/продержаться),
смотрят на него глаза подвалов,
пластиковый повар говорит:
– Заходи, у нас сегодня манго,
лаковые овощи в избытке,
здесь таких, как ты, пускают к маме,
в долгий отпуск, в бабушкин сундук.
– Не могу, – он отвечает, – рано.
Я несу котёнку пух и перья,
у меня под сердцем страх и звёзды,
не хватает розового лишь.
«Может, мне пить нельзя…»
Может, мне пить нельзя.
Может быть, я тоскую.
Только глаза скользят
гильзой от поцелуя.
Может, мне горек грех
осени заполошной.
Я попрошу за всех.
Если за всех, то можно.
Если за всех, то зря
можно не тратить слово.
Я молодой моряк
в поисках неземного.
Я золотой старик,
бронзовая реторта.
Господи, я тростник,
сломленный и протёртый.
«Где золотое, там и белое…»
Где золотое, там и белое.
Надеть всё чистое, уйти
туда, где бабы загорелые
не разбираются в IT.
И над судьбой своей наморщиться,
и тронуть кедами прибой.
Весна, патлатая уборщица,
не пощадила никого.
И вот июль уже разделали,
и август звёздами прибит.
Где золотое, там и белое
кипит, и жалит, и кипит.
Лечу ли аистом над крышами,
пытаюсь тенью рисковать —
лишь золотистой пылью вышиты
на белом воздухе слова.


Словно яблоки
«В желании сродниться есть тоска…»
В желании сродниться есть тоска,
недвижная, как тело языка,
когда его касаются стрихнином.
Так ледоколы мнут рубашку льдин,
так ищут дочь, так нерождённый сын
скользит над миром пухом тополиным.
Мне так невыносимо, так светло,
я так роняю каждое «алло»,
что, кажется, прошу Антониони
заснять всё это: кухню, стол, постель,
засохший хлеб, молочную форель
ко мне не прикоснувшейся ладони.
И если говорить начистоту,
то я скорее пламя украду,
отравленную выберу тунику,
чем буду улыбаться и смотреть,
как мальчики, идущие на смерть,
на небе собирают голубику.
«Не расстраивайся, маленький…»
Не расстраивайся, маленький,
не бросай меня всерьёз.
Что любовь?
В лесу проталинка,
тело, полное стрекоз.
Что печаль?
Четыре выстрела —
синий серого клюёт.
От земли душа отчистила —
жаль, до свадьбы заживёт.
Так и выпрыгнем в историю
с георгинами в руках…
Что разлука?
Аллегория,
пересадка с МЦК.
«Куда исчезнет всё…»
Куда исчезнет всё,
когда мы все исчезнем,
когда завяжет бант
московский «Метрострой»?
Ты трогаешь вагон,
и бронзовая бездна
приветливо звенит
кудрявой головой.
От кнопки до звонка,
от дома до музея,
от Врубеля до слёз,
от жеста до судьбы.
И я смотрю в тебя,
и прочие глазеют,
и катятся в депо
жестя́ные гробы.
«Он говорил…»
Он говорил:
«Возвращайся из Питера,
скажешь – пойдём на Вернадку,
будем слоняться, как наши родители
по первомайской брусчатке;
ты хороша, как форель золотистая,
как белоплечий орлан.
Будем наивны и будем неистовы».
(Мне это кажется, мам?)
Он говорил в подмосковном автобусе:
«Съездим хотя бы в Рияд».
Я замечала, как светлые волосы
в синем закате горят.
Я замечала, как лоб его хмурится,
родинок след пулевой,
как из-под снега пустынные улицы
сонно блестят чешуёй.
Он говорил о Толстом и Набокове,
о Куприне – никогда,
об альпинистах в заброшенном логове.
Я его слушала, да.
«Посидим обнявшись, что ли…»
Посидим обнявшись, что ли.
Поглядим в лицо дождю.
Мне сегодня снилось поле.
Фиолетовое поле
посреди бумажных дюн.
Как постыло, как простудно
в нашем садике камней.
Обними меня. Мне трудно.
«Отпусти меня ко мне».
Кольцевая прячет выход.
Даже голос недвижим.
По болоту бродит лихо,
кормит ветер облепихой.
Разговариваю с ним.
«И ты, сравнимый тем, что не сравним…»
И ты, сравнимый тем, что не сравним
с любой погодой, например, с дождями,
меня оставил. Воздухом одним
я научилась молча притворяться.
И ты, меня запомнивший седой,
ребёнком, человеком, обезьянкой,
проник сквозь кожу, вышел в кровоток,
а я осталась лёгкими и лёгкой.
Теперь гляжу болотным огоньком
и земляные знаки расставляю.
Теперь я сплав асфальта и земли,
лиловый шар, оторванная ветка.
«Кто это там в малиновом берете?…»
Кто это там в малиновом берете?
От чувств смешон, от разговора светел,
ужели ты подругу не узнал?
Ужели ты приятельнице лишний?
Цветёт берет – раздавленная вишня
царапает страницами финал.
Когда была я несколько моложе,
любила писем клетчатую кожу
да синий цвет набросков черновых.
Теперь я еду с ярмарки. Отёком
сошла любовь, раскинулась ширóко
по пленным дням, по листикам травы.
И всё-таки малиновый тревожен.
Зачем берет, ведь ты в нём не похож на
желанное и злое существо?
Я мальчика морщинистого вижу,
и боль моя над пикселями брызжет,
и я молчу над профилем его.
«Мой старый муж приходит ревновать…»
Мой старый муж приходит ревновать,
мой новый муж садится сожалеть.
И это праздник, честно говоря, —
обиды расцветают и горят.
И я горю – крапива, куркума —
на коже, на заре, на языке,
на русском невозможном языке,
на языке обиды и борьбы.
– Зачем ты говорила, если не —
– Зачем ты обещала, если да —
«Зачем» скрипит, как шифер о каблук,
как шарики в подшипнике скрипят.
О мальчики бессонные мои,
седые покорители песка,
стальные укротители воды,
помехи не на вашей стороне.
«Капустной бабочкой, дремучим огоньком…»
Капустной бабочкой, дремучим огоньком,
орешником ползучим, низкорослым…
Я не умею помнить ни о ком,
по черепкам исследую ремëсла.
Не со-жалею – только со-живу,
не прекращаю – только превращаюсь.
На хóлмах Грузии укутавшись в траву,
к Олеше вырабатываю зависть.
Хороший друг, ленивая жена,
смотритель небольшой библиотеки,
не для того мне музыка дана,
чтоб памяти достаться на орехи.
По лунным дням на солнечной арбе
не зря тащу предлоги и подводки.
Я не умею помнить о тебе,
особенно про шрам на подбородке.
«Что будет, если я тебе скажу…»
Что будет, если я тебе скажу,
мол, катится сентябрь по этажу,
в капрон скрывая ласточки лодыжек?
Тепло уходит, мало ли нам бед,
зато приходит маленький сосед,
раскутывает маленькие лыжи.
Консьержка заменяет сухостой
на астры, в их строении простом
присутствует желание пробиться.
А я скорее бархатец. В дожди
я погибаю с лёгкостью в груди,
подобно миллионам чернобривцев.
Отставить меланхолию зовут
день города, день выборов, салют.
Оставим их для грусти разрешённой.
Что будет, если я тебе солгу,
мол, солнце не останется в долгу
и вытеплит ложбинку для влюблённых?
«Если бы ты попросил мои деньги…»
Если бы ты попросил мои деньги —
я бы отправилась в банк,
завернула бы тонкую пачку
в конкурсную подборку
и с нежностью отдала.
Если бы ты попросил моей крови —
я бы надрезала тело
ножом, привезённым из Грузии
дядей последнего мужа,
смотрела б, как не течёт:
мало во мне свободы.
А больше мне дать тебе нечего.
Разве что море, в котором
стоят и стоят мертвецы,
разве что гору,
белую,
словно яблоки.
Ревность
электрическая птица
всё летит летит летит
и никак не приземлится
и никак не заземлит
ты не мог бы впрочем мог бы
я кого из нас боюсь
на ковре круги и ромбы
вырабатывают грусть
я реактор я ревную
я ревную я реву
разговоров ледяную
нить никак не оборву
вязнет вязнет птичий коготь
электрон друг дружку ест
ради бария святого
превращайся сразу в текст
Популярная механика
Прикоснусь к тебе губами.
Подержу – и заживёт.
Облака приводят к маме
пулемётный свой расчёт.
Тишина приходит в гости,
гладит мебель по щеке.
Я по небу строю мостик,
говорю не-помню-с-кем.
Вот Москвы стальной затылок,
вот – механика, вот поп-
Я без дома, я бескрыла,
мой раздавлен кинескоп.
Как по нотам плачет Гаммельн,
так по телу бродит зыбь.
Облака приходят к маме,
смотрят в зеркальце грозы.
«Нам нужно уехать куда-нибудь врозь…»
Нам нужно уехать куда-нибудь врозь.
Смотреть на озёрных печальных стрекоз.
Глотать родниковый рассеянный свет.
Уехать туда, где и памяти нет.
Ты станешь моложе, я стану живой.
Разлука пройдёт, как порез ножевой,
пройдёт мимо сердца, скользнёт по ребру,
окажется вечной – не гнить же добру.
Нам нужно уехать/сорваться с петель.
Куда затащила нас тётка-метель?
О чём эта пляска семи покрывал?
Украли. Украла. Украли. Украл.
«Помолчи со мной, пожалуйста…»
Помолчи со мной, пожалуйста.
Я заплачу – ты уйдёшь.
Ложь, похожая на жалобу,
жизнь, похожая на дождь.
Горевали помаленечку,
проясняется с трудом:
завели котята птенчика,
получилась птица-гром.
Как из тела желтопёрого
проявляется вина?
Пожалей больную голову,
цыпе лишняя она.
В голове играет тум-бала-
лайки светятся во тьме.
Я не думала, не думала,
я не думала, я не.
«Мне с вами не равняться, милый…»
Мне с вами не равняться, милый,
мне с вами не делиться мглой,
когда на зимние квартиры
поманит Пушкин дождевой.
Когда ленивой водомеркой
меня утянет под мотор,
вы мне оставите лишь терпкий
звук сообщения в упор.
И я, недвижная, любая,
сожжённая, как Тюильри,
пойму, что так не убивают,
не умирают от любви.
Потом, наверно, выпью крепко,
куплю билеты на свои.
Была у бабы с дедом репка.
У репки не было семьи.
«С тоненькой шеей, в высохшем свитерке…»
С тоненькой шеей, в высохшем свитерке,
я становлюсь решёткой, а не рекой
и наблюдаю, как, не храним никем,
ты догораешь радугой корневой.
Вижу, как птицы тело твоё клюют.
Слышу, как звери в бронхах твоих хрипят.
Жизнь оставляет пепельный перламутр
на домовине раннего октября.
Что же мне делать? Щепкой лететь, щеглом
прятаться в клетке? Трещиной речевой
дождь вызывая, выдумать водоём
и заполнять бессильной своей водой?
Что же мне делать? Не прогоняй/гони.
Не догорай/пожалуйста, догори.
Мысленный лес, хранитель, дурак, двойник.
Гладкое яблоко с гусеницей внутри.
«Я жалкое животное…»
Я жалкое животное.
Прости меня, прости.
Веду глазами потными
чужих детей крестить.
Злорадствую, завидую,
как трактор, барахлю.
Я тварь в тебе убитую —
дрожащую – люблю.
То смертное, то робкое,
то голос ножевой.
Я жалкая, я крохкая.
Останешься со мной?
Лакать из плошки варево,
лизать луны пятак,
как жимолость-Цветаева,
сурепка-Пастернак.
«На рукавице вымышленной руки…»
На рукавице вымышленной руки
вышит кентавр, зяблики, мотыльки,
вышито всё, что словом нельзя сберечь:
воздух, земля, дыхание, речка-речь.
Я так любуюсь вышивкой, так боюсь
сердце добавить к призрачному шитью,
что отпускаю – рыбкой пускай плывёт,
маленький Данте околоплодных вод.
Из хлорофитов тесную колыбель,
может, совьёт себе, может, нырнёт к тебе.
Как серебрится дикий его плавник.
Если отыщешь, дафниями корми.
А затоскуешь – боже не приведи —
слушай, как бьётся возле твоей груди.
«Мы никогда не будем вместе…»
Мы никогда не будем вместе,
душа моя, душа моя.
Блестит на шее медный крестик,
глаза от красного горят.
Пока жива, я помнить буду
(на языке дрожит ментол).
Я чувствую себя верблюдом,
который воду не нашёл.
Молчи, молчи, мне лучше, лучше,
я не умею говорить
про то, как сплетня или случай
зажгли вольфрамовую нить.
И вот она прошила память,
прошлась по горлу бечевой.
Так бесконечность стала нами,
нам не оставив ничего.
«Расскажи мне всё, как было…»
Расскажи мне всё, как было.
Я соскучилась уже.
Пахнет небо белым мылом,
щёлочью – на этаже.
Сложно вспомнить что-то, кроме
молодого февраля.
Пульс, как радио Маркони,
бьёт сквозь белые поля.
Мысли – скользкие скорлупки
от яичного житья.
Тяжело, хрустально, хрупко
вспоминать таких, как я.
«Вот так и проплыву тебя во сне…»
Вот так и проплыву тебя во сне,
как вздох над нет, как статую на дне,
как вытертую в табеле отметку.
Звенит крылом комарик-звездочёт,
густая кровь сквозь сумерки течёт
и капает с небес на табуретку.
Мы никогда не будем – «я проспал!» —
терять такси на аэровокзал
и по-французски спрашивать прохожих.
Мы никогда не будем спать вдвоём.
Глядит лицо на новый водоём,
на хлопок, на синтетику, на кожу.
Не завтракать расплавленной лапшой,
не спрашивать кота, куда он шёл,
не радоваться музыке знакомой…
Тебе не слышно, слышно только мне,
как комары целуются в окне,
как жалуется муж на насекомых.


Лаванда
«Больной ребёнок, выживший птенец…»
Больной ребёнок, выживший птенец,
но не жилец, ей-богу, не жилец,
идёт к комоду, музыку заводит.
И музыка играет в коридор,
Шумит камыш – виниловый забор
горит при непрерывном кислороде.
Так пением до старости расти.
«Таганка» милая, с тобой ли по пути,
по солнечным путям бредёт Высоцкий?
Пластинка говорит: «I love you so…»,
ребёнок понимает: он спасён
от сырости и ржи автозаводской.
Ребёнок понимает: Леннон жив,
и Ленин улыбается. Мотив
плывёт, как рыбка в банке с позолотой.
«Так лучше быть богатым, чем… (хрипок)»
Покачиваясь, спит у тонких ног
пластинка в пузырящихся «колготах».
«Я выросла и стала глупой…»
Я выросла и стала глупой.
Не вырастайте никогда.
Спасайте Рябушку от супа,
грызите вилкой провода.
Дарите бабушке магнитик,
кормите кошку шаурмой,
но никогда не приходите
к себе домой.
Как только заполучишь спальню
отдельную – волчок заест.
В шкафу под куполом хрустальным
мертва коллекция принцесс.
С утра увидишь фею злую —
поймёшь сквозь тела гололедь,
что выросла в себя такую,
какой не стоило взрослеть.
Тамагочи
– А сколько стоит тамагочи?
– Нисколько. Приходи потом.
И я пришла, весны комочек,
кожзам, резина, шерсть, коттон.
И я пришла. Купила, значит,
потратив гривен двадцать пять.
Смотрела в крохотную сдачу,
пыталась кнопки прочитать.
Из жизни выжато немало.
Не всё успеешь рассказать.
Но помню, как рука дрожала,
как проявлялся динозавр,
как с электрическим испугом
поила ящера водой.
Кузнечик с пластиковым другом.
Обрезок счастья золотой.
«Собака перестала есть…»
Собака перестала есть.
Соседка перестала плакать.
Живые сумерки, как взвесь,
висят на строчках Пастернака.
Активный бродит гражданин,
спешит по холоду в халупу.
А я несу в кармане «Сплин»,
но не уныние, а группу.
И если б музыка жила,
то непременно в том подъезде,
где спит волшебная метла
и стены синие облезли.
Где коромысло дарит дым
бродяжке-дуре-папиросе.
Где ты остался молодым —
до переезда в двадцать восемь.
«Говорит со мной овощебаза…»
Говорит со мной овощебаза:
не сдавайтесь, миленькая, сразу.
Кабачки гниют – не унывают,
словно установка буровая.
Помидоры в собственном желе
продолжают грезить о земле.
Тихий бог приходит к овощам,
учит нераспроданных прощать,
учит пригибаться и терпеть,
принимать закусочную смерть.
Ну а вы заладили – бронхит.
Разве тело стоило хранить?
Разве бездна создана не есть?
Да и воздух кончился не весь.
Чубчик
Всё-таки хорошо, думает, всё-таки ничего.
Могли бы почаще, конечно, только ведь
не приедут.
Стрелки качаются, маятник бьёт в живот,
в маленькой ванной слышно, как бьют соседа.
Всё-таки хорошо, думает, Ваську-то привезут.
Жалко девчонку – назвали бы лучше Майей.
Я отложила с пенсии. Мне уют-
но засыпают мысли, и ест зима их.
Помнишь, Танюша
(Танечки больше нет),
туфли такие были… синие туфли с чёрным!
Над головой раскачивается буфет.
Когда, интересно, стал он таким огромным?
Энциклопедии кружатся и кружат,
Большая и Малая, ждут своих медвежат,
Большая и Малая, малая и большая.
Чуб кучерявый, звёздочка звеньевая.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!