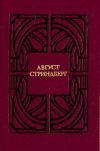Читать книгу "Индейское лето (сборник)"

Автор книги: Евгения Перова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Тяжело тебе без мамы? Я свою пять лет назад похоронил, отец сразу за ней ушел…
– Бедный! Ты знаешь… Мама тяжелым человеком была, нервным. Папа сбежал, не выдержал, я его даже не виню, с ней никто бы не ужился. Болела она тяжко, уходила мучительно. Господи, думала я, за что ей такое, за что?! И казалось мне, что станет без нее легче…
– Не стало?
– Сейчас еще ничего – вон видишь, даже петь могу! А первое время… Так держала она меня! При жизни держала и после смерти не отпускала… Новый год, праздник у всех, а я одна, как перст. Легла спать, а утром, первого января, взяла и поехала сюда, на кладбище – ее здесь похоронили. Тут бабушка у нас, двоюродная… почти девяносто ей, а справляется сама со всем, представляешь? Приехала, и, не заходя к бабушке, пошла. Снегу чуть не по пояс, лезу… А день солнечный, яркий, морозный…
Саша рассказывала, и он все видел: солнце, синее небо с белыми облаками, слепящий снег, золотые стволы сосен – снизу черные, выше золотые. Заснеженные ветки встряхиваются, как живые, роняя снежные пласты… И две огромные черные птицы медленно парят среди сосен – вóроны!
– Я села там в снег и вдруг почувствовала – еще до могилы не дошла, а почувствовала: отпустила она меня. И так остро я ощутила жизнь! Всем… всем существом своим, каждой клеточкой. Сижу в снегу и плачу: какое счастье – жить! Никогда раньше… такого не было…
Они даже не заметили, что уже не сидят, а лежат рядом. Сашины влажные волосы пахли чем-то лесным – опенками, мхом? Ее дыхание обжигало ему щеку – Андрей чуть повернулся и поцеловал приоткрывшийся ему навстречу рот, потом еще… Потом опомнился.
– Саша, Сашенька… Я же уезжаю через неделю! На полтора года…
– Я знаю. Я все про тебя знаю…
– Зачем нам это?
– А если не спрашивать – зачем? Просто жить! А вдруг мы потом жалеть будем?! Что струсили?! Ты разве не чувствуешь, что с нами происходит?
– Да! – сказал он. – Да, происходит.
Саша встала, сняла юбку, кофточку – он смотрел, как она стоит перед ним, белея тонким обнаженным телом, потом разделся сам, обнял ее крепко – и это оказалось так… правильно, что он даже вздохнул:
– Никогда не верил, что такое бывает!
– Видишь, бывает…
Лёля писала до самого утра, потом в изнеможении рухнула на кровать и заснула. На работу она не пошла, отговорившись простудой, и писала опять целый день, забывая, что надо поесть – хватала в задумчивости кусок хлеба и грызла, стряхивая крошки с тетради. Это было словно наваждение, болезнь – все эти две мучительные недели Лёля ощущала, как чья-то сильная рука держит ее за воротник: пиши! Она ходила на работу и, прячась за шкафами, продолжала писать. Потом, наконец, выздоровела – вещь иссякла, закончилась, завершилась. Получилась маленькая повесть, и тот первый кусок, с которого все началось, ушел в середину. Лёля перепечатала текст на машинке, правя по дороге – как не свой, чужой, другим человеком написанный, потом дала прочесть Алле Львовне, веря ее непредвзятому мнению и тонкому вкусу.
– Ну что ж, поздравляю: это настоящее!
– Правда? Вы правда так думаете?!
– Правда. Крылья есть. Лёня-то не читал еще?
– Нет, я боюсь…
Она боялась. Написанная Лёлей история не имела ничего общего с их собственной жизнью, но каждая строчка текста – каждое слово, каждая запятая! – словно кричала о ее любви к Леониду. Он читал, а Лёля ушла на кухню, и оттуда следила мысленно за медленным продвижением его по тексту: вот сейчас он читает про балкон… Сейчас про домик… Вдруг ей стало стыдно за сцену любви – не слишком ли откровенно? Не пóшло ли?! А встреча героев после разлуки – наверно, это чересчур сентиментально?! А… Лёня пришел к ней и просто молча обнял. Так долго молчал, что Лёля не выдержала и спросила жалобно:
– Ну как? Очень плохо?
Он улыбался и смотрел нежным взглядом:
– Ты знаешь, вряд ли я сейчас смогу сказать тебе что-то вразумительное!
– Почему?!
– Я прочел на одном дыхании! Для меня твой текст – это ты сама, понимаешь? Не могу же я тебе сказать: вот эта бровь, правая, нравится мне больше, чем левая?! Или: указательный палец тебе удался, а мизинец – не очень, еще поработать надо!
Лёля смеялась:
– А если серьезно? Хоть что-нибудь скажи, я же волнуюсь!
– Мне кажется, это хорошо. Очень хорошо! Воздух есть, дыхание… Легкое дыхание! Я еще раз прочту, ладно? А то тоже волнуюсь. И я… Я понял.
Лёля увидела, как дрогнуло его лицо – да, он понял. Потом, через неделю, он вернул ей рукопись всю исчерканную – Лёля так и ахнула: ничего себе!
– А сказал хорошо.
– Так и есть – хорошо! Просто ты еще не отошла и не видишь разные мелочи, а мне видно. Не обижайся, посмотришь – спасибо скажешь.
Лёля посмотрела. И сказала спасибо! Леонид прошелся частым гребнем, выловив повторы, оговорки, опечатки, а один абзац перечеркнул карандашом: вот это я бы выкинул, но смотри сама…
– А как тебе сцена в домике? Не очень смело? А то оно написалось, а я потом засомневалась…
– Смело! Робко, я бы сказал! Ты что, эротики никакой не читала?
– Лёня, где ты у наших писателей эротику видел?!
– А Бунин? Куприн?
– Я говорила про советских!
– Советских! Нашла на кого равняться. Надо теперь куда-нибудь твой «Август» пристроить…
– Ты знаешь… Так странно, но мне все равно – напечатают, нет. Это было такое счастье – писать! Мука, конечно, но и счастье. И я боюсь: а вдруг это все? Не повторится больше? И боюсь, что повторится…
– Да, повезло тебе! Ангел поцеловал. А я ни разу в жизни ничего похожего не испытывал. Не дано. И ты знаешь, я теперь как-то… успокоился. За тебя. Пусть мы не можем… но ты… ты теперь не пропадешь.
– Да, правда! У меня такое же чувство! Раньше я одна была… С тобой, но…
– Я понимаю.
– А теперь я с Музой… Смешно звучит, напыщенно, но я так чувствую. Она за плечами стоит, понимаешь? И в спину кулачком: пиши!
– Тогда уж с Музом…
– Это ты – мой Муз!
– Да уж, старый, лысый, толстый, в очках… Вылитый Муз!
– Ты не старый! И не толстый! Ты… Ты лучше всех! Ты…
И Лёля заплакала, обнимая его – ничего, ничего не надо! Ей показалось, что хитрая судьба искушает ее, подсовывая замену, отнимая любовь и давая взамен вдохновенье. Нет, не нужно! Ничего – ни вдохновения, ни опьянения творчества, ни радости завершения, ничего – только быть с ним, вместе, всегда… до конца.
Пока они были так заняты друг другом, мир вокруг постепенно менялся, и скорость перемен нарастала – котел бурлил, и взрыв приближался. И Лёля, и Леонид всегда были далеки от политики, от идеологии, избегая как только можно всего советского, краснознаменного – всего того, что Лёня называл «пионерским задором». Они оба жили книгами, и Леонид любил цитировать Пушкина: не для житейского волненья, не для корысти, не для битв – мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв!
Он был слишком ленив для каких-то активных действий, да и скептически относился к «роли личности в истории», считая – вслед за Марком Твеном, – что все будет так, как должно быть, даже если будет наоборот. Он даже как-то ухитрился стать профессором, так и не влившись в ряды КПСС – помогла репутация ленивого пофигиста, книжного червя, не приспособленного к жизни. Да и специалиста лучше Полторацкого на кафедре не было.
Но теперь заинтересовался происходящим и Леня: стал смотреть по телевизору репортажи со съездов, хотя каждый раз это кончалось дикими ссорами с Соней, а после того как она, сидя на диване, топала ногами в поддержку депутатам, освистывавшим Сахарова, Лёня перестал с ней разговаривать вообще. У него заболело сердце, когда он увидел седого нелепого человека, упорно и косноязычно пробивающегося к правде сквозь свист и улюлюканье зала, и впервые в жизни он подумал, что, пожалуй, и один в поле воин. Если этот воин – Сахаров. Смерть Сахарова он оплакивал искренне, как смерть близкого человека, и, несмотря на мороз, отправился вместе с Лёлей прощаться – они прошли весь скорбный путь от Пироговки до Фрунзенской, в тесной толпе людей, и никогда раньше Полторацкий не видел таких удивительных лиц. Лёля жадно смотрела по сторонам, впитывая впечатления – он знал, она ведет подробный дневник: ты что, история совершается на наших глазах! Впрочем, Лёля очень не хотела, чтобы он с нею шел: мороз – ты простудишься и заболеешь.
– А ты – нет?!
– А я – нет.
И правда, она никогда не простужалась, он же вечно мерз, руки и ноги зябли, а Лёля была горячая, и, когда ложились вместе, она мгновенно согревала его своим маленьким телом. Он все-таки пошел: должна же у меня быть своя битва при Фермопилах!
– При чем тут Фермопилы?!
– А как же! Чем знаменит царь Леонид? Ну, историк?
– У меня тройка по античности, я не помню!
– В энциклопедии написано: за десять лет своего царствования Леонид не сделал ничего знаменательного, но обессмертил свое имя сражением при Фермопилах. 480-й год до нашей эры, что б ты знала. Я тоже за всю жизнь ничего знаменательного не сделал. Пусть хоть это.
Лёня не простудился, но спустя месяц упал и сломал ногу, да так неудачно, что пришлось ставить какие-то спицы, потом вытаскивать, нога сгибалась плохо, он завел себе трость, стал бояться гололеда, да и по лестницам поднимался с трудом. Лёля узнала о том, что Лёня в больнице, от Аллы Львовны – и похолодела: ей впервые пришла в голову мысль о том, что он может умереть, а она и знать не будет! И наоборот… Ей стало так страшно, что она на секунду потеряла сознание – отключилась, провалившись в черный колодец ужаса. Потом долго сидела на диване, глядя в одну точку, и просила – неизвестно кого, неизвестно о чем: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста… Пожалуйста!
Они смогли увидеться только через три месяца, когда он хоть как-то стал передвигаться, и Лёля ходила с ним на процедуры – сидела в коридоре, провожала до метро. Все это тянулось до лета, а в июле у Сони случился первый инсульт: она увидела по телевизору, как Ельцин кладет на стол президиума партбилет и уходит прочь по длинному проходу – захрипела и повалилась на пол. Потом Лёля попала в больницу с почечной коликой, и Лёня пришел к ней с пакетом яблок. Они сидели рядышком на жесткой скамье в коридоре и молчали – а что говорить? Все понятно и так. Жизнь растаскивала их в разные стороны, властно и неумолимо, и каждый думал: если так, пусть лучше он будет жив и здоров… пусть она будет жива и здорова… пусть порознь, пусть не вместе… лишь бы жил… лишь бы жила…
– Береги себя, хорошо?
– Постараюсь… – сказал он грустно.
– Ты сможешь звонить?
– Если я не буду тебе звонить, я не выживу…
Они выжили, оба. Потом случился август 1991-го: ГКЧП на фоне «Лебединого озера», Янаев с трясущимися руками, броневики на Садовом… Витя срочно чинил разысканную на антресолях старую «Спидолу», чтобы слушать «Голос Америки» и ВВС; Лёля – конечно же, кто бы сомневался! – была у Белого дома; Галя и Витя там же; а Соня, только было оправившаяся, окончательно растерялась и не понимала уже ничего: кто прав, кто виноват и что делать?! Ее мир рухнул, и Леониду было ее даже жалко. Родись она пораньше, сложила бы свою голову на плахе или сгнила в Сибири, думал иногда Полторацкий, столько было в ней слепого фанатизма – боярыня Морозова, Вера Засулич!
И вот уже Ельцин, стоя на танке Таманской дивизии, перешедшей на сторону защитников Белого дома, произносит свое воззвание; возвращается «фаросский сиделец» Горбачев, стаскивают с постамента бронзового Дзержинского – свобода, свобода, свобода! И развевается российский триколор на здании Дома Советов…
Митинги, похороны троих мальчишек, погибших 21 августа на Садовом – Кричевского, Комаря и Усова… Боже мой, и Витя мог бы, и Галя! А Лёля?! Как он умолял ее не лезть на рожон! Нет, куда там: блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!
Митинг на Манежке, длинная процессия, медленно идущая по Калининскому, и Лёля там, а он не мог, не ходил никуда, болела нога, да и Соню боялся оставить: у нее нервный срыв. Но Лёля все ему рассказывала по телефону:
– Ты знаешь, когда Ельцин вышел к нам из Белого дома и сказал… Со слезами на глазах сказал: дорогие мои! Я совсем рядом была, я видела! Мы заплакали все, правда! Такое было чувство единения, общности, как тогда, у Сахарова, помнишь? Но сильнее и светлее, понимаешь?!
Они еще встречались тогда, редко, но встречались. Потом все реже и реже, но зато часами разговаривали по телефону – один раз посреди ночи вошла Соня, постояла, он прикрыл трубку рукой, спросил: чего тебе? Она ушла. Леонид давно переселился на кухню, спал там на диване – все равно вставал раньше всех. Жизнь неслась стремительно, по Жванецкому: встал – лег, встал – лег, с Новым годом! Соня все работала в школе, хотя из завучей ее поперли: привычно скандалила, борясь за справедливость, и сеяла разумное, доброе, вечное в собственном понимании. Она стала как-то неряшлива, забывала причесываться, ходила, не замечая этого, с отпоровшимся подолом и обо всем рассказывала по пять раз подряд, по кругу. Леонид работал как проклятый, денег не было катастрофически, он хватался за все: появлялись уже какие-то гранты, один раз ему удалось на три месяца съездить с лекциями в Штаты, но, пока его не было, у Сони совершенно съехала крыша: она была уверена, что он не вернется, потому что завербован ЦРУ. Витя блестяще окончил институт, начал вдруг зарабатывать какие-то деньги, совершенно невероятные для их нищего семейства, и Соня подозревала его в криминальных связях, а Галя переживала одну несчастную любовь за другой. Соня кричала: принесешь в подоле – прокляну!
Они встретились с Лёлей только через пять лет, на похоронах Аллы Львовны.
Когда Полторацкий увидел ее, в черном платочке, со свечой в дрожащей тонкой руке – отпевали у Ильи Обыденного, – он задохнулся от горя и нежности. Выйдя из церкви, остановился – Лёля подошла, подняла на него заплаканные глаза, погладила по щеке – милый мой, милый, милый… Пока автобус вез на Ваганьково, успели немножко поговорить:
– Как ты?
– А ты?
– Нога беспокоит?
– Как твои почки?
– Господи, о чем мы говорим!
– Что ж делать, годы…
– Да какие наши годы! Ты нисколько не изменился!
– Ты мне льстишь. Вот кто не изменился, так это ты.
– Ой, а у меня книжка вышла, знаешь!
– Поздравляю, ты молодец, я всегда в тебя верил!
– Как дети, Соня?
– Дети хорошо. Да ничего, все нормально.
У Сони был второй инсульт. Он не стал рассказывать Лёле – зачем? Только лишние волнения. На кладбище он держал Лёлю за руку, но на поминки не поехал: болела нога. Душа болела. Лёля плакала все поминки – об Алле Львовне, о Лёнечке, о себе, о неудавшейся жизни. «Лёня так постарел!» – думала она. Морщин у него было мало, но полысел, похудел и как-то выцвел – раньше он был весь бело-розовый, как зефир, Лёля так его и дразнила, а теперь розовое почти ушло, осталась какая-то перламутровая бледность, и глаза стали прозрачнее – плохо вижу, сказал, читаю иногда с лупой… Вспомнилось прошедшее, и так стало больно, так больно!
Вернувшись с кладбища, Полторацкий прилег на диван, вытянув усталые ноги – пришла дочка и села рядом, взяв его руку. Она была так похожа на Соню – молодую Соню, что он вздохнул, а дочка прижала его ладонь к своей щеке:
– Папочка… Устал?
– Есть немного. Как тут мама?
– Да ничего, все в порядке. Сейчас спит. Как ты с ней справляешься?! Может, мне чаще приходить?
– Пока мы справляемся. Когда тебе чаще приходить, ты и так крутишься белкой в колесе…
Дочь поцеловала его в бледную щеку.
– Мама такой тяжелый человек, тебе всегда трудно было с ней. А уж сейчас… Вы настолько разные, я все думала, почему вы поженились? Что вас связывало?
– Вы – то, что нас связывало! – Леонид горько усмехнулся. – Вы, дети.
– Пап, а почему… Почему ты тогда не ушел? У тебя же был кто-то? Не знаю, как Витька, а я бы тебя поняла…
Галя вдруг замолчала: она вспомнила, как после очередной ссоры с матерью – опять, опять из-за этой проклятой политики! – отец заметался по квартире, потом выскочил в коридор и стал надевать ботинки, путаясь в шнурках. Она не поняла сначала:
– Папа… папа, ты что! Ты куда? Ты что… из-за этой ерунды?! Папа…
Она заплакала – у отца было такое лицо, что Галя поняла: сейчас он уйдет навсегда!
– Папа!
Вышел Витька, молча смотрел. Матери было не видно и не слышно. Отец постоял, глядя на них – они таращили испуганные глаза, как два птенца, – потом тяжело вздохнул и опять надел домашние тапки.
– Пап, – сказал тихо Витя. – Давай в шахматы сыграем, а?
Весь вечер они играли в шахматы, Галя сидела рядом, смотрела – играли медленно, долго раздумывали, отец смотрел только на фигуры, потом пришла мать, робко позвала их ужинать, они с Витькой пошли, но Галя оглянулась и увидела, как отец заплакал, зажав рот рукой… Да, сейчас она его поняла бы, но тогда!
– Откуда ты знаешь?! Что у меня кто-то был?
– Я видела тебя с ней, случайно. В кафе на Горького. Сначала не поняла – ну мало ли! А потом увидела, как вы друг на друга смотрите! Ты ее руку прикрыл своей ладонью, а потом поцеловал. Это было… Это было так прекрасно! Папочка, бедный! Ты же любил ее, правда?!
– Я и сейчас ее люблю, – ответил он и отвернулся к стене, закрыв глаза.
* * *
Может быть, этим и закончить? Пусть читатель сам додумывает, как сложатся судьбы героев… Я встаю и подхожу к окну – там идет снег, медленный новогодний снег. И улыбаюсь, потому что слышу шаги – он тоже не спит, он никогда не может заснуть, если меня нет рядом. Вот сейчас подойдет, прихрамывая, положит мне руки на плечи:
– Опять сочиняешь, полуночница?
А я поцелую его холодную бледную руку – озяб, бедный! Ну, пойдем, я тебя согрею…
– Ты знаешь, – скажет он, пока мы бредем, обнявшись, по коридору. – Мне тут пришли в голову некоторые мысли по поводу творчества Франсуазы Саган…
И мы рассмеемся.
Он войска свои покинул…
Что хочешь от меня, ты, песни нежный хмель?
И ты, ее припев, неясный и манящий?
Ты, замирающий, как дальняя свирель,
В окне, растворенном на сад вечерний, спящий?
Поль Верлен
Тетрадка была совершенно необыкновенная! Толстенькая, но узкая – своим золоченым обрезом и светло-коричневым кожаным переплетом с застежками она напоминала старинный манускрипт. Тетрадку Глебу Алексеевичу подарила внучка. И Глеб Алексеевич знал зачем. Вздохнув, он открыл тетрадь и задумался: с чего же начать? Наверно, со знакомства? Или с женитьбы…
* * *
Женился Глеб в двадцать семь лет на Лере – старшей дочери своего научного руководителя, Михаила Николаевича Лебедева. Мих Ник, как его звали студенты, с первого курса относился к Глебу Сотникову по-отечески – он всегда мечтал о сыне. Да и мальчик хороший: умный, способный, так и тянущийся к знаниям, а ведь вырос в неблагополучной семье. Отца у Глеба, считай, что и не было: пил по-черному, и мать из сил выбивалась, чтобы прокормить троих детей. А Глеб влюбился во всех Лебедевых сразу: благополучная профессорская семья, богатая библиотека, интересные разговоры, налаженный уютный быт – Раиса Семеновна, добросердечная супруга Мих Ника, тоже приветила неухоженного и вечно голодного юношу. Воскресные обеды у Лебедевых поразили неискушенного Глеба в самое сердце: белая скатерть, крахмальные салфетки, суп из фарфоровой супницы, водка в хрустальном графинчике…
Очарования семейству добавляли две прелестные дочки – когда Глеб впервые появился в доме Лебедевых, Лере было двенадцать, а Лёле – семь. Девочки подрастали у него на глазах: сначала они до смешного походили друг на друга, словно младшая была уменьшенной копией старшей, но потом Лёля переболела тяжелой ангиной и, выздоровев, изменилась – теперь она все больше напоминала мать, в отличие от сестры, которая пошла в отца. Волосы у Лёли стали виться: во время болезни ей обрили голову, после чего вдруг выросли кудри, которым Лера страшно завидовала, а Раиса Семеновна, проведя изыскания в семейных альбомах, заявила, что Лёля удалась в двоюродную бабушку – действительно, на фотографиях та щеголяла пышной копной мелко вьющихся волос.
На самом деле Глеб вовсе не собирался жениться так рано: он еще не защитил кандидатскую и жил в общежитии на стипендию, подрабатывая где только можно. В доме Лебедевых его принимали как родного: Раиса Семеновна не могла надышаться на Глебушку, который всегда помогал ей по хозяйству, а обе девочки, как казалось Глебу, были слегка в него влюблены. Ему гораздо больше нравилась Лёля, фантазерка и выдумщица, чем «воображала» Лера: с Лёлей было интересней, да и проще общаться, а Лера представлялась Глебу капризной и непредсказуемой. «Словечка в простоте не скажет, все с ужимкой!» – вздыхал иной раз Мих Ник в ответ на очередную эскападу дочери, цитируя «Горе от ума». Потом Глеб не раз думал, что из двух сестер следовало выбрать младшую, но Лёля была тогда еще совсем девочкой, забавной и непосредственной – эдакий длинноногий жеребенок с пышной гривкой волос, настоящая маленькая разбойница. Но выбирать ему, собственно, и не пришлось.
Капризуля Лера выросла и стала очень привлекательной девушкой, так что Глеб невольно заглядывался то на ее стройные ноги, то на белое плечо, с которого все время спадала лямка сарафана, а то и «запускал глазенапа», как выражался Мих Ник, в вырез того же сарафана, не подозревая, что Лера все замечает, потому и лямка спадает с плеча. Летом Лебедевы снимали дачу в ближнем Подмосковье, и Глеб частенько к ним наведывался, так что мог любоваться Лерой не только в сарафане, но и в купальнике, когда ходили на пруд.
Глеб уже не помнил, как вышло, что они оказались дома с Лерой наедине. Началось все со вполне невинной игры: Лера выхватила у Глеба книгу, которую для него оставил Мих Ник: «Попробуй, отними!». Глеб погнался за ней и поймал, прижав к книжному шкафу. Прижал очень сильно, не рассчитав с разгона. «Поцелуй, тогда отдам!» – сказала Лера. Он потянулся губами к ее щеке, но Лера повернула голову и подставила ему приоткрытый рот. Дальнейшее он помнил смутно и очнулся, когда непоправимое уже произошло. Глеб пребывал в полном смятении, а Лера выглядела как ни в чем не бывало и спокойно вышла навстречу вернувшимся родителям, на ходу застегивая блузку. За ужином, который не лез ему в глотку, потому что Глеб ощущал себя предателем, нарушившим доверие Мих Ника и Раисы Семеновны, Лера громко произнесла:
– Глеб, ты сам скажешь? Или мне сказать?
И Глебу ничего не оставалось, как тут же попросить у Мих Ника руки его дочери. Произнося положенные слова, он наткнулся на изумленный взгляд Лёли и воровато отвел глаза. Лебедевы страшно обрадовались, и в суете восклицаний, вопросов и строящихся планов Глеб не сразу заметил, что Лера куда-то исчезла. Потом подошла Лёля и прошептала ему на ухо:
– Пойди к Лере, а то она плачет!
Глеб удивился. Лера действительно плакала и при виде вошедшего Глеба отвернулась.
– Чего ты рыдаешь? – спросил Глеб. – Разве ты не этого хотела?
Лера заплакала еще пуще. Глеб вздохнул, сел рядом и принялся утешать, хотя так толком и не понял, в чем причина ее слез. Надо сказать, что женитьба существенно облегчила Глебу жизнь. Он переехал к Лебедевым – под крыло Раисы Семеновны, и первые несколько лет они с Лерой прожили вполне счастливо, только некоторая неловкость от положения «примака» и навязчивые мысли о том, что его элементарно поймали на крючок, омрачали существование Глеба.
Лера окончила институт, поступила в аспирантуру, он сам защитил кандидатскую и по протекции Мих Ника стал преподавать историю в Педагогическом институте, работая над докторской, а Леру пристроили научным сотрудником в один из московских музеев, где ее почти сразу избрали комсоргом. Глеб с легкой иронией следил за карьерой жены, прекрасно понимая, что она специалист среднего уровня и, что называется, звезд с неба не хватает, поэтому и самоутверждается на поприще общественной работы. Сам он весьма скептически относился ко всей этой партийно-советской дребедени, но принимал правила игры. Лера же, как выяснилось, норовила в этой игре стать ведущей. Глеб так толком и не выяснил всех подробностей произошедшего, но в результате Лериных активных действий уволили одну из старейших сотрудниц, Инессу Матвеевну Метлицкую – единственного в музее специалиста по средневековым рукописям. Глеб когда-то слушал ее лекции – Инесса Матвеевна первая заметила одаренного студента и приняла в нем участие: именно она ввела Глеба в дом Лебедевых. Уволенная Метлицкая с тяжелейшим инфарктом слегла в больницу, а Глеб устроил дома страшный скандал. Лера пыталась оправдаться, но Глеб не стал ее слушать:
– Если она умрет, это будет на твоей совести. Еще счастье, что отец не дожил до такого позора! – воскликнул он напоследок и вышел, хлопнув дверью. Глеб перестал разговаривать с женой и на ночь стал уходить в бывший кабинет Мих Ника. Инесса Матвеевна все-таки умерла, и разобщенность мужа с женой усугубилась: оба тщательно скрывали свой разлад от Раисы Семеновны, которая сильно сдала после смерти мужа. Им всегда было трудно друг с другом, а Лёля, которая вечно старалась их помирить и сблизить, внезапно вышла замуж за некоего Толика, страшно не нравившегося Глебу: ему казалось, что Лёля достойна лучшего. Продолжалось это почти полгода – Глеб пребывал в мрачности, Лера страдала, но как помириться, оба не знали: Глеб всегда надолго зависал в обидах и раздражении, а Лера не умела подладиться.
Раиса Семеновна скончалась настолько внезапно, что Лёля даже не сразу поверила сестре, рыдающей в трубку телефона: она всего полчаса назад разговаривала с матерью! Эта смерть подкосила всех, но больше всего Леру – через неделю после похорон Лёля позвонила Глебу: «Срочно приезжай домой!» Глеб приехал, раздраженный тем, что пришлось отменить лекцию – дома пахло лекарствами и бедой. Встретившая его Лёля приложила палец к губам и провела Глеба на кухню:
– Не шуми. Она спит.
– Да что случилось-то?!
– Лера пыталась покончить с собой.
– Что? Да ладно! Никогда не поверю. Это манипуляция. Чтобы эта холодная расчетливая сука…
И тут Лёля его ударила. По щеке, очень сильно. Глеб изумился:
– Ты что?
– Не смей так говорить о моей сестре! Это твоя вина! Ты ее довел!
– Я? – растерянно спросил Глеб, потирая щеку.
– Ты! Да, Лера поступила подло, но она давно раскаялась! А ты, как инквизитор, все жаришь ее на медленном огне! Думаешь, она не понимала, что ты остаешься в семье только ради нашей мамы? Она каждый день ждала твоих слов о разводе. С ужасом ждала.
Глеб молчал: он действительно думал о разводе. Лёля тяжко вздохнула и села напротив, вытирая выступившие слезы:
– Ладно, прости, что ударила. Не сдержалась. Просто не ожидала, что ты настолько ничего не понимаешь. Лера, может, и сука, но уж никак не холодная! И не расчетливая. Не знаю, поблагодарит она меня или возненавидит, но я расскажу. Потому что желаю ей счастья. Какая бы ни была, но Лера – моя сестра. Больше у меня никого нет. Ну да, еще Толик. И ты, наверно…
– Лёля, но ты же знаешь, как я к тебе отношусь!
– Молчи. Просто послушай. Помнишь, как ты делал предложение?
– Еще бы, – усмехнулся Глеб.
– Помнишь, Лера плакала? Ты ведь так и не понял, о чем она плачет, правда? Лера прекрасно осознавала, что делает: она тебя хотела, и она тебя получила. А плакала потому, что ты ее не любишь! Потому, что ты за ней не ухаживал, не дарил цветов! Вы не гуляли, взявшись за руки, по бульварам и не целовались под сиренью! Этого у нее не было! И она знала, что не будет уже никогда.
– Но если она понимала, что я не люблю ее, – тогда зачем?
– Но она-то любила! С двенадцати лет! Она с ума по тебе сходила! Она чашку целовала, из которой ты чай пил, она… Она жить без тебя не может.
– Лёля, мне кажется, ты придумываешь… Что-то я не замечал никакой безумной любви…
– Потому что Лера гордая! Нет, так ты ничего не поймешь. Придется начать с детства…
Когда на свет появилась Лера, Раисе Семеновне исполнилось тридцать два, и она считалась «позднородящей». Еще одного ребенка Лебедевы и не ждали, зная о неблагоприятных прогнозах врачей, так что случившаяся через пять лет беременность была воспринята супругами как чудо. Правда, они надеялись на мальчика, но родилась Лёля. Лера восприняла появление сестры как крушение привычного мироздания: пять лет она была центром семьи, любимой и ненаглядной маленькой девочкой, и вдруг в одночасье превратилась в старшую! Лёля родилась недоношенной и слабенькой, много болела, родители над ней тряслись, а Лере казалось, что она теперь никому не нужна.
Лёля сестру обожала, несмотря на то что Лера всячески ее изводила. Но нрав у Лёли оказался на удивление легкий – она быстро прощала и опять смотрела на сестру с искренним восхищением. Как Лера ни третировала сестренку, ей все больше казалось, что одна только Лёля любит ее и понимает. А Лёля действительно очень хорошо понимала сестру. Как всякий болезненный ребенок, Лёля много времени проводила в размышлениях и фантазиях. Она обладала острым умом и наблюдательностью, читать начала в четыре года и все время сочиняла разные сказочные истории. Лёля рано повзрослела, в отличие от сестры, которая так и осталась вечным подростком.
Закомплексованная, самолюбивая и всегда несчастная, Лера завидовала всем вокруг, а особенно сестре, такой живой, доброжелательной и непосредственной, что ее просто нельзя было не любить. Лёля легко обзаводилась друзьями, училась без малейшего напряжения, хотя порой могла и двойку схватить – но никогда не переживала из-за плохих оценок и ко всему относилась с юмором. Лера не могла себе позволить даже тройку и тратила массу времени на приготовление уроков, потому что страшно боялась оказаться не на высоте: она всегда должна быть самой лучшей! И тогда, может быть, ее тоже полюбят… Но ее не любили. Друзей у Леры было мало – одноклассники считали ее заносчивой и высокомерной, а девочка просто была замкнутой.
Они с сестрой словно жили в разных вселенных: Лёля – в яркой и веселой сказке, а Лера – в мрачном, полном опасностей мире, и как Лёля ни старалась перетащить сестру в свою сказку, у нее ничего не получалось. Лера напоминала сестре жалкого дикобраза, ощетинившегося иглами и ранящего всех вокруг, даже когда никто не нападает, а наоборот, пытаются погладить. Но при этом она ранила и себя – иглы проросли внутрь. Лёля очень рано поняла, что она гораздо способнее сестры и сильнее духом, поэтому взяла ее под защиту – маленький храбрый оруженосец при слабом и нелепом вояке, для которого слишком тяжелы его грозные доспехи. Но со временем доспехи стали второй кожей, так что лишь сестра знала, насколько хрупкое и ранимое существо скрывается под закаленной сталью…
– И вовсе она не расчетливая! – объясняла Лёля. – Лерка, конечно, пытается что-то планировать, но поступает всегда спонтанно. Потом только до нее доходит, что она натворила. И с Инессой так получилось: Лера пошла на поводу у парторга! Ей сказали действовать – она и взяла под козырек…