Текст книги "Агасфер. Том 1"
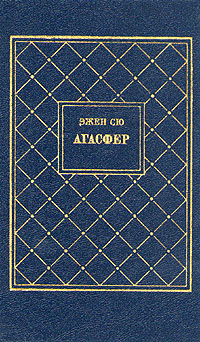
Автор книги: Эжен Сю
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
5. АГРИКОЛЬ И ГОРБУНЬЯ
Через час после описанных нами событий глубокая тишина царила на улице Бриз-Миш.
Мерцающий огонек, проходивший сквозь рамы стеклянной двери из комнаты Горбуньи, указывал, что она еще не спит. Ее несчастная конура, лишенная воздуха и света даже днем, освещалась только через дверь, выходившую в полутемный узкий коридор, проделанный под самой крышей.
Жалкая кровать, стол, старый чемодан и стул так заполняли холодную каморку, что два человека не могли бы в ней поместиться, если только один из них не садился на кровать.
Роскошный цветок, подарок Агриколя, бережно поставленный в стакан с водой на заваленном бельем столе, распространял свое сладкое благоухание и развертывал пышные лепестки среди убогой комнатки с сырыми, грязными стенами, слабо освещенной тоненькой свечкой.
Швея сидела на кровати. Лицо ее было встревожено, глаза полны слез. Одной рукой опираясь на изголовье, девушка внимательно прислушивалась, повернув голову к дверям: она с мучительным беспокойством напрягала слух, надеясь с минуты на минуту услышать шаги Агриколя.
Сердце швеи усиленно билось… Глубокое волнение вызвало даже румянец на ее вечно бледном лице. По временам девушка бросала испуганный взгляд на письмо, сжатое в руке; это письмо, прибывшее с вечерней почтой, было положено привратником-красильщиком на ее стол, пока она присутствовала при свидании Дагобера с семьей.
Через некоторое время девушке послышался шум отворявшейся соседней двери.
– Наконец-то он! – воскликнула Горбунья.
Действительно, Агриколь вошел.
– Я ждал, пока заснет отец, – сказал шепотом кузнец. Он, по-видимому, скорее испытывал любопытство, чем тревогу. – Ну, что случилось, милая Горбунья? Как ты взволнована! Ты плачешь… В чем дело? О какой опасности хотела ты со мной поговорить?
– На… читай! – отвечала дрожащим голосом швея, поспешно протягивая ему распечатанное письмо.
Агриколь подошел к огню и прочитал следующее:
«Особа, не имеющая возможности себя назвать, но знающая, с каким братским участием вы относитесь к Агриколю Бодуэну, предупреждает вас, что завтра, по всей вероятности, этот честный молодой рабочий будет арестован…»
– Я?! – воскликнул Агриколь, с удивлением смотря на молодую девушку. – Что это значит?
– Читай дальше, – взволнованно промолвила швея, ломая руки.
Агриколь продолжал, не веря своим глазам:
«Его песня „Освобожденные труженики“ признана преступной; множество экземпляров ее было найдено в бумагах тайного общества, руководители которого арестованы вследствие открытия заговора на улице Прувер».
– Увы! – заливаясь слезами, начала Горбунья, – я все теперь понимаю. Этот человек, подсматривавший около нашего дома, по словам красильщика, был не кто иной, как шпион… он, несомненно, поджидал твоего возвращения!..
– Да полно, это нелепое обвинение! – воскликнул Агриколь. – Не мучь себя понапрасну, милая… Я политикой не занимаюсь… Мои стихи только полны любовью к человечеству. Разве можно мне поставить в вину, что они найдены в бумагах какого-то тайного общества?
И он с презрением бросил письмо на стол.
– Читай дальше… пожалуйста… – попросила Горбунья.
– Изволь, коли хочешь.
Агриколь продолжал:
«Приказ об аресте Агриколя Бодуэна уже подписан. Несомненно, рано или поздно невиновность молодого рабочего будет доказана… Но пока лучше было бы поскорее скрыться от преследования, для того чтобы избежать двух– или трехмесячного заключения, которое нанесет смертельный удар его матери: ведь он – ее единственная поддержка.
Искренний друг, вынужденный оставаться неизвестным».
После минутного молчания кузнец пожал плечами; затем его лицо прояснилось, и он со смехом сказал швее:
– Успокойся, милая Горбунья: злые шутники ошиблись месяцем… Это просто преждевременная первоапрельская шутка!..
– Агриколь, – умоляла его Горбунья, – не относись к этому так легко… Поверь моим предчувствиям… последуй этому совету…
– Да уверяю же тебя, бедняжка, что это глупости… Мои стихи напечатаны уже более двух месяцев… ничего в них нет политического… Да и не стали бы так долго ждать, если бы они заслуживали преследования…
– Но подумай, как изменились обстоятельства… Заговор на улице Прувер был открыт всего два дня тому назад… и если твои стихи, никому до той поры не известные, нашлись у арестованных лиц, замешанных в этом деле… то этого совершенно достаточно, чтобы тебя скомпрометировать.
– Скомпрометировать?.. стихи, где я восхваляю любовь к труду и милосердие?.. Ну, для этого надо, чтобы правосудие было совсем слепым… Тогда ему следует дать палку и собаку, чтобы не сбиться с прямой дороги…
– Агриколь! – вскричала девушка, глубоко огорченная его шутками в такую минуту, – умоляю… выслушай меня. Конечно, ты проповедуешь в своих стихах святую любовь к труду; но там же ты оплакиваешь тяжелую участь рабочего, безнадежно обреченного на житейские невзгоды… Ты проповедуешь христианское братство… но твое благородное сердце возмущается эгоизмом злых людей… Наконец, ты страстно призываешь к скорейшему освобождению тех рабочих, которые не так счастливы, как ты, у которых нет столь честного и великодушного хозяина, как твой. Подумай же, не довольно ли в наше беспокойное время нескольким экземплярам твоих песен оказаться у арестованных заговорщиков, чтобы тебя скомпрометировать?
При этих дельных и горячих словах доброй девушки, сердце которой подсказывало разумные доводы, Агриколь сделал невольное движение: он серьезнее посмотрел на данный совет.
Видя, что он начинает колебаться, Горбунья продолжала:
– А потом: вспомни-ка хоть о Реми, твоем товарище по мастерской!
– Реми?
– Ну да… У лица, замешанного в каком-то заговоре, нашли письмо от Реми… невинное письмо… И что же, бедняга месяц просидел в тюрьме!
– Так-то так, милая моя… но его невиновность была доказана, и его выпустили…
– После месяца тюремного заключения!.. А тебе именно этого-то и советуют избежать… и совершенно разумно… Ты только подумай, Агриколь: целый месяц в тюрьме… Господи… да что станется с твоей матерью!
Эти слова произвели глубокое впечатление на молодого кузнеца. Он снова взял письмо и перечитал его со вниманием.
– А этот человек, бродивший возле дома весь день? – продолжала девушка. – Я не могу не говорить о нем… Согласись, что это неспроста… А какой удар для твоего отца, для твоей бедной матери: ведь она не может даже ничего сама заработать… Ведь ты их единственная надежда… подумай об этом… Что с ними будет без тебя… без твоей помощи и заработка?
– Правда твоя… это было бы ужасно! – сказал Агриколь, бросая письмо. – Ты совершенно права относительно Реми… он был так же невиновен, как и я… а между тем, по ошибке правосудия, вероятно невольной, но все-таки ужасной ошибке… Да нет же, впрочем… не могут же арестовать человека без допроса…
– Сперва арестуют, а потом… и допросят! – с горечью заметила Горбунья. – Затем через месяц, через два выпустят на свободу… Ну, а если у него есть семья, живущая только на его заработок, что будет с ней, пока ее опора в тюрьме?.. Что же… семья голодает, мерзнет, льет слезы.
Наконец эти простые и трогательные слова Горбуньи дошли до сознания Агриколя.
– Месяц без работы… – начал он задумчиво и с грустью. – А что же станет с матерью, с отцом… с девочками, которые до приезда маршала Симона или его отца будут жить у нас?.. Да, Горбунья, ты права, меня невольно страшит эта мысль…
– Агриколь, – воскликнула швея, – а что если бы ты обратился к господину Гарди? Он так добр, пользуется таким почетом и уважением… Несомненно, тебя не тронут, если он за тебя поручится.
– В том-то и беда, что господина Гарди нет в Париже: он уехал с отцом маршала Симона.
Затем, помолчав немного, Агриколь прибавил, стараясь преодолеть тревогу:
– Да нет же… не могу я поверить этому письму… Во всяком случае, лучше выждать, по крайней мере можно будет на первом же допросе доказать свою невиновность. А иначе, бедняжка… подумай… ведь буду ли я в тюрьме или буду скрываться, результат для семьи один и тот же: заработка моего она все равно лишится!
– К несчастью, ты прав, – сказала бедная девушка. – Что же делать? Что делать?
«А отец… – подумал Агриколь, – если это несчастье случится завтра… Какое печальное пробуждение для человека, заснувшего так радостно!»
И кузнец закрыл лицо руками.
К несчастью, страх Горбуньи был весьма основателен. Около 1832 года, до и после заговора на улице Прувер, производилось множество арестов среди рабочих; такова была реакция против демократических идей.
Вдруг, после нескольких секунд молчания, Горбунья встрепенулась, лицо ее вспыхнуло, и не поддающееся описанию выражение надежды, смущения и подавленной горести озарило ее черты.
– Агриколь, ты спасен! – воскликнула она.
– Что ты хочешь этим сказать?
– А красивая и добрая барышня, подарившая тебе этот цветок (и швея указала на него кузнецу)? Раз она сумела так тонко загладить обидное предложение, несомненно, она обладает чутким, великодушным сердцем… Ты должен обратиться… к ней…
Казалось, последние слова Горбунья произнесла со страшным усилием… две крупные слезы покатились по ее щекам.
В первый раз в жизни испытала девушка горькое чувство ревности: другой женщине выпало на долю счастье оказать помощь человеку, которого она, нищая и бессильная, боготворила.
– Ты полагаешь? – сказал Агриколь с изумлением. – Чем же она может быть мне полезна?
– Разве ты забыл ее слова: «Не забудьте моего имени и при случае прямо обратитесь ко мне».
– Помню… но…
– Несомненно, что при своем высоком общественном положении эта барышня имеет много важных знакомых… Они за тебя заступятся… защитят… Нет, завтра же иди к ней… откровенно расскажи ей все… и попроси поддержки.
– Но, повторяю, что же она может сделать, милая Горбунья?
– Слушай!.. Я помню, как-то давно мой отец рассказывал, что спас от тюрьмы товарища, поручившись за него… Убедить эту девушку в твоей невиновности будет, конечно, нетрудно… И, конечно, она за тебя поручится… Тогда тебе нечего будет бояться!
– Ах, милая, просить почти незнакомого человека о такой услуге… не так-то это просто.
– Поверь, Агриколь, – грустно заметила Горбунья, – никогда бы я ничего не посоветовала, что могло бы тебя унизить в глазах кого бы то ни было… а особенно… слышишь ли?.. особенно в глазах этой девушки. Ты ведь не для себя просишь денег… Нужно их только внести как залог, чтобы ты мог кормить семью, оставаясь на свободе. Поверь, что эта просьба и честна, и благородна… Сердце у этой девушки великодушное… она тебя поймет… И что ей стоит это поручительство!.. А для тебя оно все… Речь ведь идет о жизни твоей семьи.
– Ты права, милая Горбунья, – упавшим голосом и с тоской вымолвил кузнец, – пожалуй, надо попытаться. Если эта барышня согласится оказать мне услугу и если уплата залога сможет меня спасти от тюрьмы… то я могу ничего не бояться… Нет, впрочем, нет, – прибавил кузнец, вскакивая с места, – никогда я не осмелюсь ее просить! Какое право имею я ее беспокоить? Разве маленькая услуга, которую я ей оказал, может сравниться с той, о какой я хочу просить?
– Неужели ты думаешь, Агриколь, что великодушный человек станет соразмерять ценность своей услуги с ценностью одолжения? Что касается движений сердца, то можешь полностью довериться мне… Конечно, я – несчастное создание и ни с кем не могу себя сравнивать… я не могу ничего сделать… я – ничтожество… А между тем я уверена… слышишь, Агриколь… я уверена, что в этом случае эта девушка, стоящая неизмеримо выше меня, почувствует то же, что чувствую и я… Она поймет весь ужас твоего положения… и сделает с радостью, с чувством благодарности и удовлетворения все то, что и я бы сделала… если бы могла это сделать… Но, к несчастью, я могла бы только пожертвовать собой, а это ничего не даст!..
Невольно Горбунья придала этим словам душераздирающее звучание. В этом сопоставлении несчастной работницы, неизвестной, презираемой, нищей и уродливой, – с блестящей и богатой Адриенной де Кардовилль, сияющей молодостью, красотой, заключалось нечто столь печальное, что Агриколь растрогался до слез. Протянув руку Горбунье, он сказал ей взволнованным голосом:
– Как ты добра!.. Как много в тебе чуткости, благородства и здравого смысла!
– К несчастью, я могу только… советовать!
– И я последую твоим советам, дорогая. Это советы самой возвышенной души, какую я только знаю!.. Да кроме того, ты меня успокоила, вселив уверенность, что сердце Адриенны де Кардовилль стоит… твоего!
При этом искреннем и невольном соединении двух имен Горбунья почти разом забыла все свои страдания – до того сладко и утешительно было ее волнение. Если на долю несчастных существ, обреченных на вечное страдание, и выпадают не ведомые никому в мире мучения, то наряду с ними у них бывают иногда тоже неведомые, скромные и тихие радости… Малейшее слово нежного участия, возвышающего их в собственных глазах, необыкновенно благотворно действует на несчастных, уделом которых является презрение окружающих и мучительное неверие в самих себя.
– Итак, решено, ты завтра утром идешь к этой барышне! – воскликнула Горбунья с ожившей надеждой. – На рассвете я спущусь вниз и погляжу, нет ли чего подозрительного… чтобы тебя предупредить…
– Ты добрая, чудесная девушка, – повторил Агриколь, все более и более умиляясь.
– Надо уйти пораньше, пока не проснется твой отец… Местность, где эта барышня живет… настоящая пустыня… Пожалуй, идти туда… это все равно что скрыться!
– Мне послышался голос отца, – сказал Агриколь.
Комната Горбуньи так близко примыкала к мансарде кузнеца, что последний и швея ясно услышали слова Дагобера, спрашивающего в темноте:
– Агриколь? Ты спишь, мальчик? Я вздремнул и совсем выспался… до жути поболтать хочется…
– Иди скорее, Агриколь, – сказала Горбунья, – его может встревожить твое отсутствие; но завтра не выходи, пока я не скажу тебе, нет ли чего подозрительного…
– Агриколь, да тебя здесь нет? – переспросил уже громче Дагобер.
– Я здесь, батюшка, – отвечал кузнец, переходя из комнаты швеи в свою. Я выходил, чтобы прикрепить ставень на чердаке: он так хлопал, что я боялся, как бы ты не проснулся от шума…
– Спасибо, мальчик!.. Но меня не шум разбудил, – засмеялся Дагобер, – а жажда… страстная жажда поговорить с тобою… Да, сынок: отец, не видавший своего ребенка восемнадцать лет, поневоле хочет с жадностью наброситься на возможность удовлетворить свое желание…
– Не зажечь ли огонь, батюшка?
– Незачем… излишняя роскошь… Поболтаем пока в темноте… зато завтра я опять смогу на тебя наглядеться вдоволь при дневном свете: мне тогда покажется, что я вновь тебя увидел в первый раз.
Дверь в комнату Агриколя затворилась, и у Горбуньи ничего не стало слышно… Бедняжка бросилась одетая на постель и до утра не смыкала глаз, ожидая рассвета, чтобы позаботиться о безопасности Агриколя. Однако, несмотря на сильное беспокойство за завтрашний день, девушка не могла по временам отогнать от себя мечту, полную горькой тоски, мечту о том, что если бы она была хороша и любима, если бы ее целомудренная и преданная любовь пользовалась взаимностью, то как мало бы походила тайная беседа в тишине глубокой ночи на тот разговор, какой она сейчас вела с человеком, которого втайне обожала!.. Впрочем, вспомнив, что ей никогда не суждено испытать дивной нежности наслаждений разделяемой любви, девушка старалась утешиться надеждой, что она по крайней мере может быть полезной Агриколю.
Как только занялся день, Горбунья на цыпочках спустилась с лестницы, чтобы посмотреть, не грозит ли Агриколю какая-нибудь опасность на улице.
6. ПРОБУЖДЕНИЕ
К утру небо прояснилось. Ночной туман и сырость сменились холодной, ясной погодой. Через маленькое окошечко, освещавшее мансарду Агриколя, виднелся уголок голубого неба.
Комната молодого кузнеца была не богаче с виду комнаты швеи. Единственным ее украшением являлся повешенный на стене, над простым, некрашеным столиком, где Агриколь отдавался поэтическому вдохновению, портрет Беранже, бессмертного поэта, любимого и почитаемого народом за то, что он сам любил народ, учил его, воспевал его подвиги и несчастья.
Хотя было еще очень рано, но Дагобер и Агриколь уже поднялись. У кузнеца было достаточно силы воли, чтобы скрыть беспокойство, которое весьма усилилось после того, как он подумал о деле серьезнее.
Недавняя схватка на улице Прувер повлекла за собой многочисленные аресты, а обнаружение многих экземпляров песни Агриколя «Освобожденные труженики» у одного из вожаков неудавшегося заговора действительно не могло не задеть молодого кузнеца. Но, как мы уже сказали, отец не подозревал о его волнении.
Усевшись рядом с сыном на краю узенькой кровати, солдат, одетый и выбритый с утра, привыкший к военной аккуратности, держал в своих руках руки Агриколя и не сводил с него глаз, причем лицо старика светилось глубокой радостью.
– Ты надо мной будешь трунить, сынок… – говорил он, – но, поверишь, я посылал ко всем чертям эту ночь, не позволявшую мне тебя видеть… наглядеться на тебя… Зато теперь я уж наверстаю потерянное время… А потом… хоть это и глупо, но я ужасно рад, что ты носишь усы. И какой бы из тебя бравый конногренадер вышел! Тебе никогда не хотелось пойти на военную службу?
– А матушка?
– Верно! Потом, знаешь, мне кажется, что время войн прошло! Мы, старики, мы ни на что больше не годны: пора нас поставить в углу у очага, как старое, заржавленное ружье. Наше время миновало.
– Да, ваше время – время героизма и славы! – воскликнул с жаром Агриколь. – А знаешь, батюшка, – прибавил он нежным и глубоко растроганным голосом, – а знаешь, быть вашим сыном и хорошо и почетно.
– Насчет того, почетно ли, не знаю… а хорошо… несомненно, потому что люблю-то я тебя крепко… Как подумаю только, что ведь это лишь начало, Агриколь!.. Я, знаешь, точно голодный, не евший несколько дней… он начинает понемногу, смакует себе полегоньку… Так и я смаковать тебя буду… с утра до вечера, каждый день… Нет, я кажется, сойду с ума от радости… каждый день! Это меня ослепляет, смущает… я не могу привыкнуть… я теряюсь…
Последние слова Дагобера вызвали тяжелое чувство в Агриколе; он невольно подумал, не являются ли они предвестниками грядущей разлуки.
– Ну, как ты поживаешь? Что, господин Гарди по-прежнему к тебе добр?
– Он-то! – отвечал кузнец. – Да добрее, великодушнее, справедливее на свете человека нет! Если бы вы знали, какие чудеса он завел у себя на фабрике! Если сравнить ее с другими, так это точно рай среди окружающего ада!
– Да неужели?
– Вот увидите!.. На лицах всех его служащих лежит печать благосостояния, счастья и преданности… Зато у него и работают с каким усердием!.. с каким удовольствием!
– Уж не чародей ли твой господин Гарди?
– Великий чародей, батюшка!.. Он сумел сделать труд привлекательным… вот в чем секрет… Затем, кроме хорошей заработной платы, он дает нам часть прибылей, в зависимости от способностей каждого: этим объясняется усердие. Но это еще не все: он выстроил громадные и красивые здания, где рабочие могут найти дешевле, чем в любом другом месте, здоровое и уютное жилье… где они пользуются всеми выгодами совместного проживания… Да вот увидите… я вам говорю… увидите!
– Правду говорят, что Париж – город чудес! Наконец-то я здесь и навсегда, неразлучно с тобой и с матерью!
– Да, батюшка, мы больше не расстанемся… – сказал Агриколь, подавляя вздох. – Мы постараемся с матушкой заставить вас позабыть все, что вы перенесли…
– Перенес! Какого черта я перенес? Взгляни-ка на меня. Разве я похож на исстрадавшегося человека? Черт возьми! Как только я попал домой, я почувствовал себя совсем молодцом… Вот увидишь, когда мы с тобой отправимся, я тебя еще загоняю. Ну, а ты принарядишься, мальчуган? И как на нас будут заглядываться! Бьюсь об заклад, что, взглянув на твои черные и на мои седые усы, всякий скажет: «Наверное, отец и сын!» Ну, так условимся относительно сегодняшнего дня… Ты сейчас напишешь отцу маршала Симона о приезде его внучек и о том, что он должен как можно скорее возвратиться, так как речь идет о вещах серьезных… Пока ты пишешь, я спущусь к жене пожелать доброго утра ей и милым девочкам. Позавтракаем вместе. Твоя мать пойдет к обедне: ее, кажется, все еще тянет к этим штукам, славную женщину… Ну, тем лучше, раз это ее успокаивает!.. А мы отправимся с тобой.
– Я, батюшка, – с замешательством ответил Агриколь, – сегодня утром не смогу пойти с тобой.
– Как так? Да ведь сегодня воскресенье!
– Да, но я обещал прийти в мастерскую, – смущенно толковал Агриколь, – я должен докончить одну спешную работу… Если я не приду, то нанесу урон господину Гарди. Но я вернусь быстро.
– Ну, это другое дело… – сказал солдат со вздохом сожаления. – Правда, я надеялся с утра погулять по Парижу вместе с тобой… Ну, что же… пойдем попозднее… Труд – святое дело… тем более что им ты содержишь мать… А все-таки досадно… чертовски досадно… тем более… Однако довольно… я несправедлив… Смотри-ка, как легко привыкаешь к счастью: я, например, разворчался, как старый хрыч, из-за прогулки, отложенной на несколько часов!.. И это я, мечтавший целые восемнадцать лет повидать тебя, почти не надеясь на встречу!.. Право, я старый дурак… Да здравствует радость и мой Агриколь!
И в утешение себе солдат весело и сердечно обнял сына. От этой ласки сердце кузнеца сжалось; он испугался, что с минуты на минуту исполнятся мрачные опасения Горбуньи.
– Ну-с, а теперь, когда я успокоился, потолкуем о делах. Не знаешь ли ты, где я могу заполучить адреса всех парижских нотариусов?
– Не знаю… Но узнать легко.
– Видишь ли, я отправил из России по почте, по приказанию матери этих девочек, которых привез сюда, одному из парижских нотариусов очень важные документы. Я записал его имя и адрес и положил в бумажник, намереваясь отправиться к нему тотчас по приезде в Париж, но его дорогой украли… а это чертово имя у меня, к несчастью, вылетело из головы… Но я думаю, что если оно мне попадется в общем списке, я его вспомню…
В дверь два раза постучали. Агриколь невольно задрожал при мысли, что это, быть может, пришли за ним, но отец, повернувшись на стук к двери, не заметил его испуга и громко ответил:
– Входите!
Дверь отворилась. Это был Габриель в черной рясе и круглой шляпе. Мгновения, быстрого, как мысль, было достаточно для Агриколя, чтобы узнать приемного брата и броситься в его объятия.
– Брат мой!
– Агриколь!
– Габриель!
– Как долго ты отсутствовал!
– Наконец-то я тебя вижу!
Миссионер и кузнец, крепко обнявшись, обменивались этими словами.
Тронутый братскими объятиями, Дагобер чувствовал, что слезы наворачиваются у него на глаза. В привязанности молодых людей, схожих лишь по сердцу, но по виду и по характеру совершенно различных, было действительно нечто трогательное. Мужественная фигура Агриколя еще сильнее оттеняла необыкновенную нежность и ангельское выражение лица Габриеля.
– Меня батюшка предупредил о твоем приезде… – сказал кузнец приемному брату. – Я с часу на час ждал твоего возвращения… А между тем… счастье видеть тебя во сто раз приятнее, чем я думал.
– Ну, а дорогая матушка? – спрашивал Габриель, дружески пожимая руки Дагоберу. – Как вы ее нашли? Здорова ли она?
– Ничего, милый мальчик… Она здорова и будет еще здоровее оттого, что мы все теперь собрались… Ничего нет полезнее для здоровья, чем радость!..
Затем, обратившись к Агриколю, забывшему все страхи и смотревшему на миссионера с глубокой привязанностью, солдат прибавил:
– И не подумаешь, что этот молодец с нежным девичьим лицом обладает мужеством льва!.. Ведь я говорил тебе, с какой неустрашимостью он спас дочерей маршала Симона и пытался спасти меня.
– Но что это у тебя на лбу, Габриель? – воскликнул кузнец, внимательно разглядывая миссионера.
Габриель, сбросивший при входе шляпу, стоял теперь как раз под окном, яркий свет которого освещал его бледное и нежное лицо. При этом рубец, проходивший над бровями от одного виска к другому, стал совершенно ясно виден. Среди разнообразных волнений и чередовавшихся одно за другим событий после кораблекрушения Дагобер во время своей короткой беседы с Габриелем в замке Кардовилль не заметил шрама, опоясывающего лоб миссионера, и, вполне разделяя изумление Агриколя, он также спросил:
– В самом деле, что это за шрам у тебя на лбу?
– Да и на руках тоже… Взгляни-ка, батюшка! – воскликнул кузнец, взяв руку Габриеля, когда тот ее поднял успокоительным жестом.
– Габриель… Милый мой… объясни нам… кто тебе нанес эти раны, – прибавил Дагобер, и, в свою очередь, взяв руку Габриеля, он с видом знатока оглядел рану и сказал: – Однажды в Испании одного из моих товарищей сняли с креста, на котором монахи распяли его, обрекая на голодную смерть… у него остались подобные шрамы.
– А батюшка прав… у тебя рука пробита насквозь, бедняга! – произнес кузнец с глубоким огорчением.
– Боже мой… не обращайте на это внимания… – сказал краснея, в явном замешательстве Габриель. – Меня действительно распяли на кресте дикари Скалистых гор, куда я был послан. Они начали было меня уже и скальпировать… Но провидение спасло меня от их рук.
– Несчастный!.. Значит, у тебя не было ни оружия, ни даже необходимой охраны? – спросил Дагобер.
– Мы не можем носить оружие, а охрана нам не полагается, – улыбаясь, отвечал Габриель.
– А твои товарищи… твои спутники? Почему они тебя не защитили? – с гневом воскликнул Агриколь.
– Я был один.
– Как один?
– Да, один… с проводником.
– Как, ты пошел к этим дикарям один? Даже без оружия? – повторил Дагобер, не веря своим ушам.
– Это необыкновенно благородно! – сказал кузнец.
– Веру нельзя навязывать силой, – возразил совершенно просто Габриель. – Только путем убеждения можно распространить христианское учение среди этих несчастных дикарей.
– А если убеждение не действует? – спросил Агриколь.
– Что же делать? Остается только умереть за веру, жалея о тех, кто оттолкнул от себя это благодетельное для всего человечества учение.
После столь трогательно-простодушного ответа наступило глубокое молчание. Дагобер сам был настолько храбр и мужествен, что мог как подобало оценить спокойный и безропотный героизм; он, а также его сын с изумлением, полным уважения, смотрели на Габриеля. Между тем последний совсем искренно, без всякой ложной скромности не понимал пробудившихся в них после его рассказа чувств и простодушно спросил, обращаясь к старому солдату:
– Что с вами?
– Что со мной! – воскликнул Дагобер. – Со мной то… что, пробыв на войне около тридцати лет, я не считал себя трусливее любого другого… Ну, а теперь вынужден уступить… именно уступить тебе…
– Мне?.. Что вы хотите этим сказать? Что же я сделал?
– Черт побери! Да понимаешь ли ты, что эти благородные раны, – вскричал ветеран, с восторгом сжимая руки Габриеля, – не менее почетны… даже почетнее тех, какие получали мы… рубаки по профессии?
– Конечно… батюшка говорит правду! – воскликнул Агриколь и прибавил с жаром: – Вот таких священников я могу любить и уважать: в них милосердие, мужество и покорность судьбе!
– Ах, прошу вас, не хвалите меня так! – смущенно просил Габриель.
– Не хвалить тебя! – говорил Дагобер. – Скажите, пожалуйста! Уж коли на то пошло, так ведь наш брат, когда идет в огонь, разве он один идет? Разве не видит меня мой командир? Разве не рядом со мной товарищи?.. Если даже нет настоящего мужества, так самолюбие должно поддержать… придать храбрости! Не говоря уже о том, как действуют воинственные крики, запах пороха, звуки труб, грохот пушек, стремительность коня, который не стоит под тобой на месте, вся эта чертовщина! А сознание того, что рядом сам император, что он сумеет ленточкой или галуном перевязать мою простреленную шкуру!.. Вот благодаря всему этому я и прослыл за храбреца… Ладно… Но ты, дитя мое, в тысячу раз меня храбрее: ты пошел один-одинешенек, без оружия, против врагов, куда более жестоких, чем те, с какими мы имели дело, да и на них-то мы шли целыми эскадронами, рубя палашами и под аккомпанемент ядер и картечи!
– Ах, батюшка! – вскричал Агриколь. – Как благородно с твоей стороны, что ты воздаешь ему должное!
– Полно, брат; поверь, что его доброта заставляет преувеличивать значение совершенно естественного поступка…
– Естественного для такого молодца, как ты. Да, с этим я согласен, – отвечал солдат. – Только молодцов-то такого закала на свете немного!..
– Уж это правда… такое мужество – большая редкость… оно достойно удивления больше всякого иного, – продолжал Агриколь. – Да как же? Зная, что тебя ждет почти верная смерть, ты все-таки идешь, один, с распятием в руках, проповедовать милосердие и братство дикарям. Они хватают тебя, предают пыткам, а ты ждешь смерти без жалоб, без злобы, без проклятий… со словами прощения и с улыбкой на устах… И это в глуши лесов, в одиночестве, без свидетелей и очевидцев, с единственной надеждой спрятать под черной рясой свои раны, если тебе и удастся спастись! Черт побери! Отец совершенно прав. Посмей-ка еще оспаривать, что ты не менее его мужествен!
– Кроме того, – прибавил Дагобер, – все это делается бескорыстно: никогда ведь ни храбрость, ни раны не заменят черной рясы епископской мантией!
– О, я далеко не так бескорыстен, – оспаривал, кротко улыбаясь, Габриель. – Великая награда ждет меня на небесах, если я буду достоин!
– Ну, на этот счет, мой милый, я спорить с тобой не стану: не знаток я этих вещей! Я только скажу, что моему кресту по меньшей мере настолько же пристало красоваться на твоей рясе, как и на моем мундире!
– К несчастью, такие отличия никогда не достаются скромным священникам вроде Габриеля, – сказал кузнец. – А между тем, если бы ты знал, батюшка, сколько истинной доблести и достоинств у этого низшего духовенства, как презрительно называют их вожди религиозных партий!.. Как много кроется истинного милосердия и неведомой миру самоотверженности у скромных деревенских священников, с которыми гордые епископы обращаются бесчеловечно и держат под безжалостным ярмом! Эти бедняги – такие же рабочие, как и мы; честные люди должны также стремиться и к их освобождению. Они, как и мы, дети народа, они так же полезны, как и мы; следовательно, и им необходимо отдать должную справедливость!.. Не правда ли, Габриель? Ты не станешь со мной спорить: ты сам мечтал о бедном деревенском приходе, потому что знал, как много добра можно там сделать…
– Я остался верен этому желанию, – с грустью промолвил Габриель, – но, к несчастью… – Затем, как бы желая отвязаться от печальной мысли и переменить разговор, он продолжал, обращаясь к Дагоберу: – А все-таки будьте беспристрастны и не унижайте вашего мужества, преувеличивая наше… Нет… ваше мужество необыкновенно велико… Мне кажется, для благородного, великодушного сердца ничего не может быть ужаснее вида поля битвы, этой бойни, когда сражение кончено… Мы по крайней мере… если нас убивают… сами неповинны в убийстве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































