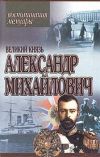Текст книги "Сандро из Чегема. Том 1"
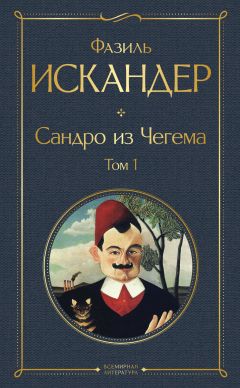
Автор книги: Фазиль Искандер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Колчерукий
Я уже писал, что однажды в детстве, ночью, пробираясь к дому одного нашего родственника, попал в могильную яму, где провел несколько часов в обществе приблудного козла, пока меня оттуда не извлек, вместе с козлом, один проезжий крестьянин. Дело происходило во время войны.
Через некоторое время после моего ночного приключения с козлом в могильной яме мы, то есть мама, сестра и я, стали жить в этой деревне. Сначала мы жили у маминой сестры, а потом наняли комнату в одном доме и переехали туда.
В этом доме до войны жили три брата. Теперь все они были в армии. Один из них успел жениться, и на весь дом оставалась его юная, цветущая и не слишком скучающая жена. Вспоминая ее, я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и называется соломенной, что воспламеняется легко, как солома.
При нас один из братьев вернулся, и именно тот, что был женат. Он как-то слишком бесшумно вернулся. Однажды утром мы его увидели на кухне. Он сидел перед горящим очагом и жарил на вертеле кукурузный початок, словно сам себе напоминал довоенное детство. Было похоже, что лучше бы ему пока не возвращаться. А, может быть, лучше бы ему было подождать с женитьбой, потому что, мне кажется, он скучал по жене, и это ускорило его возвращение.
С какой-то обреченной жадностью с недельку он возился в саду, а потом его взяли, и немного позже мы узнали, что он был дезертиром. Его взяли так же бесшумно, как он пришел.
Постепенно мы освоились на новом месте. Сестра устроилась работать в колхозе учетчицей, нам выделили участок земли, на котором мы выращивали дыни и кукурузу. Тыквы тоже выращивали. Кроме того, мы выращивали огурцы и помидоры. Мы все тогда выращивали.
Оказывается, недалеко от нас жил тот самый человек, в чью могильную яму я тогда угодил. Кстати, про эту могильную яму в деревне говорили, что в нее попадают все, кроме того, кому она предназначалась. История ее оказалась сложной и запутанной. Будущий владелец ее, если можно так сказать, старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, лежал, говорят, в городской больнице не то с аппендицитом, не то с грыжей (хотя по-русски правильней было бы сказать Сухорукий, но Колчерукий точнее соответствует духу, а следовательно, и смыслу прозвища). Так вот, Колчерукому сделали операцию, и он спокойно выздоравливал, когда неожиданно позвонили из больницы в сельсовет и сказали, что больной умер и его надо срочно забрать домой, потому что он уже второй день лежит мертвый.
В это время в больнице никого из родственников не было, потому что он сам вот-вот должен был выписаться. Правда, в эти дни в городе был односельчанин Мустафа, который поехал туда по своим надобностям, и ему, кстати, поручили заглянуть в больницу и узнать, чего Колчерукий не возвращается и не решил ли он заодно с грыжей или аппендицитом избавиться от своей колчерукости. И вдруг такая неожиданная весть.
Родственники, по нашим обычаям, разослали в соседние деревни горевестников, натянули во дворе укрытие из плащ-палатки, где собирались устроить тризну, и даже вырыли на кладбище эту самую яму.
Колхоз выделил свою единственную машину, чтобы привезти покойника, потому что в те времена в связи с войной сделать это частным путем было трудно. Одним словом, все честь по чести, как у людей. Все, как у людей, кроме самого покойника Шаабана Ларбы, который и при жизни никому, говорят, покою не давал, а после смерти и вовсе распоясался.
На следующий день после печального известия приехала машина с покойником, который оказался живым.
Говорят, Колчерукий, слегка придерживаемый Мустафой, громко ругаясь, вошел в свой двор. Его возмутила не весть о его смерти и приготовления к похоронам, а то, что он сразу заметил, взглянув на укрытие из плащ-палатки. Из-за этого укрытия пришлось у двух яблонь срезать ветки. Колчерукий, ругаясь, тут же показал, как надо было протягивать брезент, чтобы не трогать деревьев.
Потом он, говорят, обошел гостей, здороваясь с каждым и пытливо вглядываясь в глаза, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела весть о его смерти, а заодно и неожиданное воскресение.
После этого он, говорят, поставил над глазами свою усыхающую, но так и не усохшую за двадцать лет, руку, стал нахально оглядывать плакальщиц, как бы не понимая, зачем они здесь.
– Вы чего? – громко спросил он.
– Мы ничего, – ответили они, смутившись, – мы приехали тебя оплакивать.
– Ну, так начинайте, – говорят, сказал Колчерукий и приставил ладонь к уху, чтобы внимательно слушать свое оплакивание. Но тут кто-то вмешался и отвел плакальщиц от него.
Увидев приношения родственников, говорят, Колчерукий призадумался. Дело в том, что у нас всякого рода поминки устраивают так широко, что, если бы все это делалось за счет семьи умершего, живым ничего бы не оставалось, как ложиться и помирать.
Поэтому в таких случаях все родственники и соседи помогают. Кто принесет вино, кто соленья, а кто и телку пригонит к сороковинам. И как раз один из родственников из соседнего села пригнал хорошую телку, которая Колчерукому особенно понравилась. Кстати, говорят, по размерам этого родственника и вырыли могильную яму, потому что он был примерно такого же роста, как и Колчерукий. Говорят, когда один из парней, которому поручили копать яму, подошел к нему со шпагатом, чтобы измерить его, он проявил недовольство, стал утверждать, что есть люди более подходящие, что он, пожалуй, повыше Колчерукого, а Колчерукий покоренастей.
При этом он пытался отстраниться от шпагата, но парень отстраниться ему не дал. Как и все могильщики, склонный к шутке, он сказал, что теперь коренастость Колчерукого ни к чему, что вообще в крайнем случае, если Колчерукий не подойдет, они его будут держать на примете.
Родственник, говорят, усмехнулся на эти шутки, но, видно, обиделся, потому что отошел к своим односельчанам и стоял среди них, хмуро поглядывая на свою телку, привязанную к забору.
Увидев все эти приношения, Колчерукий объявил, что радоваться рано, что он чувствует себя плохо, да и выписали его, чтобы он не помер в больнице, потому что врачей за это штрафуют, как колхозников за брак. Он тут же лег в постель и дал распоряжение могильную яму не засыпать, а держать наготове. Родственники, говорят, неохотно разъехались. Особенно был недоволен тот, что приволок телку. Но Колчерукий его успокоил, уверив, что ждать теперь недолго, так что телка его навряд ли слишком похудеет, если даже ее не выпускать со двора.
Колчерукий с неделю пролежал в постели. Через пару дней после приезда его стали одолевать любопытные, потому что к этому времени разнесся слух, что Колчерукий, умерший в городской больнице, по дороге ожил и приехал на собственные похороны. Другие говорили, что он не умер, а уснул вечным сном и доктора его никак не могли разбудить, но по дороге домой его так растрясло, что он проснулся.
Первое время Колчерукий принимал посетителей, особенно пока они приносили всякие гостинцы, как бывшему умершему и еще не окончательно ожившему. Но потом они ему надоели, да и председатель приказал выходить на работу. Так что он, говорят, заслышав скрип ворот, выбегал на веранду и кричал своим громким голосом:
«Назад! Дармоеды! Собаку спущу!»
Кстати, слухи о его воскресении как-то сами по себе жили и развивались. Уже через год при нас я слышал, как в одной из соседних деревень говорили, что Колчерукий ожил не по дороге из больницы домой, а в самой могиле через несколько дней после того, как его похоронили. А услышал его какой-то мальчик, который вечером искал на кладбище свою козу. Так что пришлось его откопать. Не будь, говорят, у него такого громкого голоса, умер бы от голода или даже от жажды, потому что место ему выбрали сухое, хорошее.
Вот так вот и оказалось, что Колчерукий пережил или предотвратил свои похороны, правда оставив за собой могилу в полной готовности.
Увидев живого Колчерукого, сначала в деревне решили, что это секретарь сельсовета подшутил над ними, потому что это он сообщил, что говорил с больницей или с тем, кто выдавал себя за больницу. Но секретарь сельсовета сказал:
– Как я мог так пошутить, когда сейчас военное время.
И все ему поверили, потому что так шутить в военное время даже для секретаря сельсовета слишком глупо. В конце концов решили, что в больнице что-то спутали, что умер какой-то другой старик, может быть даже однофамилец Колчерукого, потому что ларбовцев у нас в Абхазии великое множество.
С первых же дней, как мы стали жить в доме соломенной вдовушки, я уже слышал голос Колчерукого, хотя самого его не видел в глаза.
Ровно в полдень, возвращаясь с колхозной работы домой на обед, он метров за триста от своего дома начинал окликать старуху, проклиная ее и яростно справляясь, готова ли мамалыга к обеду.
На его крики старуха отвечала таким же яростным криком, и голоса их, не теряя ни силы, ни отчетливости, постепенно сближались, потом перехлестывались и, наконец, замолкали. Через некоторое время голос старухи победно выныривал из тишины, но Колчерукий молчал. Позже, когда я стал бывать у них, я понял, что старик молчит по той причине, что рот его занят едой, причем ел он с такой же яростью, так что ругаться одновременно он никак не мог.
Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же голосом справлялся насчет своей лошади, скотины или своего внука Яшки и опять же насчет той же мамалыги к ужину.
Потом я познакомился и подружился с этим Яшкой, таким же громогласным, как его дед, но, в отличие от него, добродушным ротозеем. Обычно Колчерукий возил его в школу верхом на своей лошади. Всю дорогу он ругался, что приходится возить его в школу и тратить драгоценное время на этого лоботряса. Яшка молча сидел за дедом, держась за его пояс, и, смущенно улыбаясь, глядел по сторонам.
Если дед бывал в отъезде, в школу его возила бабка на этой же лошади, и он так же сидел за нею и только не позволял ей подъезжать к самой школе, чтобы мальчишки над ним не смеялись. Мы с ним учились в разные смены. Возвращаясь из школы, я их встречал где-нибудь на полпути в школу, и Яшка, вывернув голову, долго-долго, тоскливо смотрел мне вслед, что служило поводом для дополнительной ярости Колчерукого. Яшку приходилось возить в школу, потому что она была в трех километрах от дома, а Яшка был так рассеян, что иногда забывал, куда идет, и сворачивал в сторону.
В первое время, увидев меня на улице, Колчерукий ставил ладонь козырьком над глазами и спрашивал:
– Ты чей будешь?
– Я сын такой-то, – учтиво отвечал я ему и называл маму, которую он хорошо знал еще с давних пор.
– А кто она такая? – спрашивал он громогласно и еще пристальней смотрел на меня из-под своей колчерукой ладони.
– Она сестра жены дяди Мексута, – объяснял я, хотя и понимал, что он притворяется.
– Так вы те самые городские дармоеды? – кивал он в сторону нашего дома.
– Да, – уклончиво подтверждал я, что это мы здесь живем, одновременно как бы отчасти признавая и наше дармоедство.
Он стоял передо мной, удивленно вглядываясь в меня буравчиками глаз, небольшого роста, коренастый, с широкой, по-петушиному красной шеей. Стоял, удивленно вглядываясь в меня, словно осмысливая меня целиком, одновременно прислушиваясь к чему-то постороннему, к тому, что происходило за забором в кукурузе его приусадебного участка, словно по шорохам, по возне, по каким-то ему одному уловимым звукам точно определял все, что делается у него на усадьбе, во дворе и, может быть, в самом доме.
– Так это ты провалился в мою могилу? – спрашивал он неожиданно, продолжая прислушиваться к тому, что делается у него на усадьбе, и уже улавливая там какие-то ненормальности и недовольно похмыкивая по этому поводу.
– Да, – отвечал я, с тайной опаской наблюдая за ним, потому что чувствовал, что он начинен какой-то взрывчатой силой.
– Ну и как тебе там показалось? – спрашивал он, продолжая прислушиваться и постепенно возбуждаясь тем, что там происходило, и уже бормоча вполголоса: – Вымерла, что ли, эта старуха… Чтоб она ослепла… Разорит меня, старая дура…
– Хорошо, – отвечал я, стараясь проявить благодарность за гостеприимство. Все-таки это была его могильная яма.
– Место хорошее, сухое, – соглашался он, уже поскуливая от возмущения тем, что происходило у него на усадьбе, и внезапно срывался и кричал своей старухе, с места, без разгону, взяв самую высокую ноту: – Эй ты, что-то там хрупает на огороде, хрупает! Чтоб твои уши полопали – свиньи, свиньи!
– Чтоб я их с тобой в твою могилу уложила, вечно тебе мерещатся свиньи! – сразу же отзывалась старуха.
– Я же слышу – чавкают и хрупают, чавкают и хрупают! – кричал он, уже забыв про меня, и голоса их схлестывались, и он, словно ухватившись за конец ее крика, подтягивался на нем и быстро двигался в сторону дома, одновременно перебрасывая ей свой клокочущий голос.
Постепенно мы привыкли к его голосу и уже не обращали на него внимания, и даже, когда он куда-нибудь уезжал на несколько дней и вдруг все замолкало, становилось как-то странно, словно чего-то не хватало, словно какой-то пустой звон в ушах раздавался.
Жена его, высокая, выше его, невероятно худая старуха, иногда, когда его не было дома, приходила к нам поговорить с мамой. Бывало, приносила с собой круг сыру, или миску кукурузной муки, или кусочек пахучего, копченого над костром мяса. Смущенно посмеиваясь, она просила спрятать то, что принесла, и, ради бога, никаких благодарностей, только чтобы этот крикун ее ничего не знал.
Они часами о чем-то говорили с мамой, а жена Колчерукого все курила, скручивая цигарку за цигаркой. Внезапно раздавался голос Колчерукого. Он кричал ей что-нибудь в сторону дома, а она, прислушиваясь к его голосу, тряслась от затаенного смеха, словно боялась, что он услышит ее смех, и в то же время ее забавляло, что он кричит не в ту сторону.
– Ну, чего тебе, я здесь! – отвечала она наконец.
– Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхоз вас обеих! В кумхоз! – выкрикивал он после мгновенной паузы, словно онемев от возмущения ее вероломством.
Однажды он подъехал к воротам нашего дома и крикнул мне, чтобы я вынес мешок. Громко ругаясь на то, что этим дармоедам только жуй и в рот клади, он высыпал мне полмешка муки и, продолжая возмущаться тем, что дает свою кукурузу, да еще на мельницу возит ее на своей же лошади, он приторочил свой мешок к седлу и уехал. Отъезжая, он еще крикнул, чтобы этой ничего не говорить насчет муки, потому что и так ему нет никакого житья от ее крику.
Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка; чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин. В конце концов он прислал человека к Колчерукому, чтобы тот намекнул насчет телки. Так, мол, и так, слава богу, что он остался жив, но телку следовало бы прислать назад, потому что он ее не дарил Колчерукому, а пригнал на сороковины, как хороший родственник.
– Принес яйцо, а хочет взять курицу, – говорят, сказал Колчерукий, выслушав намек. Потом он, говорят, подумал и добавил: – Скажи ему, что, если я скоро умру, можно будет ему приходить без приношенья, а если он умрет, я приду в его дом, как хороший родственник, и пригоню телку от его телки.
Родственник Колчерукого, узнав о его условиях, говорят, обиделся и велел передать Колчерукому уже без всяких намеков, что ему не надо никакой телки, тем более после смерти, что он хочет при жизни получить собственную телку, которую он ему пригнал на поминки, как хороший родственник. А раз Колчерукий до сих пор не умер, значит, надо возвратить телку хозяину. При этом он дал слово, что несмотря на то, что в доме Колчерукого его, измерив шпагатом, унизили, если Колчерукий и в самом деле умрет, он снова пригонит ее.
– Этот человек заставит меня лечь в могилу из-за своей телки, – говорят, сказал Колчерукий, услышав новые разъяснения. – Передайте ему, – добавил он, – что теперь недолго ждать, так что не стоит мучить несчастное животное.
Через несколько дней после этого разговора Колчерукий пересадил из своего огорода на свою могилу пару персиковых саженцев. Возможно, он это сделал, чтобы освежить представление о своей обреченности. Мы с Яшкой помогали ему. Но, видимо, двух персиковых саженцев ему показалось мало. Через несколько дней он ночью вырыл на плантации тунговое деревце и посадил его между этими персиковыми саженцами. Вскоре об этом все узнали. Колхозники, посмеиваясь, говорили, что Колчерукий собирается травить покойников тунговыми плодами. Никто не придал значения этой пересадке, потому что тунговые деревья никто ни до него, ни после него в деревнях не крал, потому что они крестьянам ни к чему, а плоды тунга смертельно ядовиты, так что, значит, в какой-то мере даже опасны.
Бывший хозяин телки тоже замолк. То ли поверил в обреченность Колчерукого, после того как он пересадил на свою могилу тунговое дерево, то ли, боясь его языка, не менее ядовитого, чем тунговые плоды, решил оставить его в покое.
Кстати, рассказывают, что Колчерукий через свой язык в молодости и стал Колчеруким. Дело было так.
Говорят, после какой-то пирушки местный князь в окружении многочисленных гостей сидел во дворе хозяина дома. Князь ел персики, состругивая с них кожуру перочинным ножичком с серебряной цепочкой. Хотя перочинный ножичек с серебряной цепочкой никакого отношения к последующим событиям не имеет, все рассказчики упоминали про этот ножичек, неизменно добавляя, что он был с серебряной цепочкой. Пересказывая этот случай, я хотел избежать перочинного ножичка с серебряной цепочкой, но чувствую, что почему-то должен его упомянуть, что в нем есть какая-то правда, без которой что-то пропадает, а что, я и сам не знаю.
Одним словом, князь ел персики и, благодушествуя, вспоминал свои любовные радости. В конце концов он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув:
– Если б всех моих женщин собрать, пожалуй, не вместились бы в этот двор.
Но Колчерукий, говорят, уже тогда никому благодушествовать не давал, несмотря на свою молодость. Говорят, он высунулся неизвестно откуда и сказал:
– Интересно, сколько бы коз заблеяло в этом дворе?
Этот довольно пожилой князь, говорят, был большой ценитель женской красоты, но, кроме того, его подозревали в древнегреческом грехе, разумеется, если этому греху положили начало именно древние греки. Я лично думаю, что этому греху мог положить начало любой народ, занимающийся скотоводством. А так как все народы в свое время прошли скотоводческую стадию развития, а некоторые ее все еще проходят, как человек, воспитанный в презрении к национальным предрассудкам, считаю, что все они независимо друг от друга могли положить начало этому греху.
Но вернемся к нашему престарелому феодалу. Говорят, в местных кругах князь скромно гордился умением так состругивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. Умение это не изменяло ему даже после бессонной ночи и длительной попойки. Сколько, говорят, за ним ни следили, сколько ни пытались его отвлечь, он так и не ошибся ни разу. Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говорят, рассмотрев его со всех сторон, тут же доставал свой ножичек с серебряной цепочкой и безошибочно пускал его по единственно правильному пути.
Обычно, срезав вьющуюся спиралькой кожуру, он приподымал ее и показывал окружающим. А если среди них была красивая девушка, он подзывал ее и подвешивал эту фруктовую ленточку ей за ушко.
Мне кажется, Колчерукого раздражало это искусство князя. Я думаю, что он издавна следил за ним и был уверен, что рано или поздно ленточка должна оборваться. Возможно, Колчерукий в тот раз возлагал особенно большие надежды на какой-то из этих персиков, но князь его вполне удачно обработал, да еще стал хвастаться своими женщинами, хотя, по слухам, оказывал знаки внимания и хорошеньким козочкам. Согласитесь, что тут было отчего взорваться Колчерукому, да еще молодому.
Говорят, после его неожиданных слов князь побагровел и, потеряв дар речи, глядел на Колчерукого выпученными глазами. При этом он продолжал держать в правой руке уже очищенный сочащийся персик, а в левой все тот же перочинный ножичек с серебряной цепочкой.
От ужаса все вокруг замолкли, а князь, не моргая, продолжал смотреть на Колчерукого, и рука его с персиком беспокойно двигалась по воздуху, словно чувствуя неуместность в такую минуту этого сентиментального персика, не говоря уж о том, что невозможно выхватить пистолет из кобуры, одновременно держа в ладони персик, да еще очищенный. Говорят, рука его даже склонилась к земле, чтобы наконец освободиться от этого персика, но в последнее мгновение как-то не решилась, ведь персик-то был оструган, и она, хорошо воспитанная княжеская рука, чувствовала, что очищенный персик никак нельзя положить на землю.
И вот она снова поднялась, эта рука, и мучительное мгновение шарила по воздуху в поисках невидимой тарелки, чувствуя, что кто-то должен подсунуть ей тарелку, но все оцепенели от страха, и никто не догадался помочь ему освободиться от этого, теперь уже непристойно оголенного персика. И тут, говорят, к нему на помощь пришел сам Колчерукий.
– Да сунь ты его в рот! – говорят, подсказал он ему. Не успели гости очнуться от новой дерзости, как стали свидетелями необъяснимого самоунижения князя, который, говорят, с какой-то позорной поспешностью стал заталкивать в рот мокрый, сочащийся персик, продолжая смотреть на Колчерукого ненавидящими глазами. Наконец, кое-как справившись с персиком, он полез за пистолетом. Все еще глядя на Колчерукого выпученными ненавидящими глазами, он молча рылся у пояса, но от сильного волнения или, как уточняют другие, оттого, что у него были скользкие после персика руки, он никак не мог расстегнуть кобуру.
Может быть, еще кто-нибудь и опомнился бы, может быть, успел бы схватить князя за руку или в крайнем случае пинком отбросить Колчерукого в сторону, так что стрелять в него стало бы невозможно и даже опасно для других, но тут, говорят, в тишине в последний раз раздался голос Шаабана. Не в том смысле, что после этого его голос не раздавался, скорее напротив, он стал еще громче и насмешливей, а в том смысле, что после этой фразы он уже перестал быть просто Шаабаном, а стал Шаабаном Колчеруким.
– Там-то он, наверное, быстрее расстегивает, – говорят, сказал он, – потому как козы ждать не любят…
Говорят, он это сказал как-то задумчиво, вроде бы размышляя вслух. Но тут старый князь наконец справился со своей кобурой – раздался выстрел, женщины подняли вопль, и, когда рассеялся дым, Колчерукий уже был самим собой, то есть Колчеруким. Потом у него спрашивали, почему он после первого оскорбления продолжал дразнить князя.
– Уже не мог остановиться, – отвечал Колчерукий.
Позже, когда князь ушел с меньшевиками, а у нас окончательно и бесповоротно установилась советская власть, Колчерукий стал утверждать, что у него с князем были свои, чуть ли не партизанские счеты, что разговор этот был только поводом или следствием других, более важных вещей.
Одним словом, несмотря на княжескую пулю, Колчерукий продолжал над всеми подшучивать, и шутки его, кажется, не становились безобидней.
Слоняясь по деревне, я его часто видел на табачной или чайной плантации или на прополке кукурузы. Если у него бывало хорошее настроение, он просто дурачился, и тогда все кругом покатывались со смеху.
Он умел подражать голосам знакомых людей и животных, особенно у него получался петушиный крик.
Бывало, в поле бросит мотыгу, разогнется, посмотрит по сторонам и зальется петухом. Почти сразу же откликаются петухи из соседних домов. Все вокруг смеются, ближайший петух продолжает звать его, а он берется за свою мотыгу и приговаривает: «Много ты понимаешь, дурак».
У нас, как, вероятно, у всех, принято считать, что петухи поют со значением, чуть ли не провидят судьбы своих хозяев. Колчерукий, можно сказать, разоблачал петухов, этих сельских провидцев. Надо сказать, что Колчерукий, несмотря на свою полувысохшую руку, работал как черт. Правда, иногда, когда проносился слух, что начинается подписка на заем или мобилизуют оставшихся мужчин на лесозаготовку, он вдевал свою левую руку в чистую красную повязку и ходил в таком виде, пока считал нужным. Думаю, что эта красная повязка ему мало чем помогала, особенно в подписке на заем она ему никак не могла помешать, но все же, видимо, давала лишнюю возможность поспорить, поязвить, понадсмехаться.
Я думаю, что и красную повязку он себе завел, чтобы придать пострадавшей руке военно-партизанский вид. Из бдительности он после каждого вызова в правление вдевал свою руку в повязку, садился на лошадь и ехал.
В накинутой бурке, с рукой в красной повязке, верхом на лошади он и в самом деле имел довольно бравый военно-партизанский вид.
Все было хорошо, но вдруг стало известно, что председатель сельсовета получил анонимное письмо против Колчерукого. В нем говорилось, что в посадке тунгового дерева на могилу скрывается насмешка над новой технической культурой, намек на ее бесполезность для живых колхозников, как бы указание на то, что ей настоящее место на деревенском кладбище.
Председатель сельсовета показал это письмо председателю колхоза, и тот, говорят, не на шутку перепугался, потому что могли подумать, что он, председатель, подучил Колчерукого пересадить тунговое дерево к себе на могилу.
Я тогда никак не мог понять, почему все обернулось так грозно, когда и до этой бумаги все знали, что он пересадил деревце тунга на свою могилу. Я тогда не знал, что письмо – это документ, а документ потребовать могут, за него надо отвечать.
Правда, еще говорили, что председатель сельсовета мог бы не давать ему ходу, но он, говорят, имел зуб на Колчерукого и потому показал письмо председателю колхоза.
Одним словом, письму был дан ход, и однажды по этому поводу из райцентра прибыл какой-то человек, чтобы выяснить истину. Колчерукий пробовал отшучиваться, но, видно, все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с таким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему, да и окружающим, только и остается, что остерегаться осколков.
– Ну, все, – говорил старый лошадник Мустафа, друг и вечный соперник Колчерукого, – теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то в Сибир отправят.
– Сибир не боюсь, боюсь, ты мою могилу займешь, – отвечал Колчерукий.
– В Сибир, говорят, на собаках ездят, – пугал его Мустафа, – так что забери с собой уздечку, может, объездишь себе какого пса. Будет тебе и лаять, и возить.
Надо сказать, что между Колчеруким и Мустафой было давнее соперничество в лошадином деле. У каждого из них были свои подвиги и неудачи. Колчерукий покрыл себя когда-то немеркнущей славой тем, что в Мингрелии во время скачек на глазах у многотысячной толпы (положим, толпа была не такой уж многотысячной) увел какого-то знаменитого жеребца. Говорят, сам Колчерукий сидел на такой замордованной кляче и выглядел так потешно, что, когда он попросил у хозяина жеребца испробовать его ход, тот для смеха разрешил ему, уверенный, что через минуту жеребец его сбросит на землю и от этого станет еще более знаменитым.
Колчерукий, говорят, на пузе слез со своей клячонки и, передавая поводья хозяину жеребца, сказал:
– Считай, что мы обменялись.
– Хорошо, – со смехом ответил хозяин, беря у него поводья.
– Главное, в первый раз не дай себя сбросить, а то затопчет, – предупредил Колчерукий и подошел к жеребцу.
– Постараюсь, – говорят, со смехом отвечал хозяин и, как только Колчерукий взобрался на жеребца, дал знак какому-то парню, стоявшему сзади, и тот изо всех сил хрястнул жеребца камчой.
Жеребец взвился и помчался в сторону Ингури. Говорят, Колчерукий сначала держался как пьяный мулла на скачущем ослике.
Все ждали, что он вот-вот сорвется, а он все шел и шел вперед, и у хозяина начала отваливаться челюсть, когда Колчерукий доехал до конца поляны, но не свернул по кругу естественного ипподрома, а летел все дальше и дальше в сторону реки. Еще несколько минут ждали, думали, что просто лошадь отняла у него поводья, что он ее не смог завернуть, но потом поняли, что это неслыханный по своей дерзости угон.
Минут через пятнадцать за ним мчалась дюжина всадников, но уже ничего не могли сделать.
Колчерукий с ходу с обрыва бросился в реку, и, когда погоня добралась до обрыва, он уже выходил на том берегу, мокрым крупом коня на мгновение просверкнув в прибрежном ольшанике. Пули, посланные вслед, не достигли цели, а прыгать с обрыва никто не осмелился. С тех пор, говорят, это место названо Обрывом Колчерукого. Колчерукий при мне сам никогда не рассказывал эту историю, зато давал ее пересказать другим, сам с удовольствием слушая и внося некоторые уточнения. При этом он всячески подмигивал в сторону Мустафы, если тот был рядом. Мустафа делал вид, что не слушает, но в конце концов не выдерживал и пытался как-нибудь унизить или высмеять его подвиг.
Мустафа говорил, что человек, которому уже прострелили одну руку, можно сказать, порченый человек, и поэтому, пускаясь на дерзость, он не слишком многим рискует. А если он и спрыгнул с обрыва, то, во‐первых, спрыгнул от страха, а потом, ему ничего другого не оставалось делать, потому что, поймай его погоня, все равно бы пристрелили.
Одним словом, у них было давнее соперничество, и если раньше они его разрешали на скачках, то теперь, по старости, хотя и продолжали держать лошадей, споры свои разрешали теоретически, отчего они у них часто заходили в дебри зловещих головоломок.
– Если в тебя человек стреляет с этой стороны, а ты, скажем, едешь вон по той тропе, куда ты поворачиваешь лошадь при звуке выстрела, и притом вокруг ни одного дерева? – спрашивал один из них.
– Скажем, ты скачешь в гору, а за тобой гонятся люди. Впереди – справа мелколесье, а слева овраг. Куда ты свернешь лошадь? – допытывался другой.
Эти споры велись двумя людьми, изможденными долгим трудовым днем, возвращавшимися домой с мотыгами или топорами на плечах. Споры эти длились многие годы, хотя вокруг уже давно никто не стрелял, потому что люди научились мстить за обиды более безопасным способом. К одному из этих способов, а именно анонимному письму, кстати, пора возвратиться.
Приехавший из райцентра добивался, чтобы старик рассказал об истинной цели пересадки тунгового дерева, а главное, раскрыл, кто его подучил это сделать. Колчерукий отвечал, что его никто не подучивал, что он сам захотел после смерти иметь тунговое дерево над своим изголовьем, потому что ему давно приглянулась эта не виданная в наших краях культура. Приехавший не поверил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.