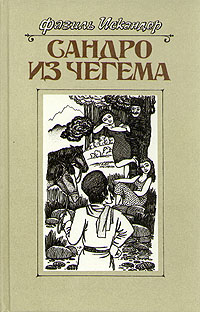Читать книгу "Сандро из Чегема. Книга 2"
– Главное, – сказал крестьянин, обернувшись к Чунке, – эта лошадь сразу не кусает, как другие. Сперва выбрасывает человека, потом становится на задние ноги, а потом уже кусает. Такую привычку имеет. Видишь, рубашку порвала? В тот раз чуть за горло не схватила.
– А сколько раз он пытался сесть? – спросил Чунка.
– При мне четыре раза! – восторженно пояснил крестьянин. – А сколько до меня – аллах знает!
Минут через десять объездчик снова подошел к ней, и Цурцумия снова прижимал к груди свою подобранную шапчонку, и все до смешного повторилось, как в тот раз.
Только теперь тот, что держал кобылицу на веревке, и в самом деле не успел натянуть ее, и свалившемуся объездчику пришлось несколько метров на заднице отползать от бешеной вытянутой морды кобылицы. И неизвестно, чем бы это кончилось, если б внезапно не выбежал Цурцумия и бесстрашно шапчонкой несколько раз не ударил кобылицу по морде. Кобылица от неожиданности отступилась, а объездчик вскочил и стал ругать того, что плохо натягивал веревку.
Цурцумия, взвинченный всем случившимся, тоже присоединился к ругани своего родственника. При этом он то и дело помахивал своей столь удачно использованной шапчонкой, и хотя прямо не ссылался на нее, но явно давал знать, что и гораздо более скромными средствами, чем натянутая веревка, некоторые кое-чего добиваются.
Парень, державший веревку, почти не оправдываясь, молча пустил лошадь по кругу. Всезнающий крестьянин обернулся к Чунке и тут же объяснил причину терпеливости этого парня. Причина была простая – кобылица была его. Заинтересованный в этом объездчике, он своей излишней покорностью как бы пытался уравновесить излишнюю норовистость своей кобылицы.
Снова на веранду вышел председатель колхоза, и, выразив на своем лице крайнее изумление, что крестьяне не разошлись по рабочим местам, опять стал ругаться, и опять выделил Цурцумия, с немалым упорством добиваясь у него ответа, кто должен тюковать табак: он, Цурцумия, или его, председателя, бабушка?
– С такими негодяями, как вы, – зычно закончил он свою речь с веранды, – не то что один хороший коммунизм, один хороший феодализм нельзя построить!
После этого он, мгновенно успокоившись, обратил внимание на то, что лошадь теперь рысит по кругу с болтающимися стременами.
– Сейчас совсем другое дело, – сказал он, – теперь, когда он на нее сядет, она спокойней будет. Вообще не надо привязывать стремя… А с тобой, Цурцумия, особый разговор будет… – С этими словами председатель снова покинул веранду и скрылся в дверях правления.
– Когда он на нее сядет, – по-мингрельски, горестно передразнил его Цурцумия, – в том-то и дело, что сесть не дает… Еще председатель называется…
И тут Чунка не выдержал.
– Я ее объезжу! – крикнул он и пробрался вперед.
Теперь его горбоносое лицо выражало только отвагу. Шальная мысль мелькнула у него в голове. Он не то чтобы был особенно опытным объездчиком, но около десяти лошадей успел объездить. Но дело было не в этом.
В мальчишестве у них в Чегеме была такая игра. Они забирались на чинару, стоявшую посреди выгона, куда в полдень табун приходил отдыхать. Осторожно по ветке добираясь до лошади, стоявшей под ней достаточно удобно, ребята свешивались с нее и прыгали на скакуна, одновременно стараясь цапнуть гриву обеими руками.
Даже объезженные лошади от неожиданности шалели, а необъезженные просто устраивали родео. Кто дольше всех удерживался на спине лошади, тот и считался героем. Интересно, что, когда кто-нибудь прыгал на одну лошадь, другие не разбегались. Лошади привыкли опасаться человека, приближающегося по земле. А человек, прыгающий на лошадь с дерева, был непонятен остальным лошадям и потому не очень их беспокоил.
Сейчас Чунка решил объездить эту кобылицу именно таким способом. Кроме всего, ему хотелось, чтобы эти анастасовцы раз и навсегда обалдели от его чегемской лихости.
– Дай камчу! – сказал он объездчику и протянул Руку.
Тот, угрюмо набычившись, сделал вид, что неохотно передает камчу.
– Снимите седло! – приказал Чунка, пошлепывая камчой по брюкам.
Объездчик вопросительно на него посмотрел, но Чунка не удостоил его ответным взглядом. Он уже поймал глазами то место на нижней ветке шелковицы, откуда собирался спрыгнуть. Объездчик подошел к остановленной лошади, отстегнул подпруги, снял седло и поставил его на землю. Кобылица опять замерла, и сейчас, когда она была без седла, особенно бросалось в глаза, как волны дрожи, словно рябь по воде, пробегают по черному крупу.
– Сними веревку и надень уздечку! – приказал Чунка хозяину лошади.
Тот, продолжая держать веревку, двинулся к лошади, приподняв валявшуюся на земле уздечку. Он снова сунул ей в рот удила, пристегнул нащечный ремень и, взявшись за поводья, обернулся:
– Но ведь она убежит?
Вот анастасовцы со своими долинными понятиями об объездке!
– Лошадь – для того и лошадь, чтобы бегать, – вразумительно сказал Чунка и, подойдя к нему, взял у него поводья. – Сними недоуздок, – кивнул Чунка.
Хозяин лошади снял с нее недоуздок и отбросил его подальше вместе с вильнувшей веревкой. Чунка подвел лошадь к месту под веткой, наиболее удобной для прыжка. Еще никто не понимал, что он собирается делать. Кивком он подозвал хозяина лошади и, перекинув поводья через голову кобылицы, передал ему.
– Вот так стой, – приказал он ему, – ни на шаг не сдвигайся.
– Зачем? – спросил тот, окончательно сбитый с толку.
– Увидишь, – сказал Чунка и, сунув ладонь в кожаную петлю на конце кнутовища, чтобы камча держалась на запястье, подошел к дереву и стал влезать на него. Тут и анастасовские тугодумы зашумели, поняв, что он собирается делать. Похохатывая, стали вышучивать чегемцев.
– Одного чегемца спросили, – громко крикнул кто-то, – почему вы коз в кухне доите? – А он: – От загона молоко тащить далековато.
– Ха! Ха! Ха!
– Козы – ерунда, – сказал другой, – чегемцы коров на чердак подымают, чтобы солью накормить!
– Ха! Ха! Ха!
– Лошадь, что будет, не знаю, – ехидным голосом выкрикнул какой-то мингрелец, – но для гречанки яичница будет!
– Ха! Ха! Ха!
Чунка не обращал внимания на эти шутки. Он уже сидел на ветке прямо над лошадью. Но вот, обхватив ее руками, он осторожно свесился и теперь висел, слегка покачиваясь и растопырив ноги над крупом лошади.
– Как только схвачу поводья – отбегай! – приказал он хозяину, державшему поводья над шеей лошади и с некоторым испугом следившему за ним.
– Хорошо, – быстро согласился тот, явно готовый отбежать даже еще раньше.
Тут Чунка вспомнил о машине и своих орехах. Он знал, что, если удержится, лошадь его умчит, и неизвестно, когда он вернется.
– Если придет шофер, – кивнул он для ясности в сторону машины, – скажи, чтоб Чунку подождал.
В те времена шоферы были редкими и потому важными людьми. Похвастаться личным знакомством с шофером тоже было приятно.
В последний раз примерившись покачивающимся телом к спине лошади, он спрыгнул. Чунка успел схватить поводья, хозяин кинулся в сторону, а кобылица, обезумев, дала свечу, пытаясь опрокинуться на спину и подмять всадника. Но Чунка хорошо знал эту повадку лошадей. Он всем телом налег на шею кобылицы и вдобавок кнутовищем камчи хрястнул ее по голове, чтобы она невольно опустила голову и сама опустилась. Кобылица в самом деле опустилась, но тут же снова взмыла свечой и прыгнула вбок, чтобы стряхнуть его со спины. Чунка изо всех сил вжался ногами в живот лошади.
Кобылица грозно всхрапнула и, наконец, вспомнив свой кусачий нрав, вывернула голову, чтобы схватить его за правую ногу. Чунка успел отдернуть ногу и с размаху трахнул ее по башке кнутовищем камчи.
Лошадь рванулась за его левой ногой и, как собака, взбешенная укусом блохи, завертелась на одном месте, пытаясь поймать его левую ногу и вышвыривая из-под копыт комья дерна, долетавшие до охающих зрителей. Чунка несколько раз промахивался, сеча кнутовищем плещущую гриву. Наконец так саданул ее по голове, что голова гукнула, как пустой кувшин.
Кобылица всхрапнула и дала свечу. Чунка всей тяжестью перегнулся вперед, но на этот раз она прямо со свечи ударила задними копытами, скозлила, как говорят лошадники. Все это было для Чунки не ново. Новым было то, что она, ударив задом, одновременно со всего маху длинной шеи сунула голову между передних ног. Такой повадки Чунка не знал и чуть было не вывалился вперед. И только намертво клешнящая сила ног помогла ему удержаться на лошади.
Кобылица понесла. В ушах гудело. Плотнеющий воздух бил в лицо, как полотнище неведомого знамени. Сейчас держаться было легко, но Чунка знал, что она еще не смирилась и можно ожидать от нее всякого. По деревенской улице она мчалась в сторону Кодора. Собаки не успевали ее облаять, а только лаем перекидывали друг другу весть о мчащемся чудище.
У самой последней усадьбы, где уже кончалась улица и начинался пойменный луг, эту весть приняла маленькая собачонка и, словно считая себя последней надеждой всех остальных собак, с отчаянным лаем выкатилась прямо под ноги кобылице. Кобылица шарахнулась в сторону и очутилась перед плетнем приусадебного кукурузника. Собачонка за ней! Кобылица вдруг взлетела, перемахнула через плетень и понеслась по кукурузе. Высокие кукурузные стебли с оглушительным шорохом хлестали Чунку по лицу, с метелок сыпалась в глаза пыль и труха.
Неожиданно лошадь запуталась в бесчисленных тыквенных плетях, ополоумев, проволокла их за собой, круша ими кукурузные стебли и волоча по земле вместе с плетьми полупудовые тыквы.
Собачонка, все это время заливавшаяся лаем и, видимо, искавшая в плетне дыру, нашла ее и догнала лошадь, когда она, ломая кукурузные стебли, волочила за собой тыквы, пытаясь выпрыгнуть из стреножащих плетей. Чужая лошадь, топчущая хозяйскую кукурузу, а главное, уволакивающая за собой родные тыквы, привела ее в такое неистовство, что, казалось, от лая она вот-вот вывернется наизнанку.
И тут у кобылицы подломились передние ноги. Чунка сумел удержаться и, сгоряча вырвав кукурузный стебель, огрел ее по голове корневищем, брызнувшим комьями земли. Лошадь рванулась и выпрыгнула из тыквенных плетей.
Через несколько минут она снова перемахнула через выросший перед ней плетень и помчалась по пойменному лугу, приближаясь к шуму Кодора и оставляя за собой угасающий, но все еще победный лай собачонки. Возможно, она думала: тыквы все-таки спасла!
И опять струи затвердевшего воздуха били в лицо, и Чунка, про себя улыбаясь, думал об этой бесстрашной собачонке. Вдруг он почувствовал, что лошадь забирает вправо на большую старую ольху, росшую посреди луга. Он знал эту лошадиную хитрость и все-таки было страшновато. Он попытался повернуть ей голову, но она не слушалась поводьев. Казалось, не лошадь, а могучее теченье несет его на дерево.
В таких случаях неопытный всадник, думая, что лошадь собирается с размаху грянуться о дерево, теряет самообладание или пытается спрыгнуть на ходу. Точно так же она может мчаться к обрыву.
Но Чунка знал, что это игра на нервах. В двух шагах от ствола она внезапно замерла на всем скаку, стала, как врытая, чтобы сошвырнуть его со спины на ствол дерева. Но Чунка за несколько мгновений до этого успел откинуться назад и удержался. Лошадь, словно растерявшись на мгновенье, подчинилась поводьям и снова помчалась по луговой пойме.
Недалеко от переправы она свернула к воде, видимо, решив испугать всадника близостью могучей реки. Разбрызгивая гальку, теперь она бежала вверх по течению.
Она пронеслась мимо людей, ожидавших парома, где стоял Кунта вместе со своим осликом. Кунта долго из-под руки глядел вслед промчавшемуся всаднику, стараясь понять: настоящая лошадь промчалась с призраком Чунки или оба они призраки – всадник и его лошадь.
Через некоторое время, видимо, от боли, которую причиняла прибрежная галька ее неподкованным копытам, она свернула на луг и домчалась до зеленого всхолмия. Чунка пустил ее вверх по тропке. Минут через двадцать она хрипло задышала и остановилась. Чунка повернул вниз. Теперь лошадь признавала всадника.
Когда они съехали на пойму, лошадь пошла ровным, послушным шагом в сторону центра села. Но Чунка снова стеганул ее несколько раз камчой, чтобы выжать из нее остатки строптивости, если они еще были в ней. Лошадь рванулась, но минут через десять сама перешла на шаг. Чунка ее больше не помыкал.
Под одобрительный гул анастасовцев Чунка въехал под сень шелковицы, спрыгнул с лошади, поцеловал ее горячую, замученную морду, кинул камчу объездчику, как кидают выпитый на спор бокал, и, не говоря ни слова, пошел в сторону машины.
Он старался идти небрежной походкой, хотя едва передвигал окаменевшими от перенапряжения ногами, чувствуя огненную боль в натертом межножье. Главное – никакого внимания восторженным возгласам: для чегемца это обычное дело!
Оказывается, когда он отходил от лошади, она на него обернулась или просто случайно повернула голову в его сторону. Но окружающие увидели в этом особый знак.
– Лошадь, как женщина, первого любит, – важно заметил по этому поводу один из анастасовцев.
Все одобрительно зацокали и закивали головами, некоторым образом вкладывая в свое киванье и цоканье далеко идущий личный опыт, извлеченный из глубин памяти.
– Слушай, парень, – обратился председатель к Чунке. Он опять стоял на веранде, и, видно, ему уже рассказали, каким способом Чунка сел на лошадь, – если ты вот так спрыгнешь с дерева или еще лучше с крыши сельсовета и объездишь нашего Цурцумия, клянусь партией, колхоз тебе подарит патефон!
Тут наконец Цурцумия взбунтовался. Возможно, невольное торжество Чунки, вырвавшего у его родственника столь важную для Цурцумия победу над кобылицей, окончательно надорвало его терпение.
– Что такой! – закричал он, нервно тряся руками перед собой. – Всегда Цурцумия! Цурцумия! Убей Цурцумия и построй Коммуния!
– Язык, Цурцумия! – крикнул председатель и уже ко всем: – По рабочим местам! Три часа бездельничали, а теперь три часа будут ляй-ляй конференция, как чегемский гырень их лошадь объездил!
Крестьяне толпой покинули сень шелковицы и двинулись в одну сторону, на ходу обсуждая подробности случившегося. Одинокий Цурцумия шел в другую сторону.
– А ты куда, Цурцумия?! – крикнул председатель.
– Как куда?! – резко обернулся Цурцумия. – В табачный сарай! Куда еще может пойти Цурцумия?!
– А-а-а, правильно, – примирительно сказал председатель – Иди! Ты меня, Цурцумия, совсем с ума свел!
С этими словами он повернулся и вошел в двери правления. Владелец лошади, оседлав ее и, видимо, пока не решаясь сесть, повел ее домой, держа за поводья. Объездчик, голубея неоправданно праздничной рубахой, понуро уходил куда-то. Под сенью шелковицы на зеленой траве, изрытой копытами кобылицы, телепался на ветерке лоскуток его рубахи, как раненая бабочка, пытающаяся взлететь.
В кузове машины и возле нее уже собралось человек десять пассажиров. Шофера все еще не было. Чунка снял рубаху и промокшую от пота майку. Он вытряхнул из них труху кукурузных метелок, протер мускулистое, худое тело большим носовым платком, счищая и сбивая с него растительный мусор. Снова оделся.
– Я схожу в одно место и приду, – сказал Чунка собравшимся, – если шофер придет раньше, скажите, чтобы Чунку подождал!
Собравшиеся охотно закивали. Почти все они видели, как он объездил лошадь. Чунка отправился к Анастасии. Она жила в десяти минутах ходьбы от сельсовета. И как всегда, чем ближе Чунка подходил к ее дому, тем сильнее он чувствовал волнение ревности, переходящее в сдержанное бешенство.
И хотя он точно знал, что ее время от времени покупают какие-то люди и он давно с этим смирился и знал, что ни о какой женитьбе не может быть и речи, но, несмотря на все это, каждый раз, подходя к ее дому, он начинал трепетать от уязвленного мужского достоинства. Он знал, что не удержится и изобьет любого мужчину, нет, конечно, не какого-нибудь случайного соседа, а именно такого, что пришел по этому делу. Он был абсолютно уверен, что мгновенно почувствует такого, но, как назло, ни разу не случалось, чтобы он кого-нибудь там застал.
То, что он не мог застать ни одного мужчину в доме Анастасии, только усиливало его ревность и уверенность в необыкновенном коварстве, нет, не добродушной Анастасии, но ее матери, старой ведьмы. Они жили вдвоем, Анастасия и ее мать.
Открыв воротца, он вошел в зеленый дворик и сразу же увидел свою возлюбленную. Возле кухни, пригнувшись над лоханью, она мыла голову, а мать ее стояла рядом и поливала ей воду из большой кружки. Белые, голые руки, озаренные солнцем, мелькали над мокрыми каштановыми волосами, длинными, как лошадиный хвост.
И хотя ясно было, что, раз она моет голову, в доме никого нет, Чунка, пользуясь тем, что мать ее пока еще его не заметила, проходя мимо домика, успел быстрым, хищным взглядом вглядеться в низкие окна и убедиться, что обе комнаты пусты. Мягко и уже спокойно ступая по курчавой траве, он подошел к женщинам.
– Калимера, мамаша, – сказал он с ироническим добродушием.
– Калимера, – сухо ответила та и стала сосредоточенно поливать дочке голову, показывая, что не намерена тратить на него время. Она недолюбливала Чунку, чувствуя, что дочка радуется его приходу гораздо больше того, чем стоят деньги этого парня. Старуха боялась, что дочка, если за нею недоглядеть, может связаться с Чункой и вовсе бесплатно, что, по ее мнению, уже было бы настоящим, позорным развратом.
– Чунка, это ты? – узнав его по голосу, спросила Анастасия и, сдвинув голой рукой, – она была в безрукавной кофточке, – набок чадру мокрых волос, посмотрела на него исподлобья темными, промытыми глазами, улыбнулась ему ярким ртом и сверкнувшими, словно тоже промытыми, зубами.
И Чунка в который раз подивился: как такую красавицу могла родить такая уродина!
– Я сейчас кончу! – радостно сказала она и занавесилась опущенными волосами. Старуха набрала полную кружку воды и стала поливать ей голову, что-то быстро и недоброжелательно лопоча по-гречески. «Старая скупердяйка, – подумал Чунка, – ей жалко, что я даром смотрю на голые руки ее дочки».
– Я еду в город продавать орехи, – сказал он и, усилив голос, добавил: – Вечером приеду! Жди!
Он усилил голос, потому что, как только он начал говорить, старуха, до этого осторожно поливавшая голову дочке, сразу же опрокинула огромную кружку, бессознательно пытаясь сделать волосы дочки звуконепроницаемыми для слов Чунки.
– Я буду ждать тебя, Чунка! – крикнула Анастасия сквозь шум льющейся воды, показывая, что поняла его и сама может перекричать искусственный ливень матери.
– Путана! Путана! – заквакала старуха. Так народы Средиземноморья для удобства взаимопонимания именуют женщин древнейшей профессии.
Чунка повернулся и вышел со двора. У ворот он с раздраженной проницательностью оглядел деревенскую улочку, стараясь угадать, не идет ли какой-нибудь мужчина в сторону Анастасии. Но улочка была пустой, и Чунка, как всегда, отходя от дома Анастасии, все меньше и меньше ее ревновал, а у машины уже и вовсе о ней не думал.
Он залез в кузов, где расположились все, кто собирался в город. Чунка уселся на один из своих мешков. В кузове в новенькой форме стоял могучего сложения красноармеец. По обличим его Чунка понял, что он грузин, но не из местных, потому что такого богатыря он обязательно приметил бы раньше. Чунка залюбовался им.
Ему нравились такие парни, в которых чувствовалась заматерелая мощь. А ведь этот парень еще служил, значит, он был года на два-три моложе его. Чунка хоть и был сильным и необыкновенно цепким парнем, но вот такой заматерелой мощи в нем не было. А он о ней мечтал. Красноармеец, заметив, что Чунка любуется его сложением, улыбнулся ему в знак того, что ценит одобрение его могущества.
– Вес? – спросил Чунка.
– Девяносто, – скромно пригашая впечатление, ответил красноармеец и в знак вежливости сам спросил у Чунки:
– А твой?
Гордость не дала Чунке соврать.
– Семьдесят, – сказал он не без некоторой сокрушенности.
– Тоже неплохо, – примирительно заметил красноармеец.
– Не знаю, – пожал плечами Чунка, – аппетит как у волка, а вес почему-то не растет.
– Это от породы идет, – пояснил красноармеец, – у меня отец тоже такой.
– Садись, – сказал Чунка и кивнул на второй мешок.
Красноармеец сел, и Чунка с удовольствием услышал, как орехи под ним хрястнули. Они познакомились. Красноармейца звали Зураб. Оказывается, он житель Мухуса. Сейчас он прибыл из России на побывку домой и на денек заскочил сюда к дяде.
Тут появился шофер и стал быстро собирать с пассажиров по три рубля. Он слегка кивнул Чунке, как бы по рассеянности недоузнавая его, чтобы как бы по той же рассеянности взять и с него три рубля. Это Чунку слегка огорчило. Он бы и так ему обязательно дал деньги, но, что поделаешь, шоферы люди капризные, избалованные.
Грузовик запылил в город. По дороге Зураб и Чунка, разговаривая о том о сем, естественно, вышли на героические случаи из своей жизни.
– В прошлом году, – сказал Зураб, – у меня был такой случай. Я сам в городе Брянске служу. И у меня там была девушка. Зоя звали. Она жила на окраине. И вот однажды вечером мы с ней сидим на скамейке и к нам подходит местный парень. Немного выпивший. И начинает приставать. Мол, отбиваешь наших девушек, мол, кто ты такой, тем более кавказец. А я шучу, потому что Зоя знает мою силу и самолюбие не задевает. А он не отстает. Еще больше злится на мои шутки, тем более в темноте мое телосложение не очень понимает. И он горячится.
– Отойдем на пару слов! – говорит.
И не один раз. Много раз говорит. Ну, драться с ним с моей стороны было бы даже нечестно. Я перворазрядник по штанге, но откуда он знает. Тем более в темноте телосложение незаметно. И тем более мы сидим, а он стоит. И тем более он немного выпивший. И чем больше я отшучиваюсь, тем больше он горячится, думает, что я мандражирую.
Наконец мне надоело. А Зоя ему не говорит, какой я из себя, потому что тамошние девушки вообще любят, чтобы за них дрались. И он мне надоел наконец. И я вот что придумал.
Напротив скамейки, где мы сидели, был дом. И был жаркий, как сейчас помню, августовский вечер. В России тоже бывают жаркие вечера. И в этом доме окна были открыты, и там семья сидела за столом и ела арбуз. Муж, жена, ребенок и какая-то старуха, похожая на тещу. И они ели большой астраханский арбуз. Долго ели. А мы с Зоей шутили над этим арбузом. Она мне сказала, что, если ты меня любишь, попроси ломтик арбуза, потому что жарко, пить хочется. Она знала, что я у незнакомых людей не буду просить арбуз, но она так шутила, одновременно проверяя, на что я способен ради нее.
И вот как раз в этот момент этот парень подошел и начал приставать. И мне он наконец надоел.
– Ну, хорошо, – говорю, – отойдем, поговорим, если ты так хочешь.
И когда я встал со скамейки и он увидел мое телосложение, ему, конечно, это сильно не понравилось. Но он, между прочим, не смандражировал.
– Пойдем, – говорит.
И вот мы через тротуар отходим к этому домику, где были раскрыты окна и семья ела большой арбуз и никак не могла его съесть, потому что арбуз был большой, астраханский. Но и семья была настойчивая и старуха не отставала от молодых. И мы с Зоей это все видели и потому смеялись. А там перед окнами был заборчик и цветы. Палисадничек называется. И мы теперь стоим перед этим заборчиком.
– Парень, – говорю, – ты слишком разгорячился. Тебе надо скушать арбуз, и ты успокоишься.
А он ничего не понимает и злится при виде моего телосложения, как будто я от него скрывал свое телосложение.
– При чем арбуз?! – говорит. Но не отступает.
– А вот, – говорю, – при чем!
Хватаю его обеими руками за поясницу, кладу, как тренировочный вес, на грудь и кидаю через палисадничек прямо в окно. Окно невысокое – там так принято на окраинах. А мы были на окраине, потому что там Зоя жила.
Он влетает в окно. Шум, крик, визг! Я сразу же возвращаюсь и сажусь на скамейку. Зоя умирает от хохота. Через несколько секунд опять через это же окно выскакивает этот же парень и бежит.
– Держи его! – кричит хозяин, высовываясь из окна.
– Кого держать, – говорю, – в чем дело?
– Пьяный вор, – говорит, – сейчас залез в окно, но при виде меня упал, вскочил и выскочил в окно.
И теперь мне тоже смешно слышать его слова, потому что он фактически в майке, и мускулатуры фактически нет, и его никто не мог испугаться. И мне смешно, но правду не могу сказать.
– Не знаю, – говорю, – какой-то шум был, но мы ничего не поняли.
А Зоя умирает от хохота, и он это замечает. И он чувствует, что мы как-то связаны с этим парнем. И он правильно чувствует, но доказать не может.
– Мне, – говорит, – очень даже странно, что вы ничего не заметили. Тем более ваша подружка хохочет, когда ничего смешного не происходит.
И тут он с женой и мальчиком выходят на улицу и осматривают свой палисадничек, чтобы по вытоптанным цветам определить вора.
А у Зои глаз был – не дай бог! И она, конечно, заметила, что, когда все вышли из дому, старуха, пользуясь случаем, налегла на арбуз. И она меня толкает в бок и совсем умирает от хохота. И тогда этот мужчина в майке подходит к нам и спрашивает:
– Чем объясняется веселье девушки?
Я ему показываю на окно и делаю вид, что раньше тоже Зоя смеялась над аппетитом этой старушки. И ему эта наблюдательность Зои очень понравилась. И он быстро успокоился и начал тихо, чтобы жена не слышала, рассказывать, как он всю жизнь страдает от аппетита тещи. Рассказывает и одним глазом смотрит в окно, где теща уже добивает арбуз. Но тут жена его, видно, догадалась, о чем он говорит, и строгим голосом позвала его. И он пошел, делая вид, что не успел рассказать, а на самом деле все успел. И они ушли, а мы с Зоей от души смеялись весь вечер.
Чунка с удовольствием выслушал рассказ Зураба и в ответ подобрал случай из своей жизни, тоже связанный с беготней. Однажды у выхода с базара его окружили четыре городских хулигана. Одного из них он в прошлый приезд избил за то, что тот пытался стащить круг сыра у старой крестьянки, продававшей его.
И в следующий его приезд в город, когда он продавал фасоль, тот хулиган его приметил, собрал своих дружков и вместе с ними хотел его избить. Чунка понял, что он один с четырьмя не справится, что вместе они его изобьют, и пошел на военную хитрость.
Он неожиданно опять вмазал тому, которого избил в прошлый раз за подлое дело. Тот рухнул, а Чунка побежал. Он хорошо бегал и мог сбежать от них. Но он сбежать не хотел, он хотел растянуть преследователей. Через два квартала он заметил, что один из них вырвался вперед. Чунка сбавил ход и дал ему догнать себя. Чунка и ему врезал изо всей силы, и тот упал. Чунка побежал снова. Те двое, видя, что Чунка бежит, и считая, что он их боится, продолжали преследование. И третьему он дал догнать себя и третьему врубил от души, а четвертый, догадавшись наконец, что дело плохо, повернул на ходу и сбежал.
Так, болтая о том о сем, они приехали в город, и красноармеец первым спрыгнул за борт, и Чунка с удовольствием услышал увесистый чмок его ботинок об асфальт. Чунка подал ему мешки, и тот помог донести их до базара, где они расстались, довольные друг другом.
Чунка быстро продавал свои орехи. С шутками-прибаутками, демонстрируя домохозяйкам полноценность и тонкоскорлупость чегемских орехов, он, гребанув из мешка, тут же с хрустом раздавливал в большом кулаке один-два ореха и, протягивая лоснящуюся маслом ладонь, давал убедиться в полноценности раздавленного ядра.
– Не орех – голубиное яйцо! – кричал он. От покупательниц не было отбоя. Рядом с ним торговал орехами цебельдинский армянин, с которым Чунка переговаривался по-турецки, потому что тот плохо знал русский язык. У того товар шел медленнее, он не мог в одной ладони раздавить орех об орех. Далековато цебельдинскому ореху до чегемского, далековато!
Когда сосед спросил у Чунки, откуда он родом, Чунка, верный своему обычаю в городе никогда не называть свое село, ответил:
– Я из верхних.
В городе всякое может случиться. Не надо, чтобы лишние люди знали, откуда ты родом. Он уже приканчивал свои орехи, когда в ряду, отведенном под продажу орехов, фасоли, кукурузной муки, появился комсомольский патруль. Он проверял у крестьян справки, что колхоз разрешил им выехать в город продавать свой товар. Таким образом в те времена поддерживали в колхозах трудовую дисциплину. Если справки не оказывалось, колхозник должен был прекратить торговлю и ехать домой.
У Чунки такой справки не было. Конечно, он мог ее получить в правлении колхоза, но ему было лень туда идти за три километра. Да и проверяли редко. Так что он надеялся – пронесет. Но сейчас патруль приближался неумолимо.
Когда патрульные, всего их было трое, были от него за несколько продавцов, Чунка, раздраженный приближающейся неприятностью, бросил своему соседу по-турецки:
– Партия – это сила, а вот этот комсомол чего подскакивает?
На беду, один из патрульных, оказывается, знал турецкий язык и, услышав слова Чунки, очень нехорошо посмотрел на него. Он стал переговариваться со своими товарищами, все так же нехорошо посматривая на Чунку. Было ясно, что он переводит на русский язык его слова.
Чунке стало неприятно. Он почувствовал, что невольно забрел в область того городского безумия, над которым легко смеяться в Чегеме, а здесь это может плохо кончиться. Неприятное чувство усилилось, когда после переговоров со своими товарищами этот парень одного из них куда-то услал. За милицией – кольнула догадка.
Теперь двое продолжали проверку справок, и Чунке очень не понравилось, что, когда очередь дошла до него, они пропустили его и сразу же приступили к следующему. Вернее, приступил один из них, а тот, что понял его слова, остался стоять возле него, положив на прилавок аккуратненькую ладошку с чернильными пятнами на указательном пальце. При этом он не смотрел на Чунку, а смотрел в ту сторону, куда ушел один из его товарищей за милицией.
– А чего у меня не спрашиваете? – дерзко бросил Чунка, понимая, что этот теперь от него не отступится.
– У тебя в другом месте спросят, – сказал патрульный, почти не разжимая губ и продолжая смотреть туда, куда он смотрел.
– Ну и что будет? – презрительно спросил Чунка, стараясь перешибить собственную унизительную тревогу.
– Увидишь, – кратко ответил тот, словно уже решив его судьбу и не удостаивая взгляда того, чью судьбу он решил.
– Вот что будет, змея! – сказал Чунка, взорвавшись и сжав правую руку в кулак и перехватив ее у локтевого сгиба левой рукой, выразительно потряс ею у самого лица этого парня. Тот, не шелохнувшись, продолжал смотреть вперед.
Но Чунка уже знал – что-то будет. Минут через пятнадцать пришел пожилой милиционер с патрульным комсомольцем, и тот, что стерег Чунку, отошел с милиционером на несколько шагов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!