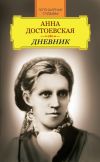Читать книгу "Игрок (сборник)"
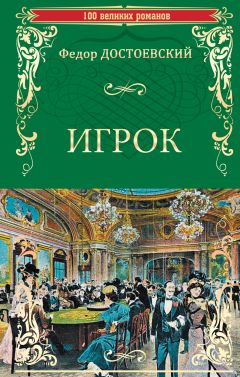
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Теперь это страшное воспоминание…
Я проснулся утром, я думаю, в восьмом часу, и в комнате было уже почти совсем светло. Я проснулся разом с полным сознанием и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала подвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим.
Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал всё; хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение, – и я вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли. Она смотрела на меня, прямо мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Я с силой закрыл глаза опять, и в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, что бы ни ожидало меня.
В самом деле, бывает, что и глубоко спящий человек вдруг открывает глаза, даже приподымает на секунду голову и оглядывает комнату, затем, через мгновение, без сознания кладет опять голову на подушку и засыпает, ничего не помня.
Когда я, встретившись с ее взглядом и ощутив револьвер у виска, вдруг закрыл опять глаза и не шевельнулся, как глубоко спящий, – она решительно могла предположить, что я в самом деле сплю и что ничего не видал, тем более что совсем невероятно, увидав то, что я увидел, закрыть в такое мгновение опять глаза.
Да, невероятно. Но она все-таки могла угадать и правду, – это-то и блеснуло в уме моем вдруг, все в то же мгновение. О, какой вихрь мыслей, ощущений пронесся менее чем в мгновение в уме моем, и да здравствует электричество человеческой мысли! В таком случае (почувствовалось мне), если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил ее моею готовностью принять смерть, и у ней теперь может дрогнуть рука. Прежняя решимость может разбиться о новое чрезвычайное впечатление. Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами книзу, в бездну. Я думаю, много самоубийств и убийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна, тут покатость в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и вас что-то вызывает непобедимо спустить курок. Но сознание, что я все видел, все знаю и жду от нее смерти молча, – могло удержать ее на покатости.
Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный поединок на жизнь и смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю.
Может быть, этого и не было, может быть, я этого и не мыслил тогда, но это все же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни.
Но вы зададите опять вопрос: зачем же ее не спас от злодейства? О, я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос – каждый раз, когда, с холодом в спине, припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии: я погибал, я сам погибал, так кого ж бы я мог спасти? И почем вы знаете, хотел ли бы еще я тогда кого спасти? Почем знать, что я тогда мог чувствовать?
Сознание, однакож, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она все стояла надо мной, – и вдруг я вздрогнул от надежды! Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели: я победил, – и она была навеки побеждена!
Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг – и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. «Стало быть, все еще сомневается и спрашивает себя: знает он иль не знает, видел он иль не видел?» Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла, через эту кровать, что я «все видел и все знаю» и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер, как всегда, на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель: брак был расторгнут, «побеждена, но не прощена». Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель.
Глава вторая
I. Сон гордостиЛукерья сейчас объявила, что жить у меня не станет и, как похоронят барыню, – сойдет. Молился на коленях пять минут, а хотел молиться час, но все думаю, думаю, и всё больные мысли, и больная голова, – чего ж тут молиться – один грех! Странно тоже, что мне спать не хочется: в большом, в слишком большом горе, после первых сильнейших взрывов, всегда спать хочется. Приговоренные к смертной казни чрезвычайно, говорят, крепко спят в последнюю ночь. Да так и надо, это по Природе, а то силы бы не вынесли… Я лег на диван, но не заснул…
…Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и ночь – я, Лукерья и ученая сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, и мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А впрочем, что ж я описываю. Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в это время… Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали потом говорить, но – все обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны: «Она слишком потрясена и слишком побеждена, – думал я, – и, уж конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть». Таким образом мы и молчали, но я каждую минуту приготовлялся про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать: об чем именно она теперь про себя думает?
Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стеная над ней в ее болезни. Но я стенал про себя, и стоны давил в груди даже от Лукерьи. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтоб она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил отложить наше будущее как можно на долгое время, а оставить пока всё в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать: я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как никогда не бывал, и это всю зиму.
Видите: в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до тех пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно – потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах: была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер, хотя часто и бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами, в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. О, меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерья не может любить. Случай же в полку был хоть и следствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно. Случай был следующий.
В антракте, в театре, я вышел в буфет. Гусар А – в, вдруг войдя, громко при всех бывших тут офицерах и публике, заговорил с двумя своими же гусарами об том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу «и, кажется, пьяный». Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был, и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось, но назавтра анекдот проник в наш полк и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один, и когда гусар А – в дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А – ву и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего ж ввязываться? Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка, а так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А – в. Я этого не захотел и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем тотчас же подал в отставку, – вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял: после блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. Итак – стыд так стыд, позор так позор, падение так падение и чем хуже, тем лучше, – вот что я выбрал. Тут три года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. Полтора года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно, в числе прочих, оставила мне по завещанию три тысячи. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу ссуд, не прося у людей прощения: деньги, затем угол и – новая жизнь вдали от прежних воспоминаний, – вот план. Тем не менее мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет – не знаю. Но, вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга, мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубежденной? Например, как мог бы я, без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером, уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела кстати. Выдержав револьвер, я отмстил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала она, а это было всё для меня, потому что она сама была всё для меня, вся надежда моего будущего в мечтах моих! Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было, – и вот она всё узнала; она узнала по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть подлецом, а разве лишь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась: странность не порок, напротив, иногда завлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку: того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало слишком много картин и матерьяла для мечтаний моих. В том-то и скверность, что я мечтатель: с меня хватило матерьяла, а об ней я думал, что подождет.
Так прошла вся зима, в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафе тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали моцион; но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, а ей, думал я, необходимо «дать время». Конечно странно, что мне ни разу, почти до конца зимы, не пришло в голову, что я вот исподтишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе! Я думал, что в ней это робость. К тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди и – «и она вдруг сама подойдет к тебе…».
Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно, иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действительно доводил свой ум и дух до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по нескольку времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее, с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась…
Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. И жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал; но женщина сама пришла благодарить, и чуть не на коленях. Таким образом огласилось; мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием.
Но подвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела предо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз, и я вдруг прозрел и все понял! Случай ли это был, день ли пришел такой срочный, солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут, а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером, часов в пять после обеда.
II. Пелена вдруг упалаДва слова прежде того. Еще за месяц я заметил в ней странную задумчивость, не то что молчание, а уже задумчивость. Это тоже я заметил вдруг. Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели, – меня все это, в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фрапировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить ко мне Шредера, ей ничего не сказавши.
Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена и смотрела то на Шредера, то на меня.
– Да я здорова, – сказала она, неопределенно усмехнувшись.
Шредер ее не очень осматривал (эти медики бывают иногда свысока небрежны), а только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни и что с весной не дурно куда-нибудь съездить к морю, или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шредер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня:
– Я совсем, совсем здорова.
Но сказавши, тут же вдруг покраснела, видимо от стыда. Видимо, это был стыд. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я еще муж ее, забочусь об ней, всё еще будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смирению (пелена!).
И вот, месяц после того, в пятом часу, в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она, в нашей комнате, за своим столом, за работой, тихо-тихо… запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти никогда не слыхал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая – о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела вполголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался, – такой бедненький голосок, так он оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запела…
Моим волненьям засмеются, но никогда никто не поймет, почему я взволновался! Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное: «Поет, и при мне! Забыла она про меня, что ли?»
Весь потрясенный, я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто.
– Она поет? – сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать; впрочем, я был действительно непонятен.
– Это она в первый раз поет?
– Нет; без вас иногда поет, – ответила Лукерья.
Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу я пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему двугривенный.
– Это за то, что тебя потревожил, – сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг.
Я поворотил домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедненькая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, – вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх.
О ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе, всю зиму, кроме этого же восторга, но я сам-то где был всю зиму? был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как бы волновался и я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату, она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взгляд это был, а так только жест, обычный и равнодушный, когда в комнату входит кто-нибудь.
Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть, как помешанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись: я взял ее за руку и не помню, что сказал ей, то есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слушался. Да я и не знал, что сказать, а только задыхался.
– Поговорим… знаешь… скажи что-нибудь! – вдруг пролепетал я что-то глупое – о, до ума ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо, но вдруг – строгое удивление выразилось в глазах ее. Да, удивление, и строгое. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и размозжили меня: «Так тебе еще любви? любви?» – как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. Но я всё прочел, всё. Всё во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайною силою удержал ее за обе руки.
И я понимал вполне мое отчаяние, о, понимал! Но верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния! Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменились в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже, она хотела что-то поскорее понять, и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда (знаете это, когда смеются от стыда). Наступала истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, – я об этом не думал и все бормотал ей, что я ее люблю, что не встану, «дай мне целовать твое платье – так всю жизнь на тебя молиться…» Не знаю, не помню, – и вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее.
Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она с страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться: «Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!» – и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море, теперь, сейчас, через две недели, что у ней такой надтреснутый голосок, я слышал давеча; что я закрою кассу, продам Добронравову; что начнется все новое, а главное, в Булонь, в Булонь! Она слушала и всё боялась. Всё больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне всё более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и – «больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, – повторял я поминутно, – не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку…» Она плакала.
– А я думала, что вы меня оставите так, – вдруг вырвалось у ней невольно, так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала, а между тем – о, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер, и как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу! Всё оно объяснило мне, всё, но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер, и понимал это, но беспрерывно думал, что всё сейчас переделаю! Наконец, к ночи, она совсем обессилела, я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас, крепко. Я ждал бреда, бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо на этой бедной коечке, железной кроватке, которую я ей купил тогда за три рубля. Я становился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей (без ее-то воли!). Я становился молиться Богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась ко мне и всё выходила из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась и что завтра начнется «совсем другое».
И я в это слепо, безумно, ужасно верил. О, восторг, восторг заливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго, долго не возвращался, – о, до сегодня, до самого сегодня!! Да и как, как он мог тогда возвратиться: ведь она тогда была еще жива, ведь она была тут же передо мной, а я перед ней: «Она завтра проснется, и я ей всё это скажу, и она всё увидит». Вот мое тогдашнее рассуждение, просто и ясно, потому и восторг! Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то все думал, что Булонь – это всё, что в Булони что-то заключается окончательное. «В Булонь, в Булонь!..» Я с безумием ждал утра.