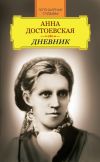Читать книгу "Игрок (сборник)"
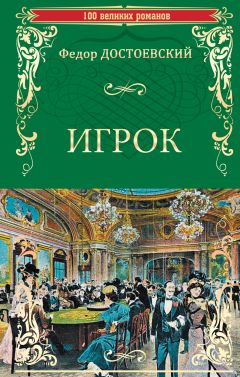
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава VII
Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах, я баран-голова! – ругнул он себя мысленно, – ну, куда ж я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? а он подозрителен…» Но уже поздно было раскаиваться; господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. «Уж не околдовал ли их кто всех сегодня, – думал герой наш, – бес какой-нибудь обежал! Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня. Черт возьми, экая мука какая!» Вот все-то таким образом думая и раздумывая, господин Голядкин ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволит сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, – и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция… Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; от неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краюшке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это все, как и следовало, ему самому. Гость же, со своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, – неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость и барин его.
– Обеда две порции прикажете брать? – проговорил он небрежно и сиповатым голосом.
– Я, я не знаю… вы – да, возьми, брат, две порции.
Петрушка ушел. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил теорию. «Бедный человек, – думал он, – да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше…»
– Извините меня, что я, – начал господин Голядкин, – впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?
– Я… Я… Яков Петровичем, – почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем.
– Яков Петрович! – повторил наш герой, не в силах будучи скрыть своего смущения.
– Да-с, точно так-с… Тезка вам-с, – отвечал смиренный гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек.
– Вы… позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь…
– Зная ваше великодушие и добродетели ваши, – быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, – осмелился я обратиться к вам и просить вашего…. знакомства и покровительства… – заключил его гость, очевидно затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унизительные, чтоб не скомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку.
– Вы смущаете меня, – отвечал господин Голядкин, оглядывая себя, свои стены и гостя, – чем же я мог бы… я то есть хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь?
– Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, – осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я… я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь еще внове. Узнав, что вы, при обыкновенных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой…
Господин Голядкин поморщился.
– Однофамилец мой и родом из одних со мной мест, решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение.
– Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, – отвечал смущенным голосом господин Голядкин, – вот, после обеда, мы потолкуем…
Гость поклонился; обед принесли. Петрушка собрал на стол – и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба они торопились – хозяин потому, что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной, – совестился же отчасти оттого, что хотелось гостя хорошо покормить, а частию оттого, что хотелось показать, что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, совершенно доволен и по гроб будет чувствовать. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю, – оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения.
Рассказ господина Голядкина-младщего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повытчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке его, Пелагее Семеновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился и пешком пришел в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Голядкина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатым платком, весьма походившим на клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что вот, включил он, даже на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время.
Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. Все было так натурально! И было отчего сокрушаться, бить такую тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, – да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя донельзя благонадежно, так и смотрел угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он все разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на все совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, так что господин Голядкин решил, наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился наконец в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин, под веселую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова; о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтоб посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали; о службе, об Олсуфье Ивановиче и об Андрее Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идет к совершенству и что тут
Словесные науки днесь цветут;
об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе и т. д. и т. д. Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой; в-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький, впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кой-чего из того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» – заключил наконец наш герой и решился твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнию. Принесен был Петрушкою ром, и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только одною его радостью и смотрел на него, как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему все написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие:
Если ты меня забудешь,
Не забуду я тебя;
В жизни может все случиться,
Не забудь и ты меня!
Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, расчувствовавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, – говорил наш герой своему гостю, – мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им… в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; ведь ты как раз все расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил господина Голядкина и тоже наконец прослезился. «Ты, знаешь ли, Яша, – продолжал господин Голядкин дрожащим, расслабленным голосом, – ты, Яша, поселись у меня на время или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, брат, грешно; это природа! А мать-природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем». Пунш, наконец, дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое – что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он заснет, где придется, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастий и горя, на все посмотрел, всего перетерпел, и – кто знает будущность? – может быть, еще перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как Бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя Божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке в смеси. Гость и хозяин много смеялись над простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом… Гость стал наконец раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, частию по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нег, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частию для того, чтоб увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка все еще смущал господина Голядкина.
– Ты, Петр, ложись теперь спать, – кротко сказал господин Голядкин, входя в отделение своего служителя, – ты теперь ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?
Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения.
– Ты, Петр, меня слышал? – продолжал господин Голядкин. – Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов; понимаешь?
– Да уж помню, уж что тут! – проворчал себе под нос Петрушка.
– Ну, то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны… Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь…
Господин Голядкин начал было, да остановился. «Не слишком ли будет, – подумал он, – не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то я пересыплю». Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, – подумал господин Голядкин. – Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. «А ведь признайся, Яша, – начал он шепотом и курныкая головой, – ведь ты, подлец, предо мной виноват? ведь ты, тезка, знаешь, того…» – продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, – фамилья твоя такова!! Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая: что мне делать с тобой!»
Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился ж я, – думал он, – ведь вот теперь шумит в голове и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! и вздору с три короба намолол да еще хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но все ж оно плохо! вот оно как!» Тут господин Голядкин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. «Картина неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!»
Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться-забываться… силился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, – но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.
Глава VIII
Как обыкновенно, на другой день господин Голядкин проснулся в восемь часов; проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера, – припомнил и поморщился. «Эк я разыгрался вчера каким дураком!» – подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате! «Что ж это такое? – чуть не вскрикнул господин Голядкин, – что ж бы это было такое? Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Покамест господин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же, где же?» – проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка, сиповатым и грубым голосом, ответил, «что барина дома нет».
– Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, – проговорил господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя.
Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей, – посмотрел с какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин Голядкин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора как ушел и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен; видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово другой, употребленное им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства; но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим, – думал он про себя, – мы увидим, мы своевременно раскусим все это… Ах ты, Господи Боже мой! – простонал он в заключение уже совсем другим голосом, – и зачем я это приглашал его, на какой конец я все это делал? ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! И стишки, шельмец, написал и в любви ко мне изъяснился! Как бы этак, того… Как бы ему, шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жалованье… Или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться… дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, нет! Это меня замарает. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь там вот этак бы сделать: взять бы да и надоумить Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стравить бы их этак вместе… Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да и опять, если с этакой точки зренья смотреть – ну, да, вовсе нехорошо! Совсем нехорошо! А ну, если он не придет? и это плохо будет? проврался я ему вчера вечером!.. Эх, плохо, плохо! Эх, дело-то наше как плоховато! Ах, я голова, голова окаянная! взубрить-то ты чего следует не можешь себе, резону-то вгвоздить туда не можешь себе! Ну, как он придет и откажется? А дай-то Господи, если б пришел! Весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы дал я, если б пришел…» Так рассуждал господин Голядкин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. «Без четверти девять теперь; ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое; что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается, – этак цель, направление и разные там закавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и каков-то будет их первый шаг…» Господин Голядкин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была: это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее… и раскусим, – говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши в передней, – вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в Двойник соседскую комнату, как вдруг, в самых дверях, столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Голядкин-младший, кажется, не замечал господина Голядкина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его – «командирован по особому поручению…».
– Ах, это вы, Яков Петрович! – сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку.
– После, после, извините меня, расскажете после, – закричал господин Голядкин-младший, порываясь вперед.
– Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с…
– Что-с? Объясните скорее-с. – Тут вчерашний гость господина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина.
– Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему… приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать.
– На все есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнеситесь, как следует, к господину правителю канцелярии. Просьба есть?..
– Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня или шутите, по врожденной веселости характера вашего.
– А, это вы! – сказал господин Голядкин-младший, как будто только сейчас разглядев господина Голядкина-старшего, – так это вы? Ну, что ж, хорошо ли вы почивали? – Тут господин Голядкин-младший, улыбнувшись немного, – официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало (потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Голядкину-старшему), – итак, улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели.
– Вот те и штука!.. – прошептал наш герой, остолбенев на мгновение, – вот те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!.. – Тут господин Голядкин почувствовал, что у него отчего-то заходили мурашки по телу. – Впрочем, – продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, – впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве; я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению, – именно вот вчера говорил, что непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен человек…
– Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? – спросил Антон Антонович Сеточкин усевшегося подле него господина Голядкина. – У вас здесь она?
– Здесь, – прошептал господин Голядкин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом.
– То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует…
– Нет-с, она кончена-с…
– Ну-с, хорошо-с.
– Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачительно.
– Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с?
– Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я… то есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-с.
– Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь намекаете?
– То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, Что я не интриган и что сим, если позволено только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться…
– Да-с. Это все так-с, и, по крайнему моему разумению, отдаю полную справедливость рассуждению вашему; но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с; что за глаза я, например, готов снести, – потому что за глаза и кого ж не бранят! – но в глаза, воля ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, поседел на государственной службе и дерзостей на старости лет говорить себе не позволю-с…
– Нет-с, я, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить-с…
– Да уж и нас тоже прошу извинить-с. Учены мы по-старинному-с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатилетнюю беспорочную службу-с…
– Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно все это чувствую-с. Но я не про то-с, я про маску говорил, Антон Антонович-с…
– Про маску-с?
– То есть вы опять… я опасаюсь, что вы и тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с…
– Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем и трудно-с. Иногда и довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с.
– Нет-с, знаете ли-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, что я, например, маску надеваю, лишь когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытом смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович-с.
– Ну, да мы покамест оставим все это; да мне же и некогда-с, – сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-какие бумаги для доклада его превосходительству. Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с…
– Нет-с, я, Антон Антонович, – начал побледневший немного господин Голядкин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, – я, Антон Антонович, того-с, и не думал-с. – «Что же это такое? – продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. – Что же это за ветры такие здесь подувают и что означает этот новый крючок?» В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Голядкина. Зная в чем дело и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Голядкин вскочил с своего места и, как следует, немедленно засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам приготовляясь отправиться, вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем, в кабинет его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Голядкин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, с важным решительно-форменным видом, и прямо подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения…
– Бумаги, Яков Петрович, бумаги… его превосходительство изволили спрашивать, готовы ль у вас? – защебетал вполголоса и скороговоркой приятель господина Голядкина-старшего. – Андрей Филиппович вас ожидает…