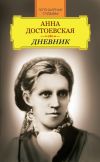Читать книгу "Игрок (сборник)"
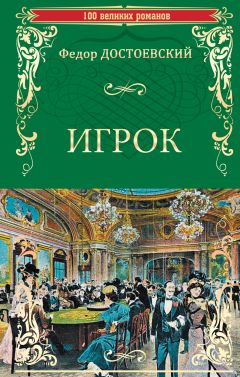
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Крестьян Иванович, я… я, кажется, ничего, Крестьян Иванович, – начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностью и смирением умилосердить ужасного Крестьяна Ивановича.
– Вы получаит казенный квартир, с дровами, с лихт и с прислугой, чего ви недостоин, – строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ Крестьяна Ивановича.
Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! он это давно уже предчувствовал!
Кроткая
Фантастический рассказ
От автора
Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз, вместо «Дневника» в обычной его форме, даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Во всяком случае прошу снисхождения читателей.
Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.
Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противоречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает «мысли в точку». Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.
Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками, и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и всё записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своем шедевре: «Последний день приговоренного к смертной казни», употребил почти такой же прием, и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения, – самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных.
Глава первая
I. Кто был я и кто была она…Вот пока она здесь – еще всё хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и – как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, а впрочем, не про то… Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу… Это вот как было. Я просто расскажу по порядку (порядок!). Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я все понимаю!
Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она, просто-запросто, приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтобы оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч., и проч. Это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других: приходит как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась (я думаю, и со всеми чужими была такая же, а я, разумеется, ей был все равно что тот, что другой, то есть если брать как не закладчика, а как человека). Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И все молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтобы больше дали; эта нет, что дадут… Мне кажется, я все путаюсь… Да, меня прежде всего поразили ее вещи: серебряные позолоченные сережечки, дрянненький медальончик – вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность, – и действительно это все, что оставалось у ней от папаши и мамаши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. «Строго, строго и строго». Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, – и я не удержался и вдруг сказал ей что-то, вроде как бы остроты. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но – как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои «остатки» и – вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз особенно и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да: помню и еще впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать. А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез. Назавтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцавейкой была, но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей (так, дрянненький) – и, осмыслив, потом удивился: я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об ней тогда была, это я помню.
В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук – вещица так себе? любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, потому что мы – только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего бунта, то я встретил ее строго. Строгость у меня – это сухость. Однако же, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: «Я ведь это только для вас, а такую вещь у вас Мозер не примет». Слово: для вас я особенно подчеркнул, и именно в некотором смысле. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это для вас, но смолчала, не бросила денег, приняла, – то-то бедность! А как вспыхнула! Я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? Хе, хе, хе! Помню, что задал именно этот вопрос два раза: «Стоит ли? стоит ли?» И смеясь разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я с умыслом, с намерением; я ее испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была третья особенная моя мысль об ней.
…Ну вот с тех пор все и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайною вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Гм. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупо, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про «Голос» и про все я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво: «дескать, гувернантка, согласна в отъезд, и условия присылать в пакетах», а потом: «согласна на все, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею», и т. д., и т. д., все известное! Разумеется, все это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и «без жалованья, из хлеба». Нет, не нашла места! Я решился ее тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний «Голос» и показываю ей объявление: «Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве».
– Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться!
Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, – я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)… Ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я все путался… Дело в том, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу в точку мысли собрать и – не могу, а вот эти черточки, черточки…
Образ Богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая – стоит – ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей, лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того.
– А разве вам запрещено?
– Нет, не то что запрещено, а так, может быть, вам самим…
– Ну, снимите.
– Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вон туда в киот, – сказал я, подумав, – с другими образами, под лампадкой (у меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела), и просто-запросто возьмите десять рублей.
– Мне не надо десяти, дайте мне пять, я непременно выкуплю.
– А десять не хотите? Образ стоит, – прибавил я, заметив, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынес ей пять рублей.
– Не презирайте никого, я сам был в этих тисках, да еще похуже-с, и если теперь вы видите меня за таким занятием… то ведь это после всего, что я вынес…
– Вы мстите обществу? Да? – перебила она меня вдруг с довольно едкой насмешкой, в которой было, впрочем, много невинного (то есть общего, потому что меня она решительно тогда от других не отличала, так что почти безобидно сказала). «Ага! – подумал я, – вот ты какая, характер объявляется, нового направления».
– Видите, – заметил я тотчас же полушутливо-полутаинственно. – «Я – я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро…»
Она быстро и с большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня:
– Постойте… Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слышала…
– Не ломайте головы, в этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту. «Фауста» читали?
– Не… невнимательно.
– То есть не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку. Пожалуйста, не предположите во мне так мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотел отрекомендоваться вам Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется. Знаем-с.
– Вы какой-то странный… Я вовсе не хотела вам сказать что-нибудь такое…
Ей хотелось сказать: я не ожидала, что вы человек образованный, но она не сказала, зато я знал, что она это подумала; ужасно я угодил ей.
– Видите, – заметил я, – на всяком поприще можно делать хорошее. Я конечно не про себя, я, кроме дурного, положим, ничего не делаю, но…
– Конечно можно делать и на всяком месте хорошее, – сказала она, быстрым и проникнутым взглядом смотря на меня. – Именно на всяком месте, – вдруг прибавила она. О, я помню, я все эти мгновения помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочет сказать что-нибудь такое умное и проникнутое, то вдруг слишком искренно и наивно покажет лицом, что «вот, дескать, я говорю тебе теперь умное и проникнутое», – и не то чтоб из тщеславия, как наш брат, а так и видишь, что она сама ужасно ценит все это, и верует, и уважает, и думает, что и вы всё это точно так же, как она, уважаете. О, искренность! Вот тем-то и побеждают. А в ней как было прелестно!
Помню, ничего не забыл! Когда она вышла, я разом порешил. В тот же день я пошел на последние поиски и узнал об ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я знал уже всю от Лукерьи, которая тогда служила у них и которую я уже несколько дней тому подкупил. Эта подноготная была так ужасна, что я и не понимаю, как еще можно было смеяться, как она давеча, и любопытствовать о словах Мефистофеля, сама будучи под таким ужасом. Но – молодежь! Именно это подумал тогда об ней с гордостью и с радостью, потому что тут ведь и великодушие: дескать, хоть и на краю гибели, а великие слова Гете сияют. Молодость всегда хоть капельку и хоть в кривую сторону, да великодушна. То есть я ведь про нее, про нее одну. И главное, я тогда смотрел уж на нее как на мою и не сомневался в моем могуществе. Знаете, пресладострастная это мысль, когда уж не сомневаешься-то.
Но что со мной. Если я так буду, то когда я соберу все в точку? Скорей, скорей – дело совсем не в том, о боже!
II. Брачное предложение«Подноготную», которую я узнал об ней, объясню в одном слове: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человек детей, мал мала меньше, другая в девках, старая, скверная. Обе скверные. Отец ее был чиновник, но из писарей, и всего лишь личный дворянин – одним словом: все мне на руку. Я являлся как бы из высшего мира: все же отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и проч., а что касса ссуд, то тетки на это только с уважением могли смотреть. У теток три года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, – успела выдержать, урвалась выдержать, из-под поденной безжалостной работы, – а это значило же что-нибудь в стремлении к высшему и благородному с ее стороны! Я ведь для чего хотел жениться? А впрочем, обо мне наплевать, это потом… И в этом ли дело! Детей теткиных учила, белье шила, а под конец не только белье, а, с ее грудью, и полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Кончили тем, что намеревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потом она мне все подробно передала. Все это наблюдал целый год соседний толстый лавочник, но не простой лавочник, а с двумя бакалейными. Он уж двух жен усахарил и искал третью, вот и наглядел ее: «тихая, дескать, росла в бедности, а я для сирот женюсь». Действительно, у него были сироты. Присватался, стал сговариваться с тетками, к тому же – пятьдесят лет ему; она в ужасе. Вот тут-то и зачастила ко мне для публикаций в «Голосе». Наконец, стала просить теток, чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели: «Сами не знаем, что жрать и без лишнего рта». Я уж это все знал, а в тот день после утрешнего и порешил. Тогда вечером приехал купец, привез из лавки фунт конфет в полтинник; она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней шепнуть, что я у ворот и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собою остался доволен. И вообще я весь тот день был ужасно доволен.
Тут же у ворот, ей, изумленной уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье, я объяснил, что сочту за счастье и за честь… Во-вторых: чтоб не удивлялась моей манере и что у ворот: «человек, дескать, прямой и изучил обстоятельства дела». И я не врал, что прямой. Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспитанием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я должен говорить pro и contra[103]103
За и против (лат.).
[Закрыть], и говорю. Я и после вспомнил про то с наслаждением, хоть это и глупо: я прямо объявил тогда, без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист (я помню это выражение, я его, дорогой идя, тогда сочинил и остался доволен) и что очень, очень может быть заключаю в себе много неприятного и в других отношениях. Все это сказано было с особенного рода гордостью – известно, как эго говорится. Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствах: «но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то». Я видел, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчил ничего, мало того, видя, что боится, нарочно усилил: прямо сказал, что сыта будет, ну а нарядов, театров, балов – этого ничего не будет, разве впоследствии, когда цели достигну. Этот строгий тон решительно увлекал меня. Я прибавил, и тоже как можно вскользь, что если я и взял такое занятие, то есть держу эту кассу, то имею одну лишь цель, есть, дескать, такое одно обстоятельство… Но ведь я имел право так говорить: я действительно имел такую цель и такое обстоятельство. Постойте, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу ссуд первый, но ведь в сущности, хоть и смешно говорить самому себе таинственными фразами, а я ведь «мстил же обществу», действительно, действительно, действительно! Так что острота ее утром насчет того, что я «мщу», была несправедлива. То есть, видите ли, скажи я ей прямо словами: «Да, я мщу обществу», и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смешно. Ну, а косвенным намеком, пустив таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. К тому же я тогда уже ничего не боялся: я ведь знал, что толстый лавочник во всяком случае ей гаже меня и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает! Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже тогда уже?
Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова; напротив, о напротив: «это я, дескать, остаюсь облагодетельствован, а не вы». Так что я это даже словами выразил, не удержался, и вышло, может быть, глупо, потому что заметил беглую складку в лице. Но в целом решительно выиграл. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и последнее свинство: я стоял, а в голове шевелилось: ты высок, строен, воспитан и – и, наконец, говоря без фанфаронства, ты недурен собой. Вот что играло в моем уме. Разумеется, она, тут же у ворот, сказала мне да. Но… но я должен прибавить: она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала да. Так задумалась, так задумалась, что я уже спросил было: «Ну что ж?» – и даже не удержался, с этаким шиком спросил: «Ну что же-с?» – с слово-ерсом.
– Подождите, я думаю.
И такое у ней было серьезное личико, такое – что уж тогда бы я мог прочесть! А я-то обижался: «Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает?» О, тогда я еще не понимал! Я ничего, ничего еще тогда не понимал! До сегодня не понимал! Помню, Лукерья выбежала за мною вслед, когда я уже уходил, остановила на дороге и сказала впопыхах: «Бог вам заплатит, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая».
Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда… ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а? О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла задумавшись, чтоб сказать мне да, а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль: «Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!» А? Как вы думаете, могла быть такая мысль?
Да и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль: что из двух несчастий выбрать худшее, то есть купца? А кто был для нее тогда хуже – я аль купец? Купец или закладчик, цитующий Гете? Это еще вопрос! Какой вопрос? И этого не понимаешь: ответ на столе лежит, а ты говоришь вопрос! Да и наплевать на меня! Не во мне совсем дело… А кстати, что для меня теперь – во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит…