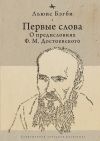Текст книги "Бесы"
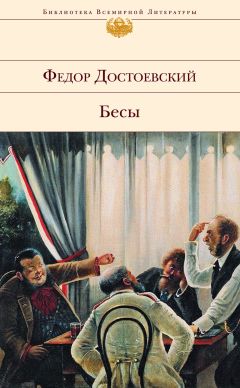
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 43 страниц)
Глава пятая
Путешественница
I
Катастрофа с Лизой и смерть Марьи Тимофеевны произвели подавляющее впечатление на Шатова. Я уже упоминал, что в то утро я его мельком встретил, он показался мне как бы не в своем уме. Между прочим, сообщил, что накануне вечером, часов в девять (значит, часа за три до пожара), был у Марьи Тимофеевны. Он ходил поутру взглянуть на трупы, но, сколько знаю, в то утро показаний не давал нигде никаких. Между тем к концу дня в душе его поднялась целая буря и… и, кажется, могу сказать утвердительно, был такой момент в сумерки, что он хотел встать, пойти и – объявить всё. Что такое было это всё – про то он сам знал. Разумеется, ничего бы не достиг, а предал бы просто себя. У него не было никаких доказательств, чтоб изобличить только что совершившееся злодеяние, да и сам он имел об нем лишь смутные догадки, только для него одного равнявшиеся полному убеждению. Но он готов был погубить себя, лишь бы только «раздавить мерзавцев», – собственные его слова. Петр Степанович отчасти верно предугадал в нем этот порыв и сам знал, что сильно рискует, откладывая исполнение своего нового ужасного замысла до завтра. С его стороны тут было, по обыкновению, много самонадеянности и презрения ко всем этим «людишкам», а к Шатову в особенности. Он презирал Шатова уже давно за его «плаксивое идиотство», как выражался он о нем еще за границей, и твердо надеялся справиться с таким нехитрым человеком, то есть не выпускать его из виду во весь этот день и пресечь ему путь при первой опасности. И однако спасло «мерзавцев» еще на малое время лишь одно совершенно неожиданное, а ими совсем не предвиденное обстоятельство…
Часу в восьмом вечера (это именно в то самое время, когда наши собрались у Эркеля, ждали Петра Степановича, негодовали и волновались) Шатов, с головною болью и в легком ознобе, лежал, протянувшись, на своей кровати, в темноте, без свечи; мучился недоумением, злился, решался, никак не мог решиться окончательно и с проклятием предчувствовал, что всё это, однако, ни к чему не поведет. Мало-помалу он забылся на миг легким сном и видел во сне что-то похожее на кошмар; ему приснилось, что он опутан на своей кровати веревками, весь связан и не может шевельнуться, а между тем раздаются по всему дому страшные удары в забор, в ворота, в его дверь, во флигеле у Кириллова, так что весь дом дрожит, и какой-то отдаленный, знакомый, но мучительный для него голос жалобно призывает его. Он вдруг очнулся и приподнялся на постели. К удивлению, удары в ворота продолжались, и хоть далеко не так сильные, как представлялось во сне, но частые и упорные, а странный и «мучительный» голос, хотя вовсе не жалобно, а, напротив, нетерпеливо и раздражительно, всё слышался внизу у ворот вперемежку с чьим-то другим, более воздержным и обыкновенным голосом. Он вскочил, отворил форточку и высунул голову.
– Кто там? – окликнул он, буквально коченея от испуга.
– Если вы Шатов, – резко и твердо ответили ему снизу, – то, пожалуйста, благоволите объявить прямо и честно, согласны ли вы впустить меня или нет?
Так и есть; он узнал этот голос!
– Marie!.. Это ты?
– Я, я, Марья Шатова, и уверяю вас, что ни одной минуты более не могу задерживать извозчика.
– Сейчас… я только свечу… – слабо прокричал Шатов. Затем бросился искать спичек. Спички, как обыкновенно в таких случаях, не отыскивались. Уронил подсвечник со свечой на пол, и только что снизу опять послышался нетерпеливый голос, бросил всё и сломя голову полетел вниз по своей крутой лестнице отворять калитку.
– Сделайте одолжение, подержите сак, пока я разделаюсь с этим болваном, – встретила его внизу госпожа Марья Шатова и сунула ему в руки довольно легонький, дешевый ручной сак из парусины, с бронзовыми гвоздиками, дрезденской работы. Сама же раздражительно накинулась на извозчика:
– Смею вас уверить, что вы берете лишнее. Если вы протаскали меня целый лишний час по здешним грязным улицам, то виноваты вы же, потому что сами, стало быть, не знали, где эта глупая улица и этот дурацкий дом. Извольте принять ваши тридцать копеек и убедиться, что ничего больше не получите.
– Эх, барынька, сама ж тыкала на Вознесенску улицу, а эта Богоявленска: Вознесенской-то проулок эвона где отселева. Только мерина запарили.
– Вознесенская, Богоявленская – все эти глупые названия вам больше моего должны быть известны, так как вы здешний обыватель, и к тому же вы несправедливы: я вам прежде всего заявила про дом Филиппова, а вы именно подтвердили, что его знаете. Во всяком случае можете искать на мне завтра в мировом суде, а теперь прошу вас оставить меня в покое.
– Вот, вот еще пять копеек! – стремительно выхватил Шатов из кармана свой пятак и подал извозчику.
– Сделайте одолжение, прошу вас, не смейте этого делать! – вскипела было madame Шатова, но извозчик тронул «мерина», а Шатов, схватив ее за руку, повлек в ворота.
– Скорей, Marie, скорей… это всё пустяки и – как ты измокла! Тише, тут подыматься, – как жаль, что нет огня, – лестница крутая, держись крепче, крепче, ну вот и моя каморка. Извини, я без огня… Сейчас!
Он поднял подсвечник, но спички еще долго не отыскивались. Госпожа Шатова стояла в ожидании посреди комнаты молча и не шевелясь.
– Слава богу, наконец-то! – радостно вскричал он, осветив каморку. Марья Шатова бегло обозрела помещение.
– Мне говорили, что вы скверно живете, но все-таки я думала не так, – брезгливо произнесла она и направилась к кровати.
– Ох, устала! – присела она с бессильным видом на жесткую постель. – Пожалуйста, поставьте сак и сядьте сами на стул. Впрочем, как хотите, вы торчите на глазах. Я у вас на время, пока приищу работу, потому что ничего здесь не знаю и денег не имею. Но если вас стесняю, сделайте одолжение, опять прошу, заявите сейчас же, как и обязаны сделать, если вы честный человек. Я все-таки могу что-нибудь завтра продать и заплатить в гостинице, а уж в гостиницу извольте меня проводить сами… Ох, только я устала!
Шатов весь так и затрясся.
– Не нужно, Marie, не нужно гостиницу! Какая гостиница? Зачем, зачем?
Он, умоляя, сложил руки.
– Ну, если можно обойтись без гостиницы, то все-таки необходимо разъяснить дело. Вспомните, Шатов, что мы прожили с вами брачно в Женеве две недели и несколько дней, вот уже три года как разошлись, без особенной, впрочем, ссоры. Но не подумайте, чтоб я воротилась что-нибудь возобновлять из прежних глупостей. Я воротилась искать работы, и если прямо в этот город, то потому, что мне всё равно. Я не приехала в чем-нибудь раскаиваться; сделайте одолжение, не подумайте еще этой глупости.
– О Marie! Это напрасно, совсем напрасно! – неясно бормотал Шатов.
– А коли так, коли вы настолько развиты, что можете и это понять, то позволю себе прибавить, что если теперь обратилась прямо к вам и пришла в вашу квартиру, то отчасти и потому, что всегда считала вас далеко не подлецом, а, может быть, гораздо лучше других… мерзавцев!..
Глаза ее засверкали. Должно быть, она много перенесла кое-чего от каких-нибудь «мерзавцев».
– И, пожалуйста, будьте уверены, я над вами вовсе не смеялась сейчас, заявляя вам, что вы добры. Я говорила прямо, без красноречия, да и терпеть не могу. Однако всё это вздор. Я всегда надеялась, что у вас хватит ума не надоедать… Ох, довольно, устала!
И она поглядела на него длинным, измученным, усталым взглядом. Шатов стоял пред ней, через комнату, в пяти шагах, и робко, но как-то обновленно, с каким-то небывалым сиянием в лице ее слушал. Этот сильный и шершавый человек, постоянно шерстью вверх, вдруг весь смягчился и просветлел. В душе его задрожало что-то необычайное, совсем неожиданное. Три года разлуки, три года расторгнутого брака не вытеснили из сердца его ничего. И, может быть, каждый день в эти три года он мечтал о ней, о дорогом существе, когда-то ему сказавшем: «люблю». Зная Шатова, наверно скажу, что никогда бы он не мог допустить в себе даже мечты, чтобы какая-нибудь женщина могла сказать ему: «люблю». Он был целомудрен и стыдлив до дикости, считал себя страшным уродом, ненавидел свое лицо и свой характер, приравнивал себя к какому-то монстру, которого можно возить и показывать лишь на ярмарках. Вследствие всего этого выше всего считал честность, а убеждениям своим предавался до фанатизма, был мрачен, горд, гневлив и несловоохотлив. Но вот это единственное существо, две недели его любившее (он всегда, всегда тому верил!), – существо, которое он всегда считал неизмеримо выше себя, несмотря на совершенно трезвое понимание ее заблуждений; существо, которому он совершенно всё, всё мог простить (о том и вопроса быть не могло, а было даже нечто обратное, так что выходило по его, что он сам пред нею во всем виноват), эта женщина, эта Марья Шатова вдруг опять в его доме, опять пред ним… этого почти невозможно было понять! Он так был поражен, в этом событии заключалось для него столько чего-то страшного и вместе с тем столько счастия, что, конечно, он не мог, а может быть, не желал, боялся опомниться. Это был сон. Но когда она поглядела на него этим измученным взглядом, вдруг он понял, что это столь любимое существо страдает, может быть, обижено. Сердце его замерло. Он с болью вгляделся в ее черты: давно уже исчез с этого усталого лица блеск первой молодости. Правда, она всё еще была хороша собой – в его глазах, как и прежде, красавица. (На самом деле это была женщина лет двадцати пяти, довольно сильного сложения, росту выше среднего (выше Шатова), с темно-русыми пышными волосами, с бледным овальным лицом, большими темными глазами, теперь сверкавшими лихорадочным блеском.) Но легкомысленная, наивная и простодушная прежняя энергия, столь ему знакомая, сменилась в ней угрюмою раздражительностию, разочарованием, как бы цинизмом, к которому она еще не привыкла и которым сама тяготилась. Но главное, она была больна, это разглядел он ясно. Несмотря на весь свой страх пред нею, он вдруг подошел и схватил ее за обе руки:
– Marie… знаешь… ты, может быть, очень устала, ради бога, не сердись… Если бы ты согласилась, например, хоть чаю, а? Чай очень подкрепляет, а? Если бы ты согласилась!..
– Чего тут согласилась, разумеется соглашусь, какой вы по-прежнему ребенок. Если можете, дайте. Как у вас тесно! Как у вас холодно!
– О, я сейчас дров, дров… дрова у меня есть! – весь заходил Шатов, – дрова… то есть, но… впрочем, и чаю сейчас, – махнул он рукой, как бы с отчаянною решимостию, и схватил фуражку.
– Куда ж вы? Стало быть, нет дома чаю?
– Будет, будет, будет, сейчас будет всё… я… – Он схватил с полки револьвер.
– Я продам сейчас этот револьвер… или заложу…
– Что за глупости и как это долго будет! Возьмите, вот мои деньги, коли у вас нет ничего, тут восемь гривен, кажется; всё. У вас точно в помешанном доме.
– Не надо, не надо твоих денег, я сейчас, в один миг, я и без револьвера…
И он бросился прямо к Кириллову. Это было, вероятно, еще часа за два до посещения Кириллова Петром Степановичем и Липутиным. Шатов и Кириллов, жившие на одном дворе, почти не видались друг с другом, а встречаясь, не кланялись и не говорили: слишком долго уж они «пролежали» вместе в Америке.
– Кириллов, у вас всегда чай; есть у вас чай и самовар?
Кириллов, ходивший по комнате (по обыкновению своему, всю ночь из угла в угол), вдруг остановился и пристально посмотрел на вбежавшего, впрочем без особого удивления.
– Чай есть, сахар есть и самовар есть. Но самовара не надо, чай горячий. Садитесь и пейте просто.
– Кириллов, мы вместе лежали в Америке… Ко мне пришла жена… Я… Давайте чаю… Надо самовар.
– Если жена, то надо самовар. Но самовар после. У меня два. А теперь берите со стола чайник. Горячий, самый горячий. Берите всё; берите сахар; весь. Хлеб… Хлеба много; весь. Есть телятина. Денег рубль.
– Давай, друг, отдам завтра! Ах, Кириллов!
– Это та жена, которая в Швейцарии? Это хорошо. И то, что вы так вбежали, тоже хорошо.
– Кириллов! – вскричал Шатов, захватывая под локоть чайник, а в обе руки сахар и хлеб, – Кириллов! Если б… если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред… о, какой бы вы были человек, Кириллов!
– Видно, что вы любите жену после Швейцарии. Это хорошо, если после Швейцарии. Когда надо чаю, приходите опять. Приходите всю ночь, я не сплю совсем. Самовар будет. Берите рубль, вот. Ступайте к жене, я останусь и буду думать о вас и о вашей жене.
Марья Шатова была видимо довольна поспешностию и почти с жадностию принялась за чай, но за самоваром бежать не понадобилось: она выпила всего полчашки и проглотила лишь крошечный кусочек хлебца. От телятины брезгливо и раздражительно отказалась.
– Ты больна, Marie, всё это так в тебе болезненно… – робко заметил Шатов, робко около нее ухаживая.
– Конечно, больна, пожалуйста, сядьте. Где вы взяли чай, если не было?
Шатов рассказал про Кириллова, слегка, вкратце. Она кое-что про него слышала.
– Знаю, что сумасшедший; пожалуйста, довольно; мало, что ли, дураков? Так вы были в Америке? Слышала, вы писали.
– Да, я… в Париж писал.
– Довольно, и пожалуйста, о чем-нибудь другом. Вы по убеждениям славянофил?
– Я… я не то что… За невозможностию быть русским стал славянофилом, – криво усмехнулся он, с натугой человека, сострившего некстати и через силу.
– А вы не русский?
– Нет, не русский.
– Ну, всё это глупости. Сядьте, прошу вас, наконец. Что вы всё туда-сюда? Вы думаете, я в бреду? Может, и буду в бреду. Вы говорите, вас только двое в доме?
– Двое… внизу…
– И всё таких умных. Что внизу? Вы сказали внизу?
– Нет, ничего.
– Что ничего? Я хочу знать.
– Я только хотел сказать, что мы тут теперь двое во дворе, а внизу прежде жили Лебядкины…
– Это та, которую сегодня ночью зарезали? – вскинулась она вдруг. – Слышала. Только что приехала, слышала. У вас был пожар?
– Да, Marie, да, и, может быть, я делаю страшную подлость в сию минуту, что прощаю подлецов… – встал он вдруг и зашагал по комнате, подняв вверх руки как бы в исступлении.
Но Marie не совсем поняла его. Она слушала ответы рассеянно; она спрашивала, а не слушала.
– Славные дела у вас делаются. Ох, как всё подло! Какие все подлецы! Да сядьте же, прошу вас, наконец, о, как вы меня раздражаете! – и в изнеможении она опустилась головой на подушку.
– Marie, я не буду… Ты, может быть, прилегла бы, Marie?
Она не ответила и в бессилии закрыла глаза. Бледное ее лицо стало точно у мертвой. Она заснула почти мгновенно. Шатов посмотрел кругом, поправил свечу, посмотрел еще раз в беспокойстве на ее лицо, крепко сжал пред собой руки и на цыпочках вышел из комнаты в сени. На верху лестницы он уперся лицом в угол и простоял так минут десять, безмолвно и недвижимо. Простоял бы и дольше, но вдруг внизу послышались тихие, осторожные шаги. Кто-то подымался вверх. Шатов вспомнил, что забыл запереть калитку.
– Кто тут? – спросил он шепотом.
Незнакомый посетитель подымался не спеша и не отвечая. Взойдя наверх, остановился; рассмотреть его было в темноте невозможно; вдруг послышался его осторожный вопрос:
– Иван Шатов?
Шатов назвал себя, но немедленно протянул руку, чтоб остановить его; но тот сам схватил его за руку и – Шатов вздрогнул, как бы прикоснувшись к какому-то страшному гаду.
– Стойте здесь, – быстро прошептал он, – не входите, я не могу вас теперь принять. Ко мне воротилась жена. Я вынесу свечу.
Когда он воротился со свечкой, стоял какой-то молоденький офицерик; имени его он не знал, но где-то видел.
– Эркель, – отрекомендовался тот. – Видели меня у Виргинского.
– Помню; вы сидели и писали. Слушайте, – вскипел вдруг Шатов, исступленно подступая к нему, но говоря по-прежнему шепотом, – вы сейчас мне сделали знак рукой, когда схватили мою руку. Но знайте, я могу наплевать на все эти знаки! Я не признаю… не хочу… Я могу вас спустить сейчас с лестницы, знаете вы это?
– Нет, я этого ничего не знаю и совсем не знаю, за что вы так рассердились, – незлобиво и почти простодушно ответил гость. – Я имею только передать вам нечто и за тем пришел, главное не желая терять времени. У вас станок, вам не принадлежащий и в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами. Мне велено потребовать от вас передать его завтра же, ровно в семь часов пополудни, Липутину. Кроме того, велено сообщить, что более от вас ничего никогда не потребуется.
– Ничего?
– Совершенно ничего. Ваша просьба исполняется, и вы навсегда устранены. Это положительно мне велено вам сообщить.
– Кто велел сообщить?
– Те, которые передали мне знак.
– Вы из-за границы?
– Это… это, я думаю, для вас безразлично.
– Э, черт! А почему вы раньше не приходили, если вам велено?
– Я следовал некоторым инструкциям и был не один.
– Понимаю, понимаю, что были не один. Э… черт! А зачем Липутин сам не пришел?
– Итак, я явлюсь за вами завтра ровно в шесть часов вечера, и пойдем туда пешком. Кроме нас троих, никого не будет.
– Верховенский будет?
– Нет, его не будет. Верховенский уезжает завтра поутру из города, в одиннадцать часов.
– Так я и думал, – бешено прошептал Шатов и стукнул себя кулаком по бедру, – бежал, каналья!
Он взволнованно задумался. Эркель пристально смотрел на на него, молчал и ждал.
– Как же вы возьмете? Ведь это нельзя зараз взять в руки и унести.
– Да и не нужно будет. Вы только укажете место, а мы только удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь знаем только, где это место, самого места не знаем. А вы разве указывали еще кому-нибудь место?
Шатов посмотрел на него.
– Вы-то, вы-то, такой мальчишка, – такой глупенький мальчишка, – вы тоже туда влезли с головой, как баран? Э, да им и надо этакого соку! Ну, ступайте! Э-эх! Тот подлец вас всех надул и бежал.
Эркель смотрел ясно и спокойно, но как будто не понимал.
– Верховенский бежал, Верховенский! – яростно проскрежетал Шатов.
– Да ведь он еще здесь, не уехал. Он только завтра уедет, – мягко и убедительно заметил Эркель. – Я его особенно приглашал присутствовать в качестве свидетеля; к нему моя вся инструкция была (соткровенничал он как молоденький неопытный мальчик). Но он, к сожалению, не согласился, под предлогом отъезда; да и в самом деле что-то спешит.
Шатов еще раз сожалительно вскинул глазами на простачка, но вдруг махнул рукой, как бы подумав: «Стоит жалеть-то».
– Хорошо, приду, – оборвал он вдруг, – а теперь убирайтесь, марш!
– Итак, я ровно в шесть часов, – вежливо поклонился Эркель и не спеша пошел с лестницы.
– Дурачок! – не утерпел крикнуть ему вслед с верху лестницы Шатов.
– Что-с? – отозвался тот уже снизу.
– Ничего, ступайте.
– Я думал, вы что-то сказали.
II
Эркель был такой «дурачок», у которого только главного толку не было в голове, царя в голове; но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости. Фанатически, младенчески преданный «общему делу», а в сущности Петру Верховенскому, он действовал по его инструкции, данной ему в то время, когда в заседании у наших условились и распределили роли на завтра. Петр Степанович, назначая ему роль посланника, успел поговорить с ним минут десять в сторонке. Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры – о, конечно не иначе как ради «общего» или «великого» дела. Но и это было всё равно, ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее, иначе как слив ее с самим лицом, по их понятию выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова, и безо всякой личной ненависти, не смигнув глазом, присутствовал бы при его убиении. Ему велено было, например, хорошенько, между прочим, высмотреть обстановку Шатова, во время исполнения своего поручения, и когда Шатов, приняв его на лестнице, сболтнул в жару, всего вероятнее не заметив того, что к нему воротилась жена, – у Эркеля тотчас же достало инстинктивной хитрости не выказать ни малейшего дальнейшего любопытства, несмотря на блеснувшую в уме догадку, что факт воротившейся жены имеет большое значение в успехе их предприятия…
Так в сущности и было: один только этот факт и спас «мерзавцев» от намерения Шатова, а вместе с тем и помог им от него «избавиться»… Во-первых, он взволновал Шатова, выбил его из колеи, отнял от него обычную прозорливость и осторожность. Какая-нибудь идея о своей собственной безопасности менее всего могла прийти теперь в его голову, занятую совсем другим. Напротив, он с увлечением поверил, что Петр Верховенский завтра бежит: это так совпадало с его подозрениями! Возвратясь в комнату, он опять уселся в угол, уперся локтями в колена и закрыл руками лицо. Горькие мысли его мучили…
И вот он снова подымал голову, вставал на цыпочки и шел на нее поглядеть: «Господи! Да у нее завтра же разовьется горячка, к утру, пожалуй уже теперь началась! Конечно, простудилась. Она не привыкла к этому ужасному климату, а тут вагон, третий класс, кругом вихрь, дождь, а у нее такой холодный бурнусик, совсем никакой одежонки… И тут-то ее оставить, бросить без помощи! Сак-то, сак-то какой крошечный, легкий, сморщенный, десять фунтов! Бедная, как она изнурена, сколько вынесла! Она горда, оттого и не жалуется. Но раздражена, раздражена! Это болезнь: и ангел в болезни станет раздражителен. Какой сухой, горячий, должно быть, лоб, как темно под глазами и… и как, однако, прекрасен этот овал лица и эти пышные волосы, как…»
И он поскорее отводил глаза, поскорей отходил, как бы пугаясь одной идеи видеть в ней что-нибудь другое, чем несчастное, измученное существо, которому надо помочь, – «какие уж тут надежды! О, как низок, как подл человек!» – и он шел опять в свой угол, садился, закрывал лицо руками и опять мечтал, опять припоминал… и опять мерещились ему надежды.
«“Ох, устала, ох, устала!” – припоминал он ее восклицания, ее слабый, надорванный голос. Господи! Бросить ее теперь, а у ней восемь гривен; протянула свой портмоне, старенький, крошечный! Приехала места искать – ну что она понимает в местах, что они понимают в России? Ведь это как блажные дети, всё у них собственные фантазии, ими же созданные; и сердится, бедная, зачем не похожа Россия на их иностранные мечтаньица! О несчастные, о невинные!.. И однако, в самом деле здесь холодно…»
Он вспомнил, что она жаловалась, что он обещался затопить печь. «Дрова тут, можно принести, не разбудить бы только. Впрочем, можно. А как решить насчет телятины? Встанет, может быть, захочет кушать… Ну, это после; Кириллов всю ночь не спит. Чем бы ее накрыть, она так крепко спит, но ей, верно, холодно, ах, холодно!»
И он еще раз подошел на нее посмотреть; платье немного завернулось, и половина правой ноги открылась до колена. Он вдруг отвернулся, почти в испуге, снял с себя теплое пальто и, оставшись в стареньком сюртучишке, накрыл, стараясь не смотреть, обнаженное место.
Зажигание дров, хождение на цыпочках, осматривание спящей, мечты в углу, потом опять осматривание спящей взяли много времени. Прошло два-три часа. И вот в это-то время у Кириллова успели побывать Верховенский и Липутин. Наконец и он задремал в углу. Раздался ее стон; она пробудилась, она звала его; он вскочил как преступник.
– Marie! Я было заснул… Ах, какой я подлец, Marie!
Она привстала, озираясь с удивлением, как бы не узнавая, где находится, и вдруг вся всполошилась в негодовании, в гневе:
– Я заняла вашу постель, я заснула вне себя от усталости; как смели вы не разбудить меня? Как осмелились подумать, что я намерена быть вам в тягость?
– Как мог я разбудить тебя, Marie?
– Могли; должны были! Для вас тут нет другой постели, а я заняла вашу. Вы не должны были ставить меня в фальшивое положение. Или вы думаете, я приехала пользоваться вашими благодеяниями? Сейчас извольте занять вашу постель, а я лягу в углу на стульях…
– Marie, столько нет стульев, да и нечего постлать.
– Ну так просто на полу. Ведь вам же самому придется спать на полу. Я хочу на полу, сейчас, сейчас!
Она встала, хотела шагнуть, но вдруг как бы сильнейшая судорожная боль разом отняла у ней все силы и всю решимость, и она с громким стоном опять упала на постель. Шатов подбежал, но Marie, спрятав лицо в подушки, захватила его руку и изо всей силы стала сжимать и ломать ее в своей руке. Так продолжалось с минуту.
– Marie, голубчик, если надо, тут есть доктор Френцель, мне знакомый, очень… Я бы сбегал к нему.
– Вздор!
– Как вздор? Скажи, Marie, что у тебя болит? А то бы можно припарки… на живот например… Это я и без доктора могу… А то горчичники.
– Что ж это? – странно спросила она, подымая голову и испуганно смотря на него.
– То есть что именно, Marie? – не понимал Шатов, – про что ты спрашиваешь? О боже, я совсем теряюсь, Marie, извини, что ничего не понимаю.
– Эх, отстаньте, не ваше дело понимать. Да и было бы очень смешно… – горько усмехнулась она. – Говорите мне про что-нибудь. Ходите по комнате и говорите. Не стойте подле меня и не глядите на меня, об этом особенно прошу вас в пятисотый раз!
Шатов стал ходить по комнате, смотря в пол и изо всех сил стараясь не взглянуть на нее.
– Тут – не рассердись, Marie, умоляю тебя, – тут есть телятина, недалеко, и чай… Ты так мало давеча скушала…
Она брезгливо и злобно замахала рукой. Шатов в отчаянии прикусил язык.
– Слушайте, я намерена здесь открыть переплетную, на разумных началах ассоциации. Так как вы здесь живете, то как вы думаете: удастся или нет?
– Эх, Marie, у нас и книг-то не читают, да и нет их совсем. Да и станет он книгу переплетать?
– Кто он?
– Здешний читатель и здешний житель вообще, Marie.
– Ну так и говорите яснее, а то: он, а кто он – неизвестно. Грамматики не знаете.
– Это в духе языка, Marie, – пробормотал Шатов.
– Ах, подите вы с вашим духом, надоели. Почему здешний житель или читатель не станет переплетать?
– Потому что читать книгу и ее переплетать – это целых два периода развития, и огромных. Сначала он помаленьку читать приучается, веками разумеется, но треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. Переплет же означает уже и уважение к книге, означает, что он не только читать полюбил, но и за дело признал. До этого периода еще вся Россия не дожила. Европа давно переплетает.
– Это хоть и по-педантски, но по крайней мере неглупо сказано и напоминает мне три года назад; вы иногда были довольно остроумны три года назад.
Она это высказала так же брезгливо, как и все прежние капризные свои фразы.
– Marie, Marie, – в умилении обратился к ней Шатов, – о Marie! Если б ты знала, сколько в эти три года прошло и проехало! Я слышал потом, что ты будто бы презирала меня за перемену убеждений. Кого ж я бросил? Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая средина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз девяносто третьего года… А главное, везде мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!
– Да, мерзавцев много, – отрывисто и болезненно проговорила она. Она лежала протянувшись, недвижимо и как бы боясь пошевелиться, откинувшись головой на подушку, несколько вбок, смотря в потолок утомленным, но горячим взглядом. Лицо ее было бледно, губы высохли и запеклись.
– Ты сознаешь, Marie, сознаешь! – воскликнул Шатов. Она хотела было сделать отрицательный знак головой, и вдруг с нею сделалась прежняя судорога. Опять она спрятала лицо в подушку и опять изо всей силы целую минуту сжимала до боли руку подбежавшего и обезумевшего от ужаса Шатова.
– Marie, Marie! Но ведь это, может быть, очень серьезно, Marie!
– Молчите… Я не хочу, не хочу, – восклицала она почти в ярости, повертываясь опять вверх лицом, – не смейте глядеть на меня, с вашим состраданием! Ходите по комнате, говорите что-нибудь, говорите…
Шатов как потерянный начал было снова что-то бормотать.
– Вы чем здесь занимаетесь? – спросила она, с брезгливым нетерпением перебивая его.
– На контору к купцу одному хожу. Я, Marie, если б особенно захотел, мог бы и здесь хорошие деньги доставать.
– Тем для вас лучше…
– Ах, не подумай чего, Marie, я так сказал…
– А еще что делаете? Что проповедуете? Ведь вы не можете не проповедовать; таков характер!
– Бога проповедую, Marie.
– В которого сами не верите. Этой идеи я никогда не могла понять.
– Оставим, Marie, это потом.
– Что такое была здесь эта Марья Тимофеевна?
– Это тоже мы потом, Marie.
– Не смейте мне делать такие замечания! Правда ли, что смерть эту можно отнести к злодейству… этих людей?
– Непременно так, – проскрежетал Шатов.
Marie вдруг подняла голову и болезненно прокричала:
– Не смейте мне больше говорить об этом, никогда не смейте, никогда не смейте!
И она опять упала на постель в припадке той же судорожной боли; это уже в третий раз, но на этот раз стоны стали громче, обратились в крики.
– О, несносный человек! О, нестерпимый человек! – металась она, уже не жалея себя, отталкивая стоявшего над нею Шатова.
– Marie, я буду что хочешь… я буду ходить, говорить…
– Да неужто вы не видите, что началось?
– Что началось, Marie?
– А почем я знаю? Я разве тут знаю что-нибудь… О, проклятая! О, будь проклято всё заране!
– Marie, если б ты сказала, что начинается… а то я… что я пойму, если так?
– Вы отвлеченный, бесполезный болтун. О, будь проклято всё на свете!
– Marie! Marie!
Он серьезно подумал, что с ней начинается помешательство.
– Да неужели вы, наконец, не видите, что я мучаюсь родами, – приподнялась она, смотря на него со страшною, болезненною, исказившею всё лицо ее злобой. – Будь он заране проклят, этот ребенок!
– Marie, – воскликнул Шатов, догадавшись наконец, в чем дело, – Marie… Но что же ты не сказала заране? – спохватился он вдруг и с энергическою решимостью схватил свою фуражку.
– А я почем знала, входя сюда? Неужто пришла бы к вам? Мне сказали, еще через десять дней! Куда же вы, куда же вы, не смейте.
– За повивальною бабкой! я продам револьвер; прежде всего теперь деньги!
– Не смейте ничего, не смейте повивальную бабку, просто бабу, старуху, у меня в портмоне восемь гривен… Родят же деревенские бабы без бабок… А околею, так тем лучше…
– И бабка будет, и старуха будет. Только как я, как я оставлю тебя одну, Marie!
Но, сообразив, что лучше теперь оставить ее одну, несмотря на всё ее исступление, чем потом оставить без помощи, он, не слушая ее стонов, ни гневливых восклицаний и надеясь на свои ноги, пустился сломя голову с лестницы.
III
Прежде всего к Кириллову. Было уже около часу пополуночи. Кириллов стоял посреди комнаты.