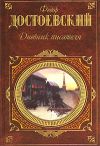Текст книги "Сила и правда России. Дневник писателя"
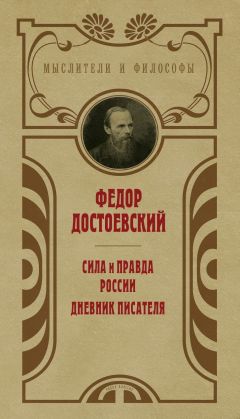
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 49 страниц)
Нечто личное
Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются с чрезвычайною отчётливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот.
Раз весной поутру я зашёл к покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Ему очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». Он с жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издателя двух журналов. Один из этих журналов приобрёл впоследствии небывалое доселе ни у одного из наших ежемесячных изданий число подписчиков, но тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование своё; но тогда, в то утро, его издатель ещё не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине.
Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. Может, помнит и он. Тогда ещё он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения. По возвращении моём из Сибири мы очень редко встречались, но раз мельком он сказал мне чрезвычайно тёплое слово и по одному поводу указал на одни стихи – лучшие, что он написал когда-либо. Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да ещё из «страдающих». А между тем он один из самых страстных, мрачных и «страдающих» наших поэтов.
– Ну, вот мы Вас обругали, – сказал он мне (то есть в его журнале за «Преступление и наказание»).
– Знаю, – сказал я.
– А знаете почему?
– По принципу, должно быть.
– За Чернышевского.
Я остолбенел от удивления.
– NN, который написал критическую статью, – продолжал издатель, – сказал мне так: «Роман его хорош, но так как он в своей повести, два года назад, не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю».
– Так это все та же глупая сплетня о «Крокодиле»? – вскричал я, сообразив. – Да неужто и Вы верите? Читали Вы эту мою повесть сами, «Крокодила»?
– Нет, не читал.
– Да ведь всё это сплетня, самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутьё Булгарина, чтобы в этой безделке, повести для смеху, прочитать между строк такую «гражданскую» аллегорию, да ещё на Чернышевского! Если бы Вы знали, как глупа такая натяжка! Никогда, впрочем, не прощу себе, что два года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что её выпустили!
Этот разговор мой с издателем уже давно угаснувшего теперь журнала происходил лет семь тому назад, и вот я до сих пор ещё не протестовал против «клеветы» – то пренебрегал, то «не было времени». Между тем эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всём этом хоть одно слово, тем более что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем тоже в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждал её.
С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моём из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвёл на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились.
Однажды утром я нашёл у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций изо всех, которые тогда появлялись; а появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Всё это было тогда ещё внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда ещё трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжёлое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностью явление, которое будет иметь свою серьёзную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, ещё далеко не дописана.
И вот мне, давно уже душой и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, – мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость: «Зачем у них это так глупо и неумело выходит?» И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их. Собственно разбрасывателей прокламаций я не знал ни единого, не знаю и до сих пор; но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно. Несмотря на то, что я уже три года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям, – эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым неожиданным откровением: никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Перед вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.
Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привёл к себе в кабинет.
– Николай Гаврилович, что это такое? – вынул я прокламацию.
Он взял её как совсем незнакомую ему вещь и прочёл. Было всего строк десять.
– Ну, что же? – спросил он с легкой улыбкой.
– Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?
Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:
– Неужели Вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?
– Именно не предполагал, – отвечал я, – и даже считаю ненужным Вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся Вашего мнения.
– Я никого из них не знаю.
– Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить Ваше порицание, и это дойдёт до них.
– Может, и не произведёт действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.
– И однако, всем и всему вредят.
Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было моё посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жёстком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и, помню, мне было это приятно. Потом я был у него ещё раз, и он у меня тоже. Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. Засим произошёл арест Чернышевского и его ссылка. Никогда ничего не мог я узнать о его деле; не знаю и до сих пор.
Года полтора спустя мне вздумалось написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя «Нос». Никогда ещё не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственно для смеху. Представилось, действительно, несколько комических положений, которые мне захотелось развить. Хоть и не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге в Пассаже какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник перед поездкой за границу отправляется со своей молодой женой и с неотлучным другом своим в Пассаж, и между прочим все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот – среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, ещё молодой, но заеденный самолюбием; прежде всего дурак, как и незабвенный майор Ковалёв, потерявший свой нос. Он комически уверен в своих великих достоинствах; полуобразован, но считает себя чуть не за гения, почитается в своём департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величаясь над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит всё потому, что втайне ему нравится его жена. В Пассаже, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показывавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг её как-то раздразнил доселе сонного и лежавшего как колода крокодила: тот вдруг разевает пасть и проглатывает его всего целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения; напротив, по свойственному ему упрямству объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нём сидеть. Друг и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека; но притом, конечно, следовало вознаградить за крокодила немца-хозяина и его неразлучную муттер. Немец сначала в негодовании и отчаянии из боязни, что его крокодил, проглотивший «ганц чиновник», может умереть; но скоро догадывается, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся притом в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор во всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и, сверх того, чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай и что подобных примеров до сих пор не бывало. «Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно». Подозревает тоже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещённых, либеральных тенденций. Супруга между тем стала находить, что положение её «вроде как бы вдовы» не лишено интереса. Проглоченный супруг её между тем объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он уже поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники – смотреть новый феномен. Тут-то он и намерен выиграть: «Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подам совет, перед министром выкажу способности», – говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего и уже вправе давать советы и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопрос друга: «А ну как если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает», – великий человек отвечает, что уже думал об этом; но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такою целью, хотя ей и нравится мысль о них: «Как же это моего мужа будут приносить ко мне в ящике?» – говорит она. К тому же и положение как бы вдовы ей всё более и более нравится. Она входит во вкус; в ней берут участие. К ней ездит начальник её мужа и играет с ней в свои козыри… Вот первая часть этого шутовского рассказа – он недокончен. Когда-нибудь непременно докончу, хоть я уже и забыл о нём и теперь должен был перечитать, чтобы припомнить.
Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» (в 1865 г.), как вдруг «Голос» в фельетоне сделал странную заметку. Не помню буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был вроде того: «Напрасно, дескать, автор „Крокодила“ вступает на такой путь; это не принесёт ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч. и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочёл мельком, ничего не понял, видел только, что много яду, но не знал за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне; из читателей всё равно никто бы его не понял, так же как и я; но вдруг неделю спустя Н. Н. С<трахов> сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что Ваш „Крокодил“ – аллегория, история ссылки Чернышевского, и что Вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». Я хоть и удивился, но не очень обеспокоился; мало ли каких не бывает догадок? Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтоб оно возымело ход, и я почёл совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилось и возымело ход. Calomniez, il en restera toujours quelque chose.
Я, впрочем, убеждён и теперь, что тут вовсе и не было клеветы, – да и за что, для чего? Я почти ни с кем в литературе не поссорился, по крайней мере очень не ссорился. Теперь, в эту минуту, я всего во второй раз, в двадцать семь лет моей литературной деятельности, говорю о себе лично. Просто тут была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засевшая в какую-нибудь голову «с направлением». Я убеждён, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убеждён даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляда её в свою пользу даже и теперь. Но ведь на то она и многодумная голова. (Я, разумеется, не об Андрее Александровиче говорю; в качестве редактора и издателя своей газеты, он тут, как и всегда, в стороне.)
В чём же аллегория? Ну конечно крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник – Чернышевского. Он попал в крокодила и всё ещё питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это всё здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению «как бы вдовы», это… Но тут уже так грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъяснение аллегории. (А между тем ведь она укрепилась, и именно, может быть, последний-то намёк и укрепился; я имею несомненные доказательства.)
Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого «несчастного»; мало того – написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства; в аллегории? Но принесите мне что хотите… «Записки сумасшедшего», оду «Бог», «Юрия Милославского», стихи Фета – что хотите, – и я берусь вам вывести тотчас же из первых десяти строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пашквиль на актёра Горбунова, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните, как в старину, в самом конце сороковых годов, например, цензора рассматривали рукописи и транспаранты: не было строчки, не было точки, в которых бы не подозревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. Пусть лучше представят хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пашквилянта и что от меня можно ожидать таких аллегорий.
Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствует, напротив, о некоторой низменности духа самих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самоё простодушие догадки не извинительно; что ж? Можно быть и простодушно низменным, и только.
Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радушном знакомстве. Скажут – этого мало и что я питал затаённую ненависть. Но пусть же выставят и предлоги к этой ненависти, если имеют что выставить. Их не было. С другой стороны, я убеждён, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтёт его. И дай Бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я так же тепло и горячо желаю того, как искренно сожалел и сожалею о его несчастии.
Но ненависть из-за убеждений, быть может?
Почему же? Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним во мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?». Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. И что же? В ней именно отдаётся всё должное уму и таланту Чернышевского. Собственно о романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьёзность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой.
Может быть, я, печатая ядовитую аллегорию, надеялся выиграть где-нибудь en haut lieu? Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь lieu, то есть продавал своё перо. Я думаю даже, что сам автор догадки не имел такой мысли, несмотря на всё своё простодушие. Да и не укрепилась бы она ни за что в литературном мире, если бы только в этом состояло обвинение.
Что же касается до возможности обвинения в пашквильной аллегории насчёт иных каких-нибудь домашних обстоятельств Николая Гавриловича, то опять-таки повторю, что не хочу даже и прикасаться с этой точки к моему «оправданию», чтобы не вымараться…
Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит писать литературные воспоминания; никогда не напишу их. Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я пишу дневник, дневник отчасти личных моих впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, косвенно вдруг напомнившее мне и этот забытый анекдот о забытом моём «Крокодиле».
На днях один из самых уважаемых мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне:
– Я только что прочёл статью Вашу о «Среде» и о приговорах наших присяжных («Гражданин», № 2). Я с Вами совершенно согласен, но статья Ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, что Вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство административной опеки…
Я был горестно изумлён. Это был голос человека в высшей степени беспристрастного и стоящего вне всяких литературных партий и «аллегорий».
– Неужели так можно истолковать мою статью! После этого ни о чём нельзя говорить. Экономическое и нравственное состояние народа по освобождении от крепостного ига – ужасно. Несомненные и в высшей степени тревожные факты о том свидетельствуют поминутно. Падение нравственности, дешёвка, жиды-кабатчики, воровство и дневной разбой – всё это несомненные факты, и всё растёт, растёт. Ну что ж? Если кто-нибудь, тревожась духом и сердцем, возьмёт перо и напишет, – что же неужели закричат, что он крепостник и стоит за обратное закрепощение крестьян?
– Во всяком случае, надо желать, чтобы народ имел полную свободу сам выйти из грустного своего положения, безо всякой опеки и поворотов назад.
– Да непременно же так, и это именно моя мысль! И если бы даже от упадка народного (сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорят теперь по местам: «Ослабели, ослабели!»), – если бы даже, говорю я, произошло какое-нибудь уже настоящее, несомненное несчастие народное, какое-нибудь огромное падение, большая беда – то и тут народ спасёт себя сам, себя и нас, как уже неоднократно бывало с ним, о чём свидетельствует вся его история. Вот моя мысль. Именно – довольно вмешательств!.. Но как, однако же, могут быть поняты и перетолкованы слова. Пожалуй, и ещё натолкнёшься на аллегорию!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.